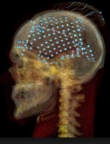Текст книги "Жизнь как женщина (донос)"
Автор книги: Феликс Коэн
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Она снова рядом, и этот волшебный покой и безмятежность снова вернулись ко мне. К тому же она была уже другая – мягкая, лучшая, деликатная и ласковая, неожиданно уступчивая. И в близости она стала совсем иной – исчезли эти убогие заученные приемы, появилась некая застенчивая скованность, нежность, какое-то внутреннее самоограничение. Губы стали добрыми, не получающими, а отдающими, как и ее внимательные движения. Был в нашей близости какой-то незнакомый посторонний привкус, и тело мое тогда говорило – «доверять нельзя».
Время от времени в меня вливалось и наполняло до краев потрясающее ощущение ее, до последней клеточки, и я проваливался туда, где есть настоящая она. Эти ночи стоили жизни, унижений, стыда – всего…
Она сидела на краю дивана голенькая, поджав и охватив руками ноги и положив голову на колени, нежная и хорошенькая, как маленький осьминожек, сидящий на камешке на дне Совгаванской бухты.
Я лежал на небольшой скале недалеко от берега, греясь на солнышке, и смотрел в воду.
Зеленая, прозрачная, холодная вода просматривалась глубоко до дна.
Толпа маленьких крабов, относимых прибоем, снова поспешно стремилась к скале, заросшей снизу водорослями. Они забирались выше воды, чтобы затем, пятясь боком, свалиться обратно в море.
Длинные зеленые и багровые водоросли поднимались ото дна к поверхности.
Вдруг стремглав вылетала какая-то рыбка и, дрогнув хвостом, исчезала…
Прошла еще пара недель, и все покатило, поехало по накатанной колее ее психологических циклов. В гармонию наших с трудом восстановленных взаимоотношений стали врываться уже знакомые диссонансные, резкие, дисгармоничные звуки – иностранный, подруги, родители и т. д. и т. п.
Отказывает по телефону невежливо и безразлично-утомленно, мол, «достаешь» ты меня.
«Непонятно, опять кто-то новый появился или кто-то старый?» Как мне это надоело.
Позвони, скажи: «Извини, дорогой, все кончено, расстаемся». Красиво.
И разбежались. Я наступлю на себя. Тогда я смогу.
Да, что я – бык на привязи?
Гусыня. Домашняя откормленная гусыня с зобом, набитым баклажанами. Перчики, огурчики, помидорчики, травка… Аккуратное жевание… («Сделать тебе кофе?») Мое колено между ее бедер… Чувство ирреальной зависимости. Сумеречное ощущение биологических глубин… Истерия пола, откуда? Может, там, далеко в черных дырах генетической вселенной, в ее гусиное стадо залетал лебедь? Отмеченные дефектом Y-хромосомы?.. И этот же лебедь около моих предков? Невероятно! Между ними залегали такие расстояния… Он что, многоцелевой истребитель с неограниченной дальностью полета? Тогда таких не было, уровень развития техники не позволял. Откуда же эти генетические несуразности? Откуда все-таки этот биологический раритет?
– Но она тебе все-таки что-то дала? – это Ира, моя подружка.
– Да ничего она мне не дала, кроме своих заплеванных половых органов. А всю ее остальную создал я, да и существует она только в моем воображении. Но я думал, что создал ее из своего ребра, а она из глины. Из глины и грязи своего аула. В такую душу не вдохнешь. Да и не надо – она ей будет только мешать. И среди таких же глиняных истуканов, состоящих из желудков и промежностей, ей будет хорошо!
Раздражающая, отвратительная безысходность отбрасывает меня в сумерки, и я вновь вижу свою душу.
Я вижу, что на самом деле это не преграда и не занавес, а холст, натянутый, новый, который ты бы могла заполнить красками, яркими и незабываемыми, и твои касания этого холста позволили бы тебе увидеть и ощутить прекрасную, дышащую, цветную композицию, неповторимый, значимый, живой орнамент, который ты могла бы сохранить как надежду на лучшее. Этот холст ты порвала, и жить мне не хочется.
Смутно вижу знакомые дыры на асфальте, разрытую для ремонта трамвайных путей Садовую, пирожковую «Метрополя», «Екатерининский» садик, закрытый на время ремонта зеленый магазин «Елисеева». Где я на самом деле?
Острая боль в спине согнула меня и бросила на асфальт. Двое суток в холодном поту, скрюченный, тратя все силы, чтобы сдержать крик от невыносимо острой боли, я лежал на полу, исколотый многочисленными препаратами, блокадами, снова блокадами и снова инъекциями, вызывая недоумение коллег отсутствием эффекта от столь интенсивных мероприятий. На третьи сутки боль внезапно и полностью прошла.
(Ты меня отвлекаешь от нее, Боже?)
Еще длительное время я плохо ходил… Страх боли при любом движении…
Каждый день, несмотря на боль, бег, подтягивания, триста наклонов на пресс, отжимание от земли, растяжки, теннис. Я восстановился.
«Так это – любовь, Заславский, или нет?» – спросил я.
«Конечно, любовь», – ответил Заславский.
Это все.
«Это все? А дальше? Ведь что-то должно быть дальше? – спросил я его. – Нет конца».
«Дальше?» Он очнулся.
«А что такое „дальше“ – время, пространство, длительность? Я даже не знаю, что такое время. Я не знаю ничего.
Может, время – это гигантский маятник, раскачивающийся под сводами другого Исаакиевского собора, имя которому – бесконечность…
И каждое качание – это человеческая жизнь, или эпоха, или галактика?
А может, это стремительно убегающая в неизвестность прямая; и где-то там, в конце, кто-то скажет: „Время истекло“.
А может, время – это диалектическая спираль с неизбежными повторениями? Или замкнутый круг? И ты снова будешь в этом месте с этой женщиной?
Не дай Бог!»
Так что же в конце концов было «дальше»? – Ты мне расскажешь?
Дальше – была надежда, которой теперь не осталось.
Дальше я пытался ее забыть. Не очень удачно. Тело и мозг стонали.
Находиться с ней в одном городе я больше не мог – уехал работать в «ближнее» зарубежье.
Я сижу в ливанском ресторанчике. Уже поздно. Вспомнил. Сегодня день ее рождения.
Напротив меня молодая женщина. Звать ее Милена. Милена метиска – папа русский, мама азербайджанка. У нее огромные зеленые глаза, чуть с горбинкой восточный нос, славянский рот и губы. Большие ровные и белые зубы. Она мила и интеллигентна. Она дружит с главным дирижером госсимфонического оркестра и с солистами. Ее знают в опере и в балете, и в драмтеатре. И еще у нее удивительно нежная кожа, особенно на бедрах, упругих и плотных, и впалый животик. После спектаклей, до того как здесь ложатся спать, мы долго бродим по всяким притончикам и болтаем. Ей нравится со мной.
А еще она, как и та, любит сухой мартини. На этом сходство кончается…
Вскоре я вернулся в свой город. Я не могу без него.
Глаза на Невском. Они мельком замечают меня, чтобы тут же забыть.
Но не все. В глазах посторонних ты задерживаешься на более или менее длительное время. Еще дольше ты остаешься в глазах близких тебе людей. Как надолго – зависит от тебя.
Скорее всего, там, в этих глазах, протекает вторая и настоящая наша жизнь, которая может длиться долго-долго, уже после смерти, а может закончиться мгновенно, как и здесь.
Как длительно и каков ты там, тебе не дано знать. Тебе это никто откровенно не скажет. И поэтому ты делаешь все возможное, чтобы задержаться там, в глазах, как можно дольше. А не потому, что ты хочешь попасть в рай и обрести «царствие небесное», в которые не веришь.
В этой толпе где-то, неспеша, идет «моя» Юля.
За это время она уже перебывала в постелях нескольких случайных знакомых.
Периодически дает «своему» – не в силах отказать.
И каждый раз это заканчивается курсом лечения в вендиспансере или в гинекологическом кабинете.
Мы встретились еще раз. Это была уже не она – дошедший свет погасшей звезды.
Я лежу на диване около холодного, остывшего небесного тела.
Господи! Не может быть! Значит, я был согрет, а затем расплавлен, разорван на куски пламенем давно погасшей звезды, генетической, мгновенной вспышкой свойств тысячелетних предков. И я рвался к этому миражу, наступая на самолюбие и стыд?!
Значит, все давным-давно погибло? Осталась эта унылая деваха?
Подо мной расплывающееся тело – тело женщины в возрасте.
Ноги там, в зените, увенчанные на этот раз голубоватыми носочками.
(«Неделька?» Каждый раз, меняя партнера, меняет цвет носочков? Чтобы запомнить?)
– Мне больно! – визжит.
– Тебе больно? А помнишь твое: «Немного больно – это даже приятно».
«Так получи! Могу порвать влагалище – наслаждайся!»
(Где это чувство? Где оно?)
Она уже несколько раз кончила. Скука-то какая.
Грустно и безнадежно. Такая же, как и все. Дырка. Половая щель. Из нее дует.
Была еще одна «Щель», у Астории. Туда часто забегали писатели, поэты, художники.
После редколлегий, приемочных комиссий, где их заставляли совокупляться с властью безрадостно и постыдно. (Точно так же, как мы с Юлькой сейчас.)
Грустные глаза, безысходность, чувство унижения:
«Водочки и бутербродик…»
Она – у стола – голая грузная тетка. Небрежно откинув назад голову, неряшливо что-то жрет («Я люблю хорошую жрачку… Хочу жрать»).
Совершенно голая, с толстыми тяжелыми ляжками и жопой, в голубых носках на толстых икрах. Мощная.
Предмет вожделения на лесоповале.
Промежность воняла рыбой из-за хронического, плохо вылеченного, после неоднократных попыток, воспаления потерявшего чувствительность влагалища.
(Она мне безразлична.)
Снова потекло бездушное, безликое и холодное бытие. По-прежнему были женщины, и я отогревался на мгновение в теплом, благодарном трепетании тел.
Однажды в Петербурге я встретил одну весьма молодую и прелестную особу. Очень высокая. Характерные, как у Модильяни, черты лица. Чистые. «Ты из-за этого с ней встречаешься?» – спросила меня как-то Люба, скульптор.
«Нет, я с ней встречаюсь потому, что она потрясающая, но пока этого не знает. Но я расскажу».
Каждый день звонит мне и говорит, как ей без меня плохо. Что она без меня не может уснуть потому, что она меня чувствует и хочет, что я ей снюсь и она уже больше не может меня ждать и что она купила новые потрясающие трусики и их без меня не наденет, и что я ей открыл целый мир. Она не представляла, что это так прекрасно, и она не знала, что такие мужчины, как я, вообще, существуют, и она меня любит, и другие милые глупости, которые так важно, так необходимо слышать мужчине.
В ее серых глазах, которые иногда становятся зелеными, порой мелькает тревога – вдруг я куда-нибудь исчезну, пропаду, и тогда она погибнет.
(Она совершенно не видит меня: «Ты такой красивый!»)
Она видит какой-то открывшийся ей и неведомый мне мой особый мир, который ее потрясает, вырываясь наружу в глазах.
Мне это знакомо. Но я бесконечно изумляюсь, что же такого она во мне нашла.
Катастрофически хорошеет.
Весь ее поразительный мир обрушивается на меня.
И потом еще долго, очень долго после мучительного стона она в беспамятстве лежит на мне, и тело ее благодарно подрагивает.
Я завороженно смотрю на нее: «Неужели ты мне наконец это дала, Судьба?»
Когда придет время, я обниму ее и умру. («Сентиментально?») А может, она просто пойдет без меня, одна, куда-нибудь. Ну, и слава Богу. Пусть идет. Она и так намучилась со мной. А я буду умирать один… («Сентиментально!»)
«Так это любовь, Заславский, или нет?»
«Конечно, любовь», – ответит Заславский, делая ручками.
«Толя! Здесь противоречие. С одной стороны, безразличное, примитивное себялюбие, злобная простонародная упертость, с другой – нежность, преданность, тревога, открывшаяся тебе бесконечная, удивительная, сверкающая вселенная».
«Где любовь, Заславский, где она?! Там? Или там?»
«В единстве противоположностей?»
В этом «единстве» рождаются монстры. Их вряд ли можно любить. Неубедительно…
«Таким образом, любви нет, Заславский, нет! Есть только добро и зло. И никаких „единств“».
Этого достаточно.
«Бог-отец, Бог-сын, Святой Дух – все мужчины, – думал я, – а вместе – святая троица – женщина». (Как? Они тоже видят мир как я?!)
Этого понять нельзя. Это чудо. Видимо, любовь – тоже чудо. Чудес не бывает, Заславский. Мы их придумываем.
Ангелы скорее всего тоже мужеского полу.
То есть, как я понимаю, женщин «там» нет. Ну, и что мне «там» делать с моими сексуальными амбициями и традиционной ориентацией? Нечего. Подожду.
В ноябре израильтяне не купаются. Купальный сезон давно закончен.
На пляжах будки спасателей и перевернутые лодки. Безлюдно.
Вода еще теплая, и мы с моим шестилетним сыном приезжаем на пляж около Акко рядом с ливанской границей и плаваем. Сын у меня плавает с четырех лет, играет в теннис, катается на лыжах в горах. Джентльменский набор.
Мы разделись, вошли в теплую воду. Ветер косо дул с берега. Не очень сильно, и опасность его мы недооценили.
Отплыв метров на пятьдесят, мы повернули и беззаботно направились назад, к берегу. Волна подхватывала нас и с шипением несла к берегу на радость сыну, но гребень проходил, и откат возвращал нас на то же место. Я встревожился.
Положив сына на свою спину так, чтобы он держался за плечи и помогал ногами, я пытался двигаться один. Безрезультатно. Столь близкий берег практически не приближался.
Я понял – и на мгновение слабость и страх обессилили меня: «Мы не выплывем!»
На берегу сидит и читает совершенно беззаботная жена, а мы здесь рядом тонем.
«Главное, не испугаться и не испугать сына. Тогда все, – подумал я, – я с ним на плечах не выплыву».
– Давай поиграем в такую игру: как только волна нас подхватит, я тебя толкну изо всех сил, и мы будем плыть наперегонки, а когда схлынет – ты держись за мое плечо и отдыхай. Согласен?
– Давай, папа!
Во время отката я греб изо всех сил, чтобы остаться на месте. Берег если и приближался, то незаметно.
В двух шагах, на берегу, у воды, стояла жена и смотрела на нас.
Я ей крикнул: «Позови кого-нибудь!» Но звук относило ветром.
Я замахал руками. Она приветственно помахала в ответ. Она не волновалась – привыкла, что я в море плаваю часами, и была уверена, что мы дурачимся. В воде, по ее мнению, со мной ничего не может случиться.
Конечно, если бы я был один.
Доплыл бы куда-нибудь, на какой-нибудь риф или отмель – вода теплая, можно барахтаться хоть до вечера.
А с ребенком?
– Ты не устал?
– Немного устал, папа.
– Ты же мужчина! Держись! Уговор дороже денег!
Берег – вот он, его почти можно коснуться, но не приближается. Да и жену звать бессмысленно. Плавает она плохо. Утонем все.
«Так вот почему здесь так часто тонут даже умеющие плавать», – подумал я.
Волна тащила нас к берегу, но ветер, не менее сильный, относил назад.
Я посмотрел на море. Там, метрах в трехстах от нас, в стороне, по ветру, торчал коралловый риф. Без ребенка я бы доплыл до него, а с ним – нет. Нужно плыть к берегу.
Только бы он не испугался.
Подталкивая его и сопротивляясь откату, я продолжал плыть. Бесконечно долго. Устал. Усталость шептала: «Смирись!» Но смириться я не мог…
Наконец ноги коснулись дна. Могли быть еще ямы, но, к счастью, их не было.
Безучастный ко всему окружающему я свалился на песок прямо у воды.
Изредка непереносимая боль в спине сворачивает меня, и я падаю. В мучениях, с отброшенным в сторону зонтиком, пытаясь ощупать свое скованное болью тело, не в силах повернуться, я валяюсь в дождь в луже под водосточной трубой, за которую пытался ухватиться, падая. Из трубы на меня льется грязная вода с крыши. Я жалок.
– Вам помочь? Вызвать «скорую»? – спрашивали люди, глядя на мое измученное болью лицо.
– Не беспокойтесь. Это скоро пройдет.
И действительно, боль внезапно и надолго исчезала.
Временами нестерпимое жаркое белое пламя расплавляет мой мозг. Горячий песчаный ветер пустыни разрывает черепную коробку изнутри.
Смерть тогда кажется желанной, как женщина.
Приходи ко мне! Обними мою голову прохладными руками, нежно. И боль пройдет.
Приходи! Я готов.
Голова взрывалась, разлетаясь на куски. Становилось легче.
Мокрый от пота и обессиленный, я лежу во влажном белье с закрытыми глазами, боясь пошевелиться.
Боль не возвращается.
Перед глазами протекает жизнь. Женщины доступные, но непостижимые. Сначала непривлекательные и болезненные ввиду забывшего их Высшего разума из-за его тысячелетнего склероза, а затем красивые сделанной мною красотой.
«А может, наше существование в той неизвестной нам жизни бесполо и преследует более существенные высокие и неизвестные нам цели?» Возможно, но абсолютно непонятно.
Тогда вся эта суета вокруг любви становится бессмысленной. Нужно просто жить, как живется. На этом этапе. Тогда почему мы страдаем? Бессмысленно. Все бессмысленно и непостижимо…
Проплывают в памяти места, где я бывал, друзья, художники, счастливый пророк Заславский и Юля. Та Юля. Из доноса. Несчастное и постыдное проникновение в другой мир.
«Ты еще видишься с этой „пещерой“, бываешь в ней?» (Это Нина.)
«Брось думать об этой дуре! Прекрати ее спасать!» (Это Ира.)
«Не могу, я ответственен. Мне известно, что будет».
Говорил и той когда-то: «Одним позволено на этом „празднике жизни“ с первым встречным, „просто так“ с любым, с кем хочет, а тебе, видимо, нельзя! Ты не как все. Не судьба». – Не понимала.
Я давно не видел ее, а недавно и случайно узнал – смерть кивнула и ей, и ее минуты застучали быстрее. Она опять заражена. И серьезно. (Нашла, наконец, что искала.)
«Я не забыл ее, не забыл…
Но забуду!
И доплыву.
И выживу, сука!»
Послесловие
Список иллюстраций

«Толя» – А. Заславский, автопортрет.

«Завен» – 3. Аршакуни, автопортрет.

«Завен» – 3. Аршакуни, автопортрет.

«Маха» – Попытки неизвестного в будущем художника.

«Маха» – В. Ватенин, автопортрет.

«Ванечка» – И. П. Васильев, автопортрет.

«Герман» – Г. Егошин, автопортрет.

«Мурик» – М. Тажибаев, автопортрет.

«Лева» – М. Тажибаев.

«Робик» – Р. Лотош, автопортрет.

«Робик» – Р. Лотош, автопортрет.

«Борщ» – А. Заславский.

«Вольф» – А. Заславский.

«Зяма» – С. Эпштейн, автопортрет.

«Арон» – А. Зинштейн, автопортрет.

«Гена» – Г. Зубков, автопортрет.

«Саша» – А. Носов, автопортрет.

«Юра» – Ю. Гобанов, автопортрет.

«Алеша» – А. Гостинцев, автопортрет.

«Петя» – П. Татарников, автопортрет.

«Снежкин» – П. Татарников, портрет С. Снежкина.

«Мишико» – П. Татарников, портрет М. Калатозишвили.

«Феликс» – Ф. Волосенков, автопортрет.

«Володя Большой» – П. Татарников, портрет В. Берновского.

«Юля» – А. Эйнштейн.
На обложке: «Портрет Феликса» – А. Задорин.
На вставке: «Перед зеркалом» – А. Задорин.