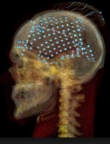Текст книги "Жизнь как женщина (донос)"
Автор книги: Феликс Коэн
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Часть II
Сука

«Что ты там стонешь? Кряхтишь на печи, дед?
– Да ебусь, будь оно неладно».
Анекдот
Донос в чистом виде – жанр литературы, где содержание безраздельно господствует над формой. Ценность содержания столь высока, что формой можно пренебречь.
И всегда есть успех. Всегда есть читательская аудитория, внимательная и придирчивая, правда, небольшая, но постоянная и профессиональная.
Это самый искренний литературный жанр, даже если написана неправда. Ибо кто более искренен в своей зависти или ненависти к ближнему, чем автор доноса?
Когда через несколько лет работы в Израиле я вернулся, это была другая страна, другой город.
Нет, трещины в асфальте и дыры на мостовой оставались теми же, что и много лет назад. Радость встречи с ними, возможность с закрытыми глазами ходить по улицам и переулкам, точно зная: вот здесь будет та самая яма в асфальте, которую лихо зальют, а через месяц она вновь возродится; тот же стук разбитых «шаровых» и «мостов», треск продырявленных глушителей, грязные в трещинах и ямах дворы с жалкими деревцами, засыпанными городской пылью, пахнущие мочой парадные, загаженные испражнениями, прикрытыми газеткой, лифты – все было как прежде. Это, конечно, не радовало, но тем не менее…
Теплота и покой были во мне, и досада от этой бесконечной грязи не могла уменьшить радости встречи.
«Многое изменилось – и это изменится», – наивно надеялся я, гладя и целуя глазами очертания особняков, набережные, каналы и речки, мосты, садики и парки; заглядывая в родные дворики моего холодного таинственного города.
Это мое. Я дома.
И теплые глаза женщин. Глаза, способные заглянуть в тебя и увидеть. Излучающие мягкий свет и тщательно скрываемую беспомощность. Жаждущие любви и готовые на жертвы во имя ее.
«Сколько же лет я вас не видел?! Милые!» Так вот что не давало мне там жить! И я вспомнил, как уже с утра, по дороге в госпиталь, я наливался злобой от вида раскрашенных, самодовольных, непонятно почему уверенных в своей неотразимости волосатых самок, в глазах которых ничего, кроме тупого самодовольства, не читалось.
Броско одетые, чтобы обратить на себя внимание, с ушами, шеей и пальцами, унизанными и обвешанными толстыми золотыми украшениями, с подведенными, на первый взгляд, большими и красивыми глазами, в которых ничего, кроме интереса к твоему члену (не выше), к жратве, шмоткам и унылым клубным, ресторанным и магазинным развлечениям, не читалось.
И половой акт для них – нечто вроде «стейка» на природе.
И на каждой написана цена – от проститутки до жены крупного бизнесмена или политика. А за что же платить? За ваши совершенно одинаковые, пресные половые щели? За вашу унылую, но лихорадочную технику и безграмотное бесстыдство, подразумевающее осведомленность в науке любви? Чтобы потом, утром, видеть лежащий рядом с тобой без косметики ужас?
А вокруг – покрытые пылью столетий холмы и камни исторической Родины. Толпы бездельников «датам» в черных шляпах или кипах – пейсатых, в черных же лапсердаках, запорошенных перхотью.
«Народ сохранил Книгу или Книга сохранила народ?» И вот, чтобы ответить на этот и другие подобные вопросы, раввины молятся, читают, едят, плодят бесконечное количество «датимчиков», а народ Израиля и диаспора их кормят.
Ну, допустим, ответят они на этот софизм, что в принципе невозможно. Что-то изменится? Эдуард Лимонов нас полюбит? Вряд ли.
Забавно, но ожидаемо было, что многие эмигранты, бывшие работники периферийных парткомов, преподаватели и профессора марксистско-ленинской философии – эти ревностные сторонники атеизма, как только спускаются с трапа самолета в Израиле, тут же надевают кипу и отправляются в синагоги.
А синагог в каждом городе не меньше, чем партячеек у нас. Совдепия в религиозном варианте.
А упертая еврейская интравертность? Это незамечание других народов в демократическом и даже многонациональном государстве Израиль?
Старый еврей с маленьким мальчиком двигается по улице горного Цфата. Говорят по-русски. На тротуаре лежит упавший с откоса большой камень…
– Нема, подними камень и отнеси в сторону – еврей споткнется и упадет! – Нема не обращает внимания.
– Нема, я тебе сказал, – подними камень. – Еврей! Споткнется и упадет. – Нема играет. Ноль внимания.
– Нема, убери камень, еврей споткнется…
Я: «А если не еврей споткнется, так, хер с ним, пусть падает?!»
На Невском солнечно. Спустившись в метро «Невский проспект», я поехал в ресторан на Крестовский остров, где собралась погулять наша «банда» с Невского. Приехал из Штатов Филон, постарел. Не знаю, ма питом? С чего вдруг раскукарекался об Израиле – как он любит эту страну, какие там замечательные люди и жизнь и что каждый должен жить в Израиле.
«Ну, и что ты там не живешь? – зло спросил я: – воровать можно везде, как и „крутиться“. Тебя, что, конгресс Соединенных Штатов не отпускает? Что это вы все так любите Израиль со стороны? Ты там жил? Ты знаешь, сколько там говна? Твоего ребенка учили ябедничать с детского сада… Если его дразнят, он должен пойти и сказать учителю. Мой не скажет – пусть лучше тот, кому он даст по морде, пойдет и скажет учителю. Твоего ребенка, лишенного национальной неприязни, учили ненавидеть арабов? И это народ, который тысячелетия страдает от национальной ненависти.
Это твой мальчик облысел, после того как пошел в школу? Это его учили подсматривать, не едят ли родители мясное с молочным?
Что тебе там нравится? Ты был под ракетами Саддама, служил в „мелуим“ на территориях, ездил по территориям ночью, стоял на автобусных остановках, ожидая взрыва? Ты хоть что-нибудь для Израиля сделал?!
Ты любишь Израиль – так приезжай и живи в нем! А не появляйся прятаться от Интерпола».
Филон побледнел и полез под пиджак.
– Выйдем, я тебя грохну!
Магомет, сидевший напротив меня, приоткрыл сонные глаза: «Профессор, куда ходить, врежь в „дзюндзик“ прямо здесь!» Витька, по кличке Пацан, шепнул: «Остынь, он в Нью-Йорке непростой».
Володя Большой сидел и молчал – ему, как всегда, «до лампы». Потом буркнул: «Обнюхайтесь – свои».
Эльдар вдруг встрепенулся:
– А здесь не Нью-Йорк, Дод, что сидишь! Дай ему в лоб!
– Да, не могу я. Я с ним вырос. Пусть бухтит…
И правильно. Сейчас бы жалел.
Через несколько лет Филона грохнули в Нью-Йорке на какой-то очередной разборке.
Где-то в мире растворился Леня Шрам. Я вспоминаю о нем тепло, хотя для других он был иным, «непростым». Все они были непростые.
Тем не менее среди моих интеллигентных друзей, пожалуй, только Снежкина и Мишико я бы оставил за своей спиной в драке.
Многое в России изменилось, но не власть. Новая власть оказалась такой же дешевкой, такой же безжалостной сукой, как и старая.
Изменились люди, даже друзья. Но не все. К счастью, не все.
«Это ничего, – думал я, – ничего».
Главное, я вернулся. Может, здесь и полюблю наконец. Мой Бог, дай мне?! Как-нибудь, я не знаю как. Дай мне знак?! Многие же могут!
Бог дал. Свершилось…
Он дрожал от холода и сырости, от ненависти к себе и стыда, двигаясь по темному продрогшему городу. Улица и прохожие сквозь моросящий дождь видны были неясно, отвлекая внимание, неотчетливо ощущаемые им, как помеха. Перекрестки с мелькающими в тумане желтыми огнями светофоров появлялись и исчезали куда-то.
Куда и зачем шел, он не знал, хотя само по себе движение имело цель – просто двигаться. Двигаться ни к чему или кому-либо, а от всех, в никуда.
На углу Знаменской и Жуковской, у супермаркета, его внимание на мгновение привлек тот самый нищий с испитым отечным лицом, грязный и обросший кустами свалявшейся щетины. Нищий лежал у супермаркета рядом со своим костылем – осоловелый, промокший, полуживой.
Он видел этого нищего осенью, когда познакомился с ней. Тогда это был опрятный молодой человек с костылем в довольно чистом костюме, с интеллигентной речью, но уже нагловатыми глазами. Нищий просил денег, протягивая руку.
«Что же привело тебя сюда? Скоро тебе конец», – подумал он тогда.
«Ему конец, – посмотрел он на нищего. – А мне?» Растерянный, непонимающий, как Иов, он, вытирая ладонью мокрое от дождя лицо, с болезненным недоумением спрашивал: «Господи, за что, за что?»
Озноб. Боль и ощущение тяжести за грудиной последнее время не проходили: «Скорее всего, невроз… Ну, не стенокардия же?.. Хотя…
Когда же все это началось? В сентябре?
Да, видимо, в сентябре».
Захватив 0,8 «Синопской», Гена Зубков, Юра Гобанов, Саша Носов, Алеша Гостинцев – все стерлиговцы и я после бани направились в галерею, что на Мойке у Синего мостика. Баня со стерлиговцами приобретает некий обрядово-христианский характер с привкусом незыблемости древних банных рецептов. Как монастырская уха со стерлядью.
Мат запрещен – Зубков страдает выраженной непереносимостью к нецензурщине. Болтовня о женщинах теряет свою яркую цветовую гамму и приобретает контрастные черно-белые графические свойства. Беседа становится биполярно унылой, ибо Алеша Гостинцев всех, кого замечал, – желал, а Юра Гобанов всех, кого замечал, имел. Вот, собственно, и весь разговор.
Спасает водка, что и неукоснительно выполняется.
Презентация закончилась, все было выпито и съедено вчистую. Но была 0,8 и готовность поднять ощущение прекрасного до необходимых высот. Тем более что два «пузыря», принятых нами, приятно разместились в наших желудках еще в бане.
Гости ушли, но еще остались две молодые особы, которые там и работали. Приятной наружности. Одна более молодая, симпатичная, с бледным, очень незначительной землистости лицом, наводящим на мысль о больных придатках. Другая – постарше, но славная.
Открыв бутылку и выпив по рюмашке, мы посмотрели на стены – холсты как холсты. Беседа снова перетекла в русло более актуальной женской темы. Мысли излагались благостно, хотя это не самое заметное в нас качество, особенно у Носова.
К середине бутылки, когда еще ничто не предвещало катаклизмов, ручей благожелательности начал иссякать. Нужно было бежать за следующей.
Но тут вошла…
«В чем дело?» – насторожился я.
Посмотрел еще раз – ничего особенного: черные волосы, миндалевидные, восточные глаза, большие, обещающие.
Грузноватое, но не толстое, с сексуальными миазмами тело, упакованное в стильную одежду, полные длинные ноги под юбочкой, вызывающие желание заглянуть повыше. Ноги чересчур ровные, иксобразные – определенно перенесла рахит.
– Тип не мой, – подумал я, – мне это нужно?
Но раздеть и завалить в кровать почему-то хотелось. Немедленно.
Это было в среду. Через два дня я уезжал к себе в хижину.
– Поедешь со мной?
– Поедем.
Дорога на остров длинная, почти триста километров, с множеством поворотов, спадов, подъемов, построенная, говорят, еще Маннергеймом с целью избежать нападения самолетов на автоколонны. Красивая, сложная, но не утомительная. Вспомнил перевал на Таштагол. Здесь, конечно, такой высоты нет. Но достаточно.
Приехали поздно и сразу пошли в баню.
Раздетая женщина почти всегда сюрприз, даже для врача. Но не настолько. Видимо, когда-то была полной и активно худела – складки и рубцы на коже живота, рук, бедер; длинные, похудевшие и потому какие-то жалкие, повисшие груди, обвисший животик – по сложению ей было лет 50.
«Да, досадно, – подумал я. – А главное – вокруг тайга и некуда бежать».
После бани, натопив камин и накрыв стол, я пригляделся к ней повнимательней – красива, но грубовата, глаза чуть навыкате (экзофтальм? хотя у некоторых народов Кавказа незначительное лупоглазие бывает в норме).
Много бровей, носа, рта, тела – восточное изобилие.
«Пэрсик, блин!» (Волосы на ногах, наверное, сбриты, но должны быть.)
«А усики?!»
Усиков нет. Пока нет. «Куда же ты их дела?»
Кавказская слабость, изнеженность и лень. Восточная вежливость.
Вскоре последует этническая грубость. Возможно.
Кожа была необычайно нежной и тонкой, вероятно, из-за атрофии, но желание гладить ее было непреодолимым, а это не мало, ой, не мало.
«Ну, и что ж, что девочка слегка обвисла?!» – заговорил во мне адвокат. Трахаться все равно придется. «Хотела быть светской и востребованной».
Диета у нее безрадостная: овощи, фрукты, травки – вот и обвисла.
Обвиснешь с репы-то!
Толстых любят на Востоке, а ей, видимо, с ними не хочется. Ей хочется с интеллигенцией.
Она скинула халатик и легла.
Лежала на спине, камин горел, я оттянул одеяло и обомлел – сосков не было. «Господи, я же их в бане видел!»
Испуг был недолгим – соски тут же нашлись: один – левый – в левой подмышке; другой – правый – справа чуть выше пупка вместе с обвисшей титькой.
Я водрузил все это на место для гармонии и сексуальных восторгов и в дальнейшем старался не выпускать из рук, контролируя ситуацию.
Прильнув губами к ее шее, я начал изображать из себя нежного и удивительного…
Что дальше? А ничего! Лежит тюлень тюленем, влагалище широкое, излишне, нежно говоря, просторное, да еще контрацептивы пенятся…
Лобок – горой, покрытой лесом, – выступает над промежностью; клитор отнесен от входа дальше, чем хотелось бы.
«Да, не просто ей будет найти партнера».
«Эх, баклажаны, кабачки», – вздохнул я и повторно забрался на нее.
«Интересно, чем она сейчас со мной занимается: любовью, сексом или мы, вообще, просто трахаемся.
Не любовью точно – как можно заниматься тем, о чем понятия не имеешь.
И не трахаемся – малообученная, служить по контракту, пожалуй, не возьмут.
Скорее всего, она занимается сексом. Старается очень. Половые учения.
Может быть, мы ебемся? Нет, нет, до такого еще не дошло.
Точно, девушка определенно занимается со мной сексом.
Движения постоянные, туда-сюда… Дышим диафрагмой и ждем оргазма.
Ну вот, и моя задышала часто, постанывает… Видно, дождалась».
Финал коитуса вышел непредсказуемым – я долго лежал, обнимая ее, неожиданно для себя изнемогая от удовольствия. Вопреки всему этому анатомическому кошмару, радуясь чувству прикосновения к ее удивительной плоти. Тень Шиллера, вдохновляющегося запахом гнилых яблок, витала надо мной.
«Да, любопытная девочка. Впрочем, случайная связь не повод для психоанализа. Через пару дней вернемся в Петербург и забуду». На всякий случай сказал: «Ты, надеюсь, догадываешься, что это несерьезно». (Легко быть искренним, когда это тебе ничего не стоит.)
Просчитался… Не забыл.
С удивлением обнаружил, что ищу с ней встречи. Звонил. Встречались. Болтали. Начитанная. Правда, в этом плане кем-то подготовлена.
Это ничего, должны же быть идолы. Кастанеда.
Культ наркотиков и полового чувства. (Хорошо читать, чтобы завалить в кровать.)
Понятно, с кем тусуется. Надеюсь, еще не колется.
Эталон времени.
Повстречаемся, пока ничего другого нет.
Пригласила к себе домой – по ней видно, что этот шаг для нее непрост. Сколько там на ее койке перележало до меня? Скорее всего, немного – не Клеопатра. Да, и не важно.
Квартирка – осуществленная обывательская мечта. После дорогого современного ремонта.
С ее образованием и начитанностью плоско: четырехзвездный отель – стерильно, чистая ванночка, совмещенная с туалетом. Очень удобно для совокуплений. Все точненько приложено, приклеено, подвешено.
Тапочки. Курить только на лестнице. Стульчики, салфеточки, приборы.
Замечательно держит вилку и нож – хоть рисуй.
Еще какой-то фикус в кадке.
Образование – лепестками, как артишок: различные языковые курсы, менеджмент, музыкальная школа. Какой-то из появившихся во множестве гуманитарных университетов. Сам знаю один, да и то в основном потому, что руководителя постоянно вижу по телевизору.
(Образование серьезное – не забалуешь.)
Откуда она к нам приехала? Нальчик? Баку? Нарьян-Мар? Ташкент? Грозный?.. Впрочем, Ломоносов тоже пешком из Холмогор пожаловал. А результат?!
Основал первый русский Университет (а сколько там зданий, этажей и факультетов? А сколько великих ученых оттуда вышло?.. А школ? Скромный был человек).
А в современных гуманитарных университетах «школы» еще нет и, Бог даст, не будет. Самого ректора часто показывают по телевизору в высоконаучной обстановке: на роликах, на водных лыжах, на горных лыжах, за игрой в лаун-теннис, в гольф, причем все это он выполняет одинаково незатейливо. Скоро, видно, займется борьбой – трудности науки. И еще телевизионные беседы с необходимыми известными неизвестными.
Мемориальной доски еще нет, но она появится, как только профессор грохнется с роликов.
А пока из его тележной академии за деньги толпой выходят деятели искусства и культуры, в том числе и «моя дорогая».
На стенах в квартире хозяйки, столь интересующейся изобразительным искусством, ничего не висит: картин, рисунков, акварелей, гравюр, пастелей и т. п., что намекало бы…
Стены искусством не испорчены. Должно быть, нарушает интерьер, в цвет обоев не вписывается или с кадкой с фикусом не сочетается…
Все это проносится в моей голове, пока я голый лежу на спине, а она, сидя рядом, держит рукой и, нежно на меня глядя и целуя, медленно к нему наклоняется. Интересно – так и начинается любовь? Видимо, «минет» в интерьер вписывается, хотя «искусство» непростое.
(Что это ты пытаешься заглотить его до самого желудка? Это что, страсть? Ради Бога, не обдирай его зубами?! Кто тебя этому учил? Вряд ли это самообразование. («Тут ты прав».) В вашей Высшей школе это тоже проходили? Ты что, пропускала занятия?)
Путь самурайки. Впрочем, будем восхищаться и восклицать, а то сломаем путь. (Господи, ну что же это она делает, он же у меня не застрахован, придется куда-нибудь обратиться для срочных лечебных мероприятий. А это недешево. Любовь сейчас дорогое удовольствие. Во всех смыслах.)
Дождь то усиливался и стучал по пузыристой поверхности Фонтанки, то затихал. По той стороне реки, шлепая по лужам, проезжали автомобили. Бронзовый «чижик-пыжик» в своей гранитной нише выглядел озябшим.
Он вынул сигарету, прикрыл ее от ветра и дождя курткой, прикурил и затянулся. «В сентябре еще не курил», – вспомнил он.
Тогда я встречался с ней часто, почти каждый день. Мир стал солнечным, прозрачным и наивным, с ней было легко и радостно, как в детстве, – в те немногие запомнившиеся часы, когда в морозный солнечный день ты бежишь на привезенных папой из Китая лыжах вокруг бухты, которая тремя большими заливами, как кленовый лист, выливалась из океана через узкий пролив. Лыжню проложили пограничники вдоль самого края высокого, скалистого, обрывистого берега, поросшего тайгой, и довольно опасно было катиться с сопки на сопку по лыжне. Снег был так искрист и так нестерпимо бел, что болели глаза.
Внизу, в бухте, у причалов, подводные лодки лежали, как огромные темные морские животные.
А справа, насколько хватало глаз, темно-зеленая тайга, качаясь на сопках, уплывала на север – в бесконечность – за Ванино до Магаданского края. Именно в тайгу убежала рысь, порвавшая несколько наших кур, и именно к ней я повернул от берега в лес.
Когда я вбежал в сарайчик, распахнув дверь, там царил переполох: утки, забившись в угол металлической клетки, которая их и спасла, растерянно крякали. Куры разметались по всему сараю. Ошалевший от ужаса петух, потеряв всю свою мужскую гордость и достоинство, сидел на сучке под самой крышей с сумасшедшим от страха глазом и горланил.
– Буду мстить, – решил я.
За плечами самодельный лук и стрелы – наконечники из пуль карабинов.
Я на охоте. Никакого страха. «Последний из могикан». Страх я почувствую в сумерки, когда буду возвращаться и когда мне будет казаться, что в темной кроне каждого дерева сидит эта молниеносная, большая, с короткими симпатичными прядками на ушах, свирепая и безжалостная кошка…
Темнеет, и скоро придет с работы мама, которая наконец выполнит обещание когда-нибудь «убить меня» за подобные дела.
(Так вот как давно у меня желание возмездия. Считай с детства?)
– Где ты? Почему тебя еще нет? – это Юля по телефону. Как замечательно!
Я видел ее прелестную, тонкую, совсем юную шею, изысканные пальцы и кисть, ни на что не похожий окружающий ее свет.
– Это неправда, – твердил я себе, – такого со мной не может быть.
– Посмотри, какая она красавица, а ты этого не видел. Какая же она на самом деле? – спрашивал себя я – второй.
– Все это любопытно, – съязвил внутренний голос (третий?). – Главное, надолго ли?
Она перестала изображать из себя секс-бомбу, но все-таки при поцелуях втискивала мне в рот свой язык до самого корня.
«Опять мастер-класс, – с досадой думал я. – Ну, и долго будет этот ликбез продолжаться? Прекрати уже! Я не в публичный дом пришел за наукой. Где ты всего этого поднахваталась? Не в кино, ли?» (Не в кино, не в кино, кретин.)
Что-то я перестал замечать ее телесные недостатки…
Мираж, обман зрения, ощущение чего-то все более притягивающего, неизвестного и не имеющего определения, мистического, поднимающегося из самых глубин ее естества. (Быть может, из моего? Не знаю.)
– Осторожно, – твердил я себе, – отойди, не надо!
– Нет, надо! Сколько уже было – не надо? Быть может, это то, чего ты ждал всю жизнь? Давай, проваливайся! Посмотри на нее глазами любви, джигит.
– А откуда мне их взять?
– Ты же чувствовал, что в ней что-то есть? Падай!
Упал и разбился в кровь.
Сигарета кончилась. Он закурил от нее другую. Поежился: «Дожди, дожди».
В октябре дожди не закончились. Нищий у супермаркета погрузнел, посинел, стал грязен. Уже не просил вежливо, а, засучив штанину, показывал всем липовую рану на голени, закрытую грязной повязкой.
(Откуда столько нищих в городе развелось? Разных мастей и возрастов дети, какие-то инвалиды всех войн, в которых участвовала Россия; старушки, разыгрывающие шекспировские драмы прямо на улице, – особенно одна: скрюченная в три погибели, предварительно рассыпав мелочь на асфальте, она стучала своей клюкой по тротуару – будто бы потеряла деньги и не может их собрать. И так это горестно, что приходилось отдавать ей свои. Уже второй год на одном и том же месте. Действует безотказно.
Сколько же нужно платить милиции, чтобы они наконец перестали «доить» нищих и убрали их с улиц.)
В октябре мы часто бывали дома вместе из-за погоды, и я часами мог наблюдать, как она, лежа на диване, читает или сидит у компьютера, или готовит свои треклятые овощи, ощущал ее удивительную, как мне тогда казалось, еще не залапанную чувственность и чудо прикосновения к ней. В моем внутреннем «я» царил сумбур.
Мы потихоньку медленно поднимались к перевалу наших внезапных отношений, а там, за перевалом, надеялся я, лежала солнечная долина, а за ней новые вершины и долгий путь по искристому снегу к новым блистающим пикам.
Но уже из ущелий задувало, и снежные полки у вершин грозили обрушиться лавинами.
Погода переменилась – потемнело, повалил снег, пронизывающий холодный ветер дохнул с вершин… (метафора).
Как-то в Русском музее она вдруг пропала. Я поискал ее глазами, изумился, но вспомнил, что у нее часто болит живот, возможно, от препаратов для похудения, поэтому обеспокоился и поехал к ней домой. Открывает.
– Что случилось? Ты нездорова?
– Нет, просто взяла и ушла, – ответила она с вызовом. Я опешил.
– То есть как это просто?! Ты не могла мне сказать, что уходишь?! Чтобы я тебя «просто» не искал. Я что тебя к себе привязываю? Хочешь уйти – уходи! Но ты же не в ауле – сообщи: «Извините, я ухожу».
«Извини». Я повернулся и ушел.
На следующее утро она сидела перед моим кабинетом. Вошла вслед за мной и с кавказскими истерическими нотами и придыханием, не извиняясь, быстро произнесла примерно следующее: «Я все поняла! Ничего не говори! Я не могу слушать!»
(Что Вы скажете, – она не может. Она извиниться не может – ну, кишлак!)
Такое впечатление, что извиниться должен я. Гордый и лично независимый аул.
Дома вышла из ванной со всем набором нелепостей ее тела.
Если каждую ее часть, кроме шеи и рук, рассматривать отдельно, они ужасны. А в целом, вместе с ее этими дикими движениями, грубой речью, резким смехом и высоким визгливым голосом, создается некая ущербная гармония, вызывающая сочувствие. Трогательно. Может, ее вздорное поведение – компенсация комплекса? Очень хочется думать, что комплексы в ней есть. Интеллигентно.
Она обнимала, гладила и нежно прикасалась ко мне.
– Что это с ней сегодня?! – недоумевал я, вновь удивляясь ее нечеловеческой чувственности: «Господи! Что это?!»
И вдруг, теряя реальность, утопая в пульсирующих волнах ее чувственности, я ощутил темные глубины ее клеточного дыхания, ведущие за пределы эволюции в бесконечные пространства зачеловеческого. Я обмер…
Началось яркое, удивительное и мучительное пребывание в подсознательном. Казалось, я спал. Но это не было сном. Да и спал ли я вообще эти полтора года?
Когда был с ней – не спал, чтобы не потерять ни одного мгновения ощущения ее; когда был без нее, она все равно заполняла мой мозг и мое тело.
В этом мире столько без сна не прожить. Но меня здесь и не было.
Гулом тысячелетий, глухим отзвуком прошлого, манящими вспышками будущего и безвременьем настоящего стала она для меня.
Дрожь плоти и оторопь бесчувствия, мрак непонимания и всполохи ясности ее «я», ее существования в этом для меня уже нереальном мире, когда все вокруг погружено в небытие и есть только – лицо, голос, изгибы тела, движения, ее богоданная чувственность, открывшаяся мне, – вот что было временем моего существования…
Когда я вынырнул из безвременья, реальность снова окружила меня, и при взгляде на женщину я понял: «Она не знает, кто она».
«Боже, что ты со мной делаешь?» – вот, собственно, и все, единственный ее возглас. Секс оставался для нее совокуплением, приводящим к оргазму, что-то в ряду удовольствий вроде туристических поездок, одежды, еды, хороших книг, косметических салонов.
– Господи, почему ты поместил такое в это скудоумное создание, в этот шедевр примитивных несуразностей, почему? – не понимаю.
В последующее время я, видимо, был нездоров. Многое ранее важное для меня потеряло смысл…
Вдруг у нее появилось новое увлечение – занятия иностранным языком. Углубленные. У нее дома, с преподавателем. Не ошибетесь, если предположите, что с мужчиной. И меня не удивит, если вы догадаетесь, о чем я подумал в аспекте, куда они «углубляются». Я был «против» по двум причинам: первое – бесцельно занятие иностранным языком – «чтобы знать», а на дому да с чаем – практически бесполезное времяпрепровождение. Язык она знать не будет.
(Ревную. – Это еще откуда? Но неприятно.)
– С точки зрения твоих соседей по площадке, мужчина, который приходит в квартиру незамужней женщины, вряд ли выглядит преподавателем иностранного языка, даже если он заговорит на нем еще на улице, – грубо заявил я.
Она озлилась:
– Да! Взяла преподавателя – высокого блондина с серыми глазами, я таких люблю.
– Блин, Пьера Ришара что ли? Литературщина какая-то, – сказал я. (Что делать – я черный, да еще плюсквамперфект, а в презент – седой, в тех местах, где не лысый. И глаза темные. Слава Богу, рост достаточный. А все равно, обидно.)
Поссорились…
Дождь на время прекратился. Он тихонько потопал по той стороне Фонтанки вдоль Летнего сада к Неве. Я пошел за ним.
«Что это меня все к Фонтанке тянет, как Раскольникова к Сенной? – удивился он. – Может, мне хотелось тогда перед ней пасть на колени? Это фрейдизм».
Тогда, в ноябре, ссора оставила осадок. Душевное раздражение и досада заставляли все время о ней думать. «Почему она так небрежно на мое самолюбие наступает? Надо плюнуть и уйти…» Но уйти я уже не мог. Вползал в неосознанную зависимость. Поэтому позвонил. Светский разговор – то-сё. Спросил, не поужинаем ли вместе? Согласилась. Ждал у моста.
Появилась.
(Вот, блин, Тегеран какой-то: темная кожаная куртка, черная юбка, сапоги черные, голова погружена в черный платок, частично завернутый на лицо, – и это все при ее восточных чертах! Все из хорошего дома и дорогое.
Жена беженца с Северного Кавказа и одновременно его вдова?
Хотелось спросить: «Уж, не на рынок ли мы собрались к родственникам? Где вы, Хачики, Исмаилы? Это пришли не ко мне, это пришли к вам».
– Запад есть Запад, Восток есть Восток. И друг друга нам не понять.)
Тут я приуныл.
Сейчас поедем к знакомым. Они не скажут, только посмотрят. Но этого достаточно. Сообщил себе удивительное: «Ну, не все же балетные, Давид. Ты, между прочим, с ней „у койке“ не Черного лебедя танцуешь». Один мой приятель на вопрос: «Почему ты встречаешься с такими неинтересными женщинами?» – ответил: «Ну, кто-то же должен».
Но я не должен. Мне, идиоту, хочется.
Вот, поссоримся, и «вернусь» в балет. Войду в члены. Тем более у меня там абонемент еще с «Березки». Начнем с начала ту же песню: «То березка, то рябина…»
Зато им Камасутру учить не надо. По сравнению с балетными эти поклонницы восточных единоборств – просто коровы.
Декабрь наступил какой-то не зимний – противный и сырой. Я встречался с ней реже, от случая к случаю, у нее вдруг появилась постоянная занятость: сегодня иностранный язык, завтра подруга придет ночевать, послезавтра еще что-то… А еще поездки к папе с мамой, тут уж ничего не поделаешь. Появился, наверно, кто-то? Вполне возможно.
В редкие встречи я с умилением наблюдал, как она с топотом шарашит из ванной с опасностью для окружающих предметов. Конечности, особенно стопы: крупные – беловаты; немного дискоординирована – ходит чуть-чуть уточкой, переваливаясь. К тому же экзофтальм и какие-то мелочи, в частности нарушение цикла. Во что это складывается? Нужно показать эндокринологу и гинекологу. Волосы излишне выпадают? – Дерматологу… А почки?.. – Я начал водить ее по врачам…
Встречи становились все более редкими и прохладными. Опять что-то с ней происходило, какая-то другая жизнь. Выяснить не удавалось. Но впечатление, что она меня избегает, было. И никаких объяснений, несмотря на намеки. А это уже хамство.
Холодный, спокойный, невинный взгляд – монахиня штопаная. А известно ли тебе, что колючую проволоку придумала именно монашка?.. Я немотивированного хамства не переношу. И не забываю. Рассчитаюсь стократно.
Блистающие ледники и теплые арыки в долине; зной Кара-Кумов, когда в клочья разрываются баллоны на дисках; ледяной, узкий серпантин у перевала на Таштагол – колеса скользят и виснут над пропастью, а там, внизу, не видно дна – только облака и парящие над ними птицы; киты в Татарском проливе, страшное течение Амура у Гнивани, Красное и Средиземное моря, где я тонул, и Мертвое море, где утонуть невозможно…
– Что-то у тебя есть, давай, колись!
Допросился. Рассказала. Лучше бы не просил, а убил суку.
– Позвонил мне «Он», человек, с которым мы расстались, – он меня бросил. (Не может быть! Как же он посмел. Вот это все бросил? Так много? Он человек щедрый.)
– Единственный, кто был до тебя. (Ну, надо же – опять второй! Где-то я подобное слышал. Серебряный призер? Как все. Пиздит, конечно, но приятно. Ладно, послушаем дальше.)