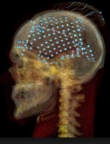Текст книги "Жизнь как женщина (донос)"
Автор книги: Феликс Коэн
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Феликс Коэн
Жизнь как женщина (донос)
Уже ручка шуршит по бумаге, уже слова складываются в предложения, предложения в абзацы, абзацы заполняют страницы, а ты все еще задаешь себе вопрос: «А зачем?»
Все или почти все, кто пишет, мне кажется, постоянно себя об этом спрашивают. По разным причинам.
И по-разному отвечают, если считают, что они знают ответ.
Например, «писать, как и писать, следует тогда, когда уже не можешь» – М. Жванецкий.
А если я еще не страдаю настойчивыми позывами к мочеиспусканию и, следовательно, в достаточной мере ощутить этого состояния не способен?
Значит ли это, что в таком случае не нужно даже пробовать писать. Неужели следует предположить, что все, кто пишет, страдают болезнями мочевых путей.
То есть писатель должен быть преимущественно преклонного возраста, который, кроме всего прочего, может поделиться с читателем своим большим опытом. Кому же нужен такой болезненный, плачевный в буквальном смысле опыт? Кроме того, среди хороших писателей встречаются иногда весьма молодые люди, которым эти болезненные состояния незнакомы. Как же пишут они?..
В мемуарной литературе часто проскальзывают намеки, что некоторые великие писатели-гуманисты в личной жизни были большими сволочами.
Может, это у них от жгучих болей, столь необходимых таланту? Ведь писать кровью в моче часто значительно болезненнее, чем кровью сердца. Кто попробовал и то и другое – тот знает.
Следует ли понимать Жванецкого так, что хороший стиль рождается в момент непреодолимого желания опорожнить мочевой пузырь?
Возможно ли, что все литературные шедевры рождают сидя на судне или с уткой в руках? Вместо пера.
Может, писать, как и писать, следует стоя (с открытым водопроводным краном для стимуляции)?
Возможно, у хорошего писателя, учитывая возраст, подобные состояния есть сублимация либидо? Не будем углубляться во Фрейда.
Поставить постоянный катетер – вот выход. Пойдут ли писатели на это?
Возможно, они и притронуться не дадут к своим больным пузырям и измученным преждевременными семяизвержениями (в момент рождения некой изумительной страницы), склерозированным воспаленным простатам в надежде создать еще одно (а то и два) нетленное произведение? Не говоря уже о худшем, в смысле диагноза.
Что-то интересное было у Э. Хемингуэя: писать нужно только о том, что знаешь; мало того, если пишущий действительно знает, о чем он пишет, он может это отметить вскользь, почти не останавливаясь на теме, а может и вообще об этом не писать – все равно читатель увидит, что писатель знает. Красивая мысль, правда?!
А мне любопытным кажется писать не о том, что я знаю или понимаю, а о том, чего я никак понять не могу.
Когда ты решился писать, что тоже процесс мучительный, сразу появляется следующий вопрос, вернее, три: «Как? Когда? И о чем?»
На них есть столько ответов – не хватит жизни прочесть.
Вопросы возникают сразу же, когда садишься писать, и чем дальше пишешь, тем больше страдаешь. Ты раздираем противоречиями, ты ненавидишь своего героя и в то же время постоянно видишь себя в нем. И знаешь, что это не ты… но иногда так похоже.
И ты вместе с ним любишь и ненавидишь эту Юльку, это источающее похоть, бесчувственное, подверженное только страстям животное, эту звездную невесту, источник стыда и восхищения, которой Бог по неизвестной причине дал глубокие, находящиеся где-то за пределами всеобщего взрыва всполохи чувственного света, которые не ощущаются ею, потому что ее предел – это ощущение полового удовлетворения.
Есть от чего прийти в отчаяние.
Любовь и ненависть, и отчаяние – вот мои причины. И если я этого не испытываю – писать мне не хочется.
Взять хотя бы ее партнера, ее половую «идею фикс». Нужно бы о нем написать, но писать о нем нечего. Он-то вообще здесь причем? Герой пытался о нем рассказать – не получается: ни плохой, ни хороший, ни умный, ни глупый, ни злой и ни добрый, даже, наверно, ни жадный. Бесталанный, бесцветный. Никакой. Зато с подлянкой. «Жил-был у бабушки серенький козлик».
Ну что поделаешь, если женщине нравятся козлики, особенно когда они велеречивы, с гнильцой и мелкой подлостью.
«В нем есть сочетание качеств, мне приятных».
Это она про человека, не про окрошку.
Я бы написал и о нем, но эта история не сборник кулинарных рецептов. Набор его качеств представлен.
Когда действительно были любовь, или ненависть, или отчаяние, то ты должен себе простить необходимые предательства друзей, близких людей, родных, любимой. Потому что, когда пишешь, не можешь не заложить в большей или меньшей степени тех, о ком пишешь. Писательство – всегда донос.
Так уж заведено.
Вот тут-то у тебя появляются враги…
И исчезают друзья…
И ты становишься одинок…
Время писать наступило – садись и пиши…
О чем?..
Чаще всего о женщинах, потому что ты ощущаешь, как сквозь каждую из них за тобой подглядывает бессмертие…
Мне известен один человек, для которого вся его реальная жизнь, все окружающие предметы и события, человеческие взаимоотношения и сны, общественные и государственные институты – все, что виделось, слышалось, мыслилось, чувствовалось и ощущалось, – представлялось женщиной… Абсолютно все.
О нем я и расскажу…
Мы познакомились в банях на Фонарном переулке. Настоящие парильщики знают эти старые с кирпичными флигелями Купеческие бани.
Из красных, толстых, полуразвалившихся стен вываливаются крошащиеся кирпичи и прорастают зеленые кустики. Дворики маленькие – там можно сидеть на скамеечке голым.
Классы неопрятные, в шкафчиках бывают тараканы. С темного, в сырых разводах потолка со ржавыми поперечными металлическими балками капает вода. По стенам из плохо отмытого кафеля в заплатках также стекает влага.
Но парная превосходная, и пар держится долго. Такого пара давно уже нет в «Сандунах».
В парной всегда чисто, опавшие листья веников выметены, полы протираются теплой, влажной тряпкой.
Моего знакомого там знали все, подзывали к телефону – звонили, как правило, женщины.
В бани он приходил всегда с бутылкой водки, парой соленых огурчиков из «бочки», щепоткой квашеной капусты или лещем.
«Баня не столовая, а закуска – враг прихода» – сообщал он, наливая всем желающим. Сам пил мало. Говорил достаточно, однако больше слушал. Его манера общения располагала к откровенности.
Банные байки про баб вызывали у него неизменное восхищение и, казалось, искреннюю зависть, стимулируя рассказчика усилить фантастичность предлагаемых событий.
Серьезность и абсолютное доверие к этому вранью вызывали подозрение, тем более когда я замечал, как сквозь доверчивую улыбку внезапно и мимолетно продирался его внимательный, профессиональный взгляд.
Сам он о женщинах не говорил, ссылаясь на плохое знание темы.
Загадочная русская душа. Еврейского разлива.
Только однажды, неожиданно, мне была поведана некая история. История была длинной, и мы несколько раз встречались и бродили по городу. Чаще всего вдоль Фонтанки. История, скорее всего, давняя, но рассказывалась так, будто произошла вчера.
Рассказывая, он подсмеивался над собой.
Возможно, у него была еще какая-то другая жизнь, в которой все было серьезно.
Но прежде всего мне хотелось бы заявить: все, что рассказано им, и в первую очередь имена собственные, фамилии, события, время и место, является абсолютным вымыслом, несмотря на кажущееся сходство.
Посудите сами, особенно те из читателей, которым покажется, что они точно знают этих действующих лиц или героев (как Вам будет угодно), разве эти герои на самом деле такие? Нет, они совершенно не такие.
Да и человек, который рассказал мне эту историю якобы о себе (знать точно я не могу, но абсолютно убежден), – стукач. А что возьмешь со стукача?
Ну, а мы с Вами?.. Нет?
Хотя бы, один разок?..
«По жизни»…
То-то и оно!
Часть I
Тела
«Дракона образ явится (тогда),
Когда придет мгновение творчества».
М. Басё
Попки, попки, попки… – проплывали, покачиваясь, мимо него, двигающегося по солнечной стороне Невского проспекта к Адмиралтейству. Они то обгоняли его, то отставали, втиснутые в джинсики или брючки с низкой талией, или в короткие, чуть ниже трусиков, и так же обтягивающие плотные юбочки. Попки казались упругими, плотными, налитыми, что на самом деле далеко не всегда соответствовало действительности.
На самом деле (он видел это каждый день), когда снимешь джинсики, картина менялась к худшему: терялись упругость и округлость, обнаруживались недостатки, исправлять которые было, собственно, частью его работы.
Эти дефекты порой вызывали у него любование и даже – желание – своей индивидуальной сексуальностью, теплотой, если хотите; отличием от общепринятых норм, навязанных эстетикой.
«Ведь я не допускаю мысли, что там – „наверху“ – были заняты чем-то более важным или отвлеклись в момент производства этих попок». Скорее всего, они такими и были придуманы. Возможно, для избранных. А я сейчас возьму и ножом приведу все это к общепринятым кондициям (на радость тупой владелице и к своему удовлетворению). А потом, разглядывая с ней вместе результат, буду говорить: «Видите, иногда приходится исправлять то, что в „там“ не досмотрели».
Жаль, что вожделение пропадает.
Тем не менее во всех этих попках имелось притягивающее и желанное единство.
Только ниже начиналась разножопица…
Ниже попок были бедра, чаще всего приятные, по-русски грузноватые. Тут особой хирургии не требовалось. Можно исправить – воля и терпение.
Стопы. Голени… Это явление в России столь удручающе, что ни о какой коррекции с помощью пластических или эстетических хирургов чаще всего даже думать не следует.
И колени… – но о них лучше говорить, посмотрев спереди. В сумме получаются наши русские походки – выйдите и посмотрите…
Попробуем бросить взгляд спереди. На тех, что идут навстречу.
А навстречу двигались молочные железы – большие и маленькие, втиснутые в тесные бюстгалтеры или без оных (прямо под короткими кофточками, широко открывающими обнаженный живот между ними и низко сидящими джинсиками).
Те груди, которые под кофточками без бюстгалтера продолжали стоять, особенно большие, были, скорее всего, с подложенными под них аккуратным, незаметным разрезом силиконовыми протезами.
«Наша работа, – скептически подумал он. – Скоро дойдем до того, что все, кроме кожи, да и то частично, будет вставлено нами. Не без потерь для чувствительности.
Царство красоты и фригидности.
Кукла в секс-шопе и та натуральней!»
Натянутая кожа живота не соответствовала дряблости кожи плеч и бедер (как у Юльки. Но об этом позже).
Угадывался длинный поперечный разрез, искусно спрятанный под резинкой трусиков, – результат абдоминопластики. «Кожа в этом случае часто бывает натянутой и не очень эластичной, – думал он, – и что бы там ни говорили, чувствительность снижается».
Зато пупки были замечательные: как естественные, так и «наши». На плотных втянутых животиках они выглядели юными и похотливыми. Особенно когда в край пупка вставлялся маленький золотистый или перламутровый шарик или какая-нибудь другая блестящая штучка. Эротика. Ложное впечатление невинности. Вот, собственно говоря, и все хорошее.
Таз спереди при отсутствии вида притягательной попки представлял зачастую картину отталкивающую – эти два кривых бедрышка, стоящие отдельно под поперечной балкой таза, как Бранденбургские ворота, – триумфальная арка, победившая либидо.
Лобки… – либо проваленные в промежность, либо торчащие бугром, под которым зияет пространство между изогнутыми бедрами и ноги смотрятся не вместе, а совершенно отдельно.
Грубые большие деформированные колени, которых даже брюки скрыть не могут. Затейливо изогнутые голени, исторгающие чувство жалости, и эти ступни, то волочащиеся по асфальту, то грубо с топотом его попирающие, то вообще какие-то кособокие.
Возникает желание спросить: «Ну, зачем Вы носитесь по косметическим клиникам и кабинетам, саунам, аэробикам, фитнесс-клубам?
Научитесь сначала ходить, а то вам вилы хочется дать в руки, а не член».
В общем, если на женщину смотреть выше талии спереди, а ниже ее сзади, то это оптимальное решение эстетической задачи с точки зрения возможной эрекции…
И над всем этим лица… Лица – это вообще сплошное вранье. Как вследствие косметических ухищрений, так и без оных. И, глядя на них, ты никогда не поймешь – это хирург поработал или они от природы такие.
Разве только утром, если тебя родимчик не хватит.
(Может, прав Заславский? Может, действительно у меня нет этого «органа любви»? Снова перед глазами возникла Юлька, дремучая и жирная, вспомнилась всюночная скука от заката до рассвета, когда ты лежишь в ее безразличном теле, дрожа от холода одиночества, безрадостно целуя грубо очерченный примитивный рот, который кто-то наивный неумело пытался приспособить для орального секса. Но об этом позже.)
Свет померк, и окружающее показалось ему бесконечным копошением тысяч женских тел, худых и толстых, молодых и старых, красивых и отвратительных, с мокрыми влагалищами, потных во время соития.
На углу Невского и Мойки он перешел проспект (в неположенном месте) и отправился по набережной за Синий мостик в Фонарные бани, где по пятницам собирались художники и был Анатолий Заславский, который в скором поезде Санкт-Петербург – Мурманск в мгновения ока лишил его «органа любви» по своей дурацкой, но, как и все, что он делал, гениальной прихоти.
Тогда Аршакуни и Заславского пригласили выставиться в краевом музее одного северного города. Не буду его называть – поймете сами. Ехать в город М. одним им не особенно хотелось. Поэтому они прихватили жену Завена Петросовича Нину в качестве: скорой помощи, организатора пищевых ресурсов, сдерживающего начала в плане ненормативной лексики, свойственной им, общего руководителя неразберихой, которая обязательно возникнет в силу равнодействующей нашего общего тотального склероза.
А я был взят, наоборот, как упертый сквернослов, видимо, чтобы ненормативная лексика все же присутствовала и имел место продуктивный диалог во время поездки. Кроме того, с моим присутствием облегчались поиски самого глупого. Официальной же моей задачей было: организация пространства, ощущение времени, им не свойственное, и производство событий в том и другом.
Ввиду моих ошеломляющих лексических способностей (в смысле все той же ненормативной лексики) я считался человеком, близким к народу, и должен был произнести вступительную речь, после которой сложное и высокое искусство этих художников станет простым и понятным людям.
Билеты и отдельное купе помог раздобыть один влиятельный человек, пациент, которого не назову. Не бандит, кстати. Один звонок – и мы поехали.
Поезд двигался сначала через замусоренные пригороды, затем через какие-то болотца, чахлые перелески и сосенки. Завен непрерывно смотрел в окно, куда-то вперед. Было любопытно – куда, но побеспокоить вопросом я не решался. Может, у него там, впереди, вдохновение? Скорее всего, не ответит. А если и ответит – понятно не будет. Вопрос: «Куда ты смотришь?» – может воспринять слишком глубоко – в смысле мироздания. (Классик все-таки.)
Его масляные, почти черные, армянские глаза, всегда изучающе вопросительные, в настоящий момент непрерывно мелькали в горизонтальном направлении.
«Железнодорожный нистагм», – определил я.
Ситуация становилась угрожающей – не дай Бог, нистагм станет постоянным. Это может перейти в дурную привычку – бегать глазами перед людьми. Люди будут думать, что он с ними лукавит, а художники, которые только и ждут случая, на кого бы им обидеться, будут обижаться. Тактичный Завен этого не переживет.
Я взглянул на Нинку – реакция была мгновенной: «Завен, хочешь пирожок?»
Он отвернулся от окна. Нистагм прекратился.
«Спасен!» – вспомнил я.
Голодный гений опасен для окружающих, мне думается. Кстати, «мне думается», по-русски неправильно. Страдательный залог тут неуместен. Правильно – «я думаю». Любимые фразы интеллигентской тусовки 70-х. «Мне думается», «мне представляется»…
Что значит «мне представляется»? Мерещится, что ли?
С другой стороны, «не пишется что-то» – звучит убедительно. Модальность создает ощущение вмешательства потусторонних сил, в том смысле, что я хочу писать, но не могу – препятствует рок. Комплекс вины за безделье снят. Впрочем, какой же может быть комплекс вины за безделье у нас?!
(Взять бы да и удавить эту ленивую суку Юлию! Но об этом позже.)
Завен съел пирожок и пошарил глазами по столу. «Нистагм может вернуться», – с тревогой подумал я. Его общеизвестный многолетний голод к работе в последнее время сублимировался в чрезвычайный аппетит. (Биологическая компенсация заботливой природы?) Вкушал он с восторгом, как Гаргантюа, оставаясь при этом сухоньким и небольшим. Все, по всей вероятности, уходило в бешеноактивную деятельность мозга. Другого объяснения не нахожу…
От пирожка мысль моя, убаюканная стуком колес, перенеслась к «шарлотке», которую испекла мне в дорогу девушка Юля, не преминув сообщить за две минуты до отправления поезда, что из дома до вокзала ее привез некто, который ждет ее в машине, чтобы отвезти назад. Потому спешит.
Какова умница, а?! А главное – тактична. Это она специально или не понимает, дура? «Не дотрахалась, что ли? – зло подумал я. – Кукла бесчувственная!»
Интерес к «шарлотке» я сразу потерял при мысли о том, как они трахались стоя, как раз когда она замешивала тесто.
«Все возвращается на круги своя», – подумал я, вспомнив историю, случившуюся много лет назад.
Тогда мой институтский товарищ, лауреат всероссийского конкурса чтецов, помню, на каком-то из спектаклей познакомил меня с молодой актрисой – удивительной красоткой, как мне, и особенно другим, казалось. (Значит ли это, что наше бытие является чередой бессмысленных повторений во времени? Не знаю.)
Все половое во мне пришло в неистовство. Гормональный выброс был так силен, что мир в моем сознании пошатнулся и померк, и только в центре светилось, как мерцающая таблица зачатия в виде кружочков с крестиками и кружочков без крестиков, ее источающее желание существо.
«Ну, вот, опять началось», – с тоской тогда подумал я, но было поздно – «крыша» съехала.
Не помню, был ли я на ней женат. Об институте брака стоит поговорить. Но не мне – сам я был женат всего семь или восемь раз, точно, правда, не помню. Что достаточно мало.
Во всяком случае, во дворцы бракосочетаний, куда нельзя было ходить повторно, а их было в Ленинграде четыре, меня уже не пускали. И еще помню, что в ЗАГСе я был один раз до дворцов и пару раз после.
По сравнению с количеством заключаемых в стране браков эта цифра недостоверна и ничтожно мала для выводов.
А что касается этой барышни, то вспомнил – женат на ней я не был. Она была замужем. (Что косвенно связано с пресловутой «шарлоткой».)
Было лето. Виделся я с ней каждый день, а хотелось – каждую минуту. Вскоре в окрестностях Ленинграда не было ни одного природного уголка, где бы мы не примяли траву.
Как сдал выпускные экзамены, я не помню. Среди генетических схем совокуплений в мозгу всплывала картина: мы с ней вдвоем на севере, где больные ждут энергичного, хорошо подготовленного уролога. Поселимся, будем жить в почете и достатке…
Ну, если бы не затмение мозга, неужели я бы не сообразил, что ждет меня там поголовный триппер и редкие случаи отморожения члена.
А события катастрофически нарастали.
Я уже не мог с ней трахаться так редко, то есть ежедневно. Очевидно, мне хотелось непрерывно – и в день выпускного экзамена, встретив ее, идущую в магазин за молоком с бидоном, я взял ее за руку, довез до Московского вокзала, купил билеты в первый попавшийся поезд до наших южных морей, и мы, как были, налегке, с бидоном, отъехали в Эдем.
Эдем представлял собой рыбацкую хижину на берегу Азовского моря.
В сарае висели вяленые судаки, тарань, осетр; пахло копченой рыбой.
На песке, у воды, как черные киты, выброшенные на берег, лежали перевернутые вверх дном просмоленные рыбацкие баркасы.
Вечером хозяйка приносила теплое парное молоко.
Ночью было прохладно и чуть-чуть сыро. Кровать с двумя большими пуховыми подушками и пуховой периной, в которой мы утопали. Она горячо дышала мне в шею, положив голову на плечо. В таком положении затягивать перерывы не было никакой возможности, и эти редкие минуты перерывов вспоминаются мне как некие моменты тихого блаженства и покоя.
Все остальное время я проводил в ней: на полу, на кровати, на столе, на всем, что могло выдержать нас двоих. Вы, в общем, все это знаете. Никаких открытий.
Утром не в силах заснуть мы выползали на пустынный, едва согретый солнцем песчаный берег моря и окунались в прохладную соленую воду, чтобы немного очнуться. Пляж был покрыт диким сероватым песком с большим количеством мелких ракушек, которые не кололи ноги. И море было такое же серое и гладкое.
Засыпая, я смотрел на нее – загорелую, голую, стоящую по щиколотки в воде.
И все это вместе – серый песок и море, почти красное солнце, ее загорелое тело и рыжие волосы на фоне серо-утреннего неба, струящиеся в воздухе прозрачные потоки – вызывало ощущение несбыточно прекрасного…
«Ну, прямо Серов какой-то, не этот, а тот», – возникало в мозгу перед тем, как я проваливался в небытие…
Прошел месяц. Грянуло письмо от мужа… Никто не знал, где мы, кроме моего вероломного друга-чтеца. Значит, он нас и заложил. (Настучал-таки.) Пришла пора возвращаться. (Нет, о «шарлотке» я не забыл, скоро доберусь.)
В Ленинграде я не остыл. «Крыша» протекала, разум по-прежнему был помутнен. Тут я сообщил любимой о моих планах оздоровления золотоносных районов страны. К удивлению, идея поддержки не нашла, и теплое гнездышко в крае вечной мерзлоты не свивалось. Лежа со мной, она тем не менее шептала о том, что муж каждый день просит ее бросить меня и вернуться; он любит ее, он несчастен и болен, но у него твердая перспектива аспирантуры и успешной научной карьеры… Кроме того, и у нее есть перспектива хорошей работы.
(Еще бы, с такими данными.) Холодный ветер прагматизма проник в мой спинномозговой канал, однако половых центров он не отморозил. «Очевидно, у меня они функционируют автоматически, составляя синдром перманентной эрекции, близкой к приапизму», – уныло подумал я.
«Ну, что ж, остаюсь в Ленинграде!» – и, сидя в теплоте между ее ног, прямо на кровати я настрочил в Магадан письмо с просьбой осветить, как именно и где точно я смогу улучшить урологическую помощь в крае.
Существо ответа я знал заранее, и он пришел: «Места уролога в Магадане и области нет, и Вы будете работать там, куда Вас пошлют».
В комиссии по распределению, предъявив письмо, я сообщил, что кем угодно могу работать и в Ленинграде. «К сожалению, перераспределить Вас может только министерство», – ответили мне.
За неимением теплой промежности по соседству я быстро написал письмо в министерство на подоконнике, снял десять копий и первую немедленно отправил в Москву. «После пятого или шестого отказа они мне пришлют перераспределение», – думал я позже, прижавшись щекой к ее лобку, покрытому кудрявыми рыжими волосиками. Жизнь без подруги я себе не представлял, и, кроме того, нужно было доказать ее мужу, что я тоже кое-чего да стою. (Ну, вот, к теме «шарлотки» мы уже практически подошли.)
Заканчивался сентябрь, и начинался новый этап – со мной стал встречаться ее муж. По просьбе главврача одной районной больницы Ленобласти, случайно встреченного в электричке, я начал работать хирургом в больничке поселка городского типа в трех часах езды от города.
Мне выделили комнатку метров десяти на втором этаже деревянного дома с печечкой и «удобствами» во дворе. (Правда, электричество было, не буду усугублять.)
Туда приезжал супруг с целью просветить меня, что в городе я известная личность определенного типа и, естественно, уважать он меня за это не может, и, если я желаю добра нашей даме и т. д…
Я желал. Кроме того, это не было угрозой. Это была выстраданная, логически выверенная мысль о том, что ей с ним лучше. Так что до кровавого мордобития дело не дошло. К сожалению.
«Послушай, – сказал я ему, – пусть она решает. Скажет, что остается с тобой, – ну, что ж. А нет, не обессудь». Но его такое решение вопроса не устраивало (сейчас, из-за Юльки, о которой я скажу позже, его идиотизм мне понятен).
Тем временем похолодало. Выпал снег. В моей деревеньке было слякотно, холодно и грустно. Я часто ездил в город.
Она и ее подруга, а затем еще одна моя знакомая приезжали ко мне в деревню. Забавно было смотреть из окна больнички, как они топают от перрона по грязной дорожке на высоких каблуках, в дубленках ко мне в каморку, едва прогреваемую печечкой, прямо на жесткую кровать.
Особенно трогательно выглядела подружка – нежная блондинка с тонкими мелкими черточками лица, большеголубоглазая, шикарно одетая от трусиков до носового платка, с удивительным по тем временам парфюмом – любовница богатого «пушника»-швейцарца. Кроме того, я завел подружку прямо там, в поселке. (Очевидно, чтобы не застояться.)
А в городе я чаще всего приезжал прямо к ней в квартиру. Захаживал и муж. Вы, наверное, знаете эти дома эпохи конструктивизма с множеством дверей маленьких квартирок, выходящих в один длинный, через весь дом, коридор с двумя окошками по торцам. Окна микроскопических кухонек также выходили в коридор рядом с дверьми. Слышимость была великолепной – осуществленная строителями идея отсутствия личных тайн у граждан страны победившего социализма.
В результате любое соитие за закрытыми дверями превращалось в свальный грех.
Власть – «Софья Власьевна» – передержанная, растленная, больная, лицемерная и злобная баба, желала знать о своих гражданах все – даже как они онанируют. Умирающая Софья Власьевна казалась мне затасканной, переходящей из рук в руки шлюхой с распахнутой пещерой гнилой промежности, где бесследно исчезали зазевавшиеся люди.
Дни и ночи она попирала улицы своими гигантской толщины и тяжести больными слоновостью ногами, распространяя вокруг себя трупный, горький запах формальдегида. Действительно, и у нее на глазах, и даже спрятавшиеся от нее глубоко в подвалах за закрытыми на толстые засовы дверями, вокруг нее погибали все, на ком останавливался ее всепроницающий беззрачковый взгляд…
Я позвонил в дверь. Любимая открыла и пошла на кухню что-то жарить на сковородке. (Тема «шарлотки» приближается. Помните, как ее жарила подружка?) Я поплелся за ней на кухню и там, не выдержав вида движущейся передо мной плотной попки, содрал с нее трусики, поднял юбку и усадил на кухонный столик…
В коридоре послышались шаги, и раздался звонок в дверь. (Обязательная сцена. Тема «шарлотки» развивается стремительно. Дальше спад.) Мы замерли, не желая покидать друг друга.
После долгого молчания раздался второй звонок.
«Открыть, не вставая?» – ехидно прошептал я ей на ухо…
Через некоторое время в форточку у ее бедра упало несколько гвоздик. Послышались и затем стихли удаляющиеся шаги. Вот и римейк «шарлотки».
«Вам понятно, почему я ее не ел? – спросил он меня. – И что Вы скажете о мести провидения?»
Тем временем Завен, который уже длительное время смотрел на «шарлотку», проглотил слюну и перевел глаза на Нину. Нина опять не подвела, и «шарлотка» была мгновенно разрезана на большие куски.
(Тут опять обнаружился Заславский – драма начала свой стремительный и бесповоротный бег.)
– Почему ты не ешь «шарлотку»? – спросил меня Заславский, как бы не догадываясь о коварстве своего вопроса. – Она такая вкусная, видно, девушка тебя любит, раз испекла и принесла тебе в дорогу такую замечательную «шарлотку»?
– Боюсь проглотить презерватив, – ответил я и уставился в окно.
– Как ты можешь говорить так про свою девушку?! Она же тебя любит! Ты совершенно не понимаешь женщин! Ты о них не думаешь! Если бы девушка испекла такую «шарлотку» мне…
– (Далась им эта «шарлотка».) Что же ты мне душу-то мутишь, Толя? А что касается женщин, и думать тут нечего, да и бесполезно, нужно просто трахаться и все! (Особенно с такой блядью, о которой я скажу позже.)
– Как это просто трахаться? Нет, ты не можешь о девушке думать правильно. Ты думаешь неправильно. Женщина – это вообще совсем другое, чем тебе кажется. Ты вообще когда-нибудь любил женщину?
– Даже еб, – процитировал я.
– Вот, видишь, – сказал Заславский укоризненно. – А если бы ты любил, как я, то знал бы, какой это ужас! Это кошмар, катастрофа! Это так тебя ранит, разрывает, уничтожает! Ты даже себе представить не можешь! Ты теряешь все! Ты перестаешь что-либо понимать… Впрочем, что я тебе говорю – ты этого ощутить не можешь, у тебя нет органа любви!
– То есть как это нет? – обиделся я. – Значит, у тебя есть орган любви, а у меня нет?! И где он находится?
– Где находится, сказать не могу, но у всех людей он есть, а у тебя нет.
– Толя, если ты хочешь меня оскорбить, то так и скажи! Что ты из меня инвалида какого-то делаешь? Все, что есть у тебя, есть и у меня! И даже больше! Спроси у женщин, которых ты так хорошо знаешь. И орган любви у меня тоже есть. Просто я его не показываю.
Поезд медленно подходил к перрону города М. Опоздание по нашим меркам было незначительным – на сорок минут всего.
Нас встретили, помогли довезти картины до музея, поселили в квартире местного художника (бывшего петербуржца). Он сам ушел жить в мастерскую.
Переночевав, мы отправились развешивать картины. Выставка открывалась завтра.
Публика собралась интеллигентная, были дети. Смотреть же с позиции Зигмунда Фрейда или, скажем, Луки Мудищева было не на что. Правда, выявилась молоденькая симпомпошка – журналистка.
Выступление превращалось в тет-а-тет. Прошепелявив что-то про ярких, красочных, чувственных художников, которые в этот «суровый и мужественный край» и т. д., я быстро закруглился. Да и ситуация с биологических позиций казалась ненадежной: одна особь при отсутствии естественного отбора?.. Могла быть ошибка.
В итоге мы вместе с друзьями, прихватив журналистку, отправились выпивать в мастерскую радушного Мского художника. Там, сидя за столом и погрузив левую руку в теплую литературную промежность, а правой держа непрерывно наполняемый стакан, я сквозь него внимательно смотрел на друзей, оживленно обсуждавших проблемы бесконечного течения живописи.
«Может, так сидеть и слушать – это и есть счастье», – подумал я (не имея в виду, конечно, руку в промежности). Доза выпитого приблизилась к полулитру.
Следующая пара дней прошла в непрерывном запое.
«Так и уедешь, не взглянув на ихнюю северную цитадель», – подумал я и вечером вышел прогуляться.
«Она» подошла ко мне возле отеля с каким-то северным названием. Лет шестнадцати-семнадцати, чистенькая хорошенькая с совершенно невинным лицом.
– Хотите отдохнуть?
– А я не устал. Меня и так посадят за педофилию.