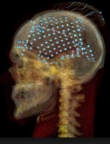Текст книги "Жизнь как женщина (донос)"
Автор книги: Феликс Коэн
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Через десять дней я уехал. Договорились встретиться десятого декабря на мосту в восемь вечера – она жила на той стороне реки.
В восемь я был на мосту. Холодно. Она не пришла. Я простоял двое суток, деться ей было некуда – мост был один. На третьи сутки к вечеру я ее увидел…
– Ты давно здесь стоишь?
– Третьи сутки…
– Ой, прости, я совсем забыла.
– Хорошо. Встретимся завтра в это же время. Обязательно. Приходи, а я совсем забуду, но ты жди!
И ушел. И уехал…
Так вот, сижу я с Галей в «Восточном». В то время вышел из отсидки один известный фарцовщик. Его жена, говорят, пока он сидел, закрутила роман с каким-то деятелем, как две капли воды похожим на меня. Судьба такая, что ли? Вечно на кого-нибудь похож. Как правило, с неприятностями. Но тогда я ничего этого не знал.
Ну, сижу я с этой Галей, или как ее там, и уже трахаться хочется неимоверно, как вдруг подходят к ней два чувака, причем морда одного из них явно знакома, а второй только что из зоны – еще волосы не отросли. Разговаривают с ней грубо, но чувствую: претензии ко мне.
– Молодые люди, отойдите от девушки, а то ей душно, – обратился я довольно мирно, даже вежливо.
А мне: «Ты лучше закройся. Пока. Мы тебя на улице подождем».
И, действительно, выходим на улицу – ждут.
Я говорю Гале, или как ее: «Выходи на Невский и двигай тихонечко – я тебя догоню. Если не догоню – тебе два шага до твоего дома на Рубинштейна».
А мы втроем двигаемся к памятнику Пушкину работы скульптора Аникушина. И, чувствую, претензии ко мне серьезные – «распишут», деться некуда.
Проходим мимо входа в гостиницу «Европейская» – и тут из вертушки в дверях прямо на меня выкатывается Леня Шрам. Ситуацию он оценил мгновенно и, не глядя на двоих, спрашивает у меня: «Ну, че здесь?»
– Да вот, Леня, у нас новости, – пожаловался я, – не успеешь в ресторан с телкой прийти, как начинаются прихваты. Скоро на «Центр» нельзя будет выйти!
– Ну, ладно, ты иди, – говорит Леня, – я тебя отмажу.
В это время фиксатый опускает руку в карман.
– Во, – обращается к нему Леня, – руку в карман засунул. Зачем? Ты же меня знаешь – если я засуну, то достану, а если достану – то всажу. На раз!
– Леня, у нас к нему разговор.
– Разговор будет ко мне, я за него отвечаю! А ты, Давид, иди.
– Это не Давид, – сказал второй, – это Ося.
– Я не Ося… Я останусь, Леня?
– Как не Ося?! – второй был ошеломлен.
– Так, не Ося, возьми ксиву и посмотри. – Я достал и открыл паспорт.
– Вали, – повторил Леня, – догоняй свою телку, я разберусь. Ты мне не нужен.
Я ушел. Не слабо, чтобы тебе башку оторвали только потому, что с кем-то спутали.
Мы с Лешей идем по Невскому из «Крыши». Часов в одиннадцать вечера. Я снял девушку из Дома мод. Как раз она рассматривала журнал, на котором и красовалась. Длинная чувиха. В прикиде. Идем тихонечко, вдруг сзади какой-то разговор. Касается моей длинноногой подруги. Оборачиваемся: кап. три, два кап. лея и младший лейтенант. Поддатые круто. Хотят ссоры.
Леша оборачивается и вежливо говорит морячкам: «Товарищи офицеры, отодвиньтесь подальше, дышите нам в шею, а мы потеем».
Офицеры не отстают, говорят обидные вещи про девушку, она ведь не как у них обычно – не с Московского вокзала и не шлюха из «Метрополя». Поворачиваюсь и я, сообщаю, соблюдая субординацию: «Товарищ капитан третьего ранга, смотрите какой чудный вечер, давайте будем отдыхать красиво. Заткните ваших адмиралов, а не то мы им пасти порвем».
От компании у «Севера», играющей в «шмен», отделяется Леня Шрам: «Опять ты? Помочь надо?» – «Не нужно, Леня – беседуем».
Перешли Садовую. Морячки не угомонились. У Фонтанки Леша не выдержал: «Товарищи офицеры, я вижу вам мой дружок не нравится. Давайте с ним в подворотню – только по одному и по очереди». И я с одним лейтенантом вхожу в подворотню, где он начинает читать мне инструкцию, как нужно вести себя с офицерами. Видно, не может начать.
– Ты зачем сюда зашел? – зло спросил я. – Дать мне по лицу? Так и давай! – и бью его в лоб.
В подворотню вбегают два капитана, а за ними Леша с криком: «Мы с вами так не договаривались!» К моему удивлению, после недолгой потасовки эту компанию мы уложили. Потом мирно вышли, сказали майору, чтобы он их подобрал, и не спеша отправились с девушкой дальше. У кино «Хроника» оглядываемся: военные топают за нами – морды побитые.
«Теперь младшие не вынесут позора перед своим майором – мы-таки нарушили субординацию. Будут стоять насмерть. Пока не утонут – как крейсер ''Варяг''». Вероятно, нам придется открыть им кингстоны, чего бы не хотелось. Сворачиваем на Маяковскую, пока не замели. «Если повернут за нами, отметелим по-серьезному у фонтанчика напротив НИИ нейрохирургии. И медицинская помощь рядом. А то они от нас не отстанут», – развил Леша нашу стратегию…
Но они за нами не пошли.
Здесь же у Маяковской я впервые видел, как «заряжает» Володя.
Поздно ночью он неторопливо волочил свои сто двадцать кг по проезжей части Невского в сторону площади Восстания, не желая идти по тротуару, хотя тротуар на Невском широкий. Напротив «Колизея» некто налетел на Вову и, ударившись о него, как о столб, обозлился.
– Слушай, – спросил Вова, – тебе что, улицы мало?
Мужик выругался.
– Не мешай мне, видишь, я себя выгуливаю, – буркнул Вова.
– А я хуй положил, – невежливо ответил парень, – сейчас я тебя отметелю, толстого.
Володя не обиделся: «Я прошу, не сейчас. Ладно? Я гуляю. Ты тоже можешь топать, но не близко, а то от тебя пахнет». Парень предложил зайти в парадную.
«Ну, что ты, – любезно обратился к нему Володя, – если не допил немного, на тебе три шестьдесят две – купи бутылку на Московском. Не пугай меня, а то и так поздно, темно и страшно».
И тут парень допустил ошибку – он в неприемлемой форме поставил Володю в известность о его национальности. Информация была излишней, Володя и так знал – кто он. Он парня даже не ударил, он его легонько толкнул, одной рукой. Парень перелетел через тротуар и врезался рылом в изящную, в виде круга с решеткой часть металлических ворот дома. Когда он повернулся, морды не было совсем – на ее месте была багровая вдавленная решетка. Мы порядком струхнули.
Но не всегда подобные встречи кончались благополучно. Как-то раз я сидел в ресторане «Октябрьский», а рядом, за другим столом, сидела симпатичная женщина с плотным, слегка оплывшим крупным мужчиной с черными кучерявыми волосами и мощной челюстью. Я пригласил ее на танец раз, затем второй, а когда подвигал ей стул, «здоровый» заявил, что больше дама танцевать со мной не хочет, он в этом убежден.
– Может, спросим у дамы? – поинтересовался я.
– Лучше выйдем, – заявил мужик.
– Ну, что ж, пошли. (Потом я долго себе говорил: «Ну, нельзя же так. Думать надо».) Хотя, в общем, выхода не было – отказать в удовольствии кавалеру я уже не мог.
Это был чемпион или призер первенства Европы по вольной борьбе в тяжелом весе. Я этого не знал, а если бы и знал – куда деться? Понты.
Мы вышли в вестибюль. Напротив были окна на Лиговку – первый этаж. Он начал сразу, не разговаривая. Я почувствовал, как какой-то ураган подхватил меня и швырнул беспомощным котенком через вестибюль в окно. «„Давид и Голиаф“ – как было на самом деле», – подумал я, перед тем как грохнулся на тротуар Лиговки. Два ребра и бугор плечевой кости были сломаны.
«Хорошо еще, что первый этаж, – ухмыльнулся я, превозмогая боль. – Уйду, не расплачиваясь».
Девушки по-прежнему мелькали, как в калейдоскопе. Встречая на улице какую-то неясно знакомую, на всякий случай здоровался. Слушался совета приятеля: «Ты можешь не выяснять, если поздоровается – значит, трахались».
В то время я начал седеть, но довольно странно, голова еще была черная, а грудь и лобок совершенно седыми. По пути в Киев в командировку я познакомился с молодой девушкой-стюардессой, такой ласковой, миленькой блондиночкой-хохлушкой. Я привел ее в свою гостиницу, и, когда разделся, девушка радостно рассмеялась: «Я никогда не видела такого седого писа», – весело сказала она, а потом целыми днями восхищалась и ласкала его, бесконечно удивляясь. Такое искреннее умиление.
Я тогда понял – дело не в нас в целом. Мы не причина, мы чаще всего повод для выражения их восторженного состояния.
Еще через несколько лет он заскучал, вернее, появилось безразличие. Когда кто-нибудь из друзей звал в гости: «Приезжай, у меня две классные мочалки из Москвы», – он обычно отвечал: «Ну, что я из центра попрусь в Удельную, приезжай лучше ты ко мне». Ажиотажа уже не было. Эти годы казались ему чередой бесконечных легких встреч, ненадолго удовлетворяющих тщеславие, если женщина была эффектна и привлекала всеобщее внимание, если нет – второй раз с ней он уже не встречался.
Как-то Сема Качко неожиданно обобщил настроение. Мы стояли у Гостиного Двора на углу Садовой и Невского. На противоположном по диагонали углу, над кукольным театром Евгения Деммени, была реклама – бегущая строка. По строке бежало: «Новый японский фильм „Горький рис“». (Дело в том, что на жаргонном идиш «делать рис» означало не обрезание, а трахаться.)
– Я пойду, – сказал Сема, – это кино про нас.
Сема Качко был человек занятный. Вдруг он решил жениться. Ну, понятно, на богатой невесте. Папа ее был очень обеспечен, и, если дочка выходила замуж, зять мог ни о чем не беспокоиться. Главное, чтобы он был человек серьезный и у него было занятие.
Пусть даже ученый – хер с ним, «обеспечим» – еврейские папы очень любят своих еврейских дочек.
Сема Качко не вписывался в пейзаж. И он это понимал.
В половине седьмого в «Восточном» появляется Сема в темном костюме и белой рубашке с галстуком: «Ребята, я иду в Филармонию…» Подумав, мы решили, что это жаргон.
«Кого дают?» – ошарашил Сему неожиданным вопросом находчивый Вова.
Находчивый Сема к ответу готов не был. Он задумался… Ответ тоже был ассиметричный.
– Я купил билеты во второй ряд, в центре, с рук. Бабок отдал немеряно… Какой-то крутой из Штатов – Ван Клиберн. Иду с невестой.
Повисло молчание. Представить себе Сему Качко в Филармонии никто не мог.
Подвел итог Володя:
– Раз. Встречаешься с девушкой, нам ее не показываешь. Два. Купил билеты в Филармонию. Три. Сколько можно было на эти деньги сидеть здесь?
– Сема? Давай мы тебе с девушкой здесь споем и даже станцуем!
– И стоить это тебе будет дешевле. Ты хоть знаешь, что тебя ждет?
Сема не знал. Без двадцати семь он ушел.
Мы сидели и грустно смотрели друг на друга. Сему было жалко – он не ведал.
Без двадцати восемь в зал влетает Сема:
– Наливай, у меня есть час!
– «Семь сорок», – заказал Вова оркестру.
Сема начал рассказ:
– Когда я с девушкой вошел в зал сразу понял: «Попал!»
Все люди одеты торжественно, но не круто, выпивших с виду нет, что тревожно.
Народу – толпа! Чего-то ждут, но на фуршет не похоже. Наверху даже стоят немолодые женщины. И тихо.
Вышел длинный кучерявый блондин, поклонился и сел…
С первых тактов музыки Сема ощутил беспокойство – никто не наливал, все сидели тихо, как замерли. Выпить хотелось страшно, чесался нос. Спина занемела, но пошевелиться он не мог – видимо, это не позволялось. Смекнул и делал вид, что завороженно смотрит на музыканта, но прикрыть глаза для лучшего слушания, как многие, не решался – боялся уснуть.
В перерыве он разыскал на хорах старушку, подвел ее к своему месту, усадил и, наклонившись к своей девушке, шепнул: «Фаня, я не могу сидеть, когда пожилая женщина стоит. Пусть бабуля посидит второе отделение, а я сзади постою, хорошо?» – и через две минуты с криком «Наливай!» он уже приземлялся за наш стол.
Я думаю, что никогда в жизни Фаня больше не встречала столь куртуазного молодого человека. Да и в Филармонии Фаня тоже тогда была впервые – в папиной лавке подобные молодые люди не попадались…
Мы с девушкой двигались в сторону обещанного за деньги отдыха. Город был темный, прохладный и пустой.
«Ладно, Юля, – думал я, – вот я сейчас посплю с ней, а потом мы вместе пойдем искать тебе подарок. За „шарлотку“. Извини, в магазине в момент приобретения подарка я ее трахнуть, к сожалению, не могу». (Привидилась обвисшая, круглозадая Юлька со своей улыбкой дегенератки.)
Мы с девушкой вошли в однокомнатную квартиру, чистую и вполне приличную. Выпили. Вымылся я, потом она. Вышла в хорошем белье, чистенькая и ароматная. «Следит за собой, – оценил я, – как профессия шагнула вперед, видимо, финансируется не так, как наша обшарпанная медицина». Я взглянул на ее тело повнимательней: «Эта модель для любви в коррекции не нуждается…»
В койке она совсем забылась и, потеряв профессионализм, впала в оргазм. Потом еще долго лежала, закрыв глаза и улыбаясь.
(Это еще что? Мин Херц? Мы сейчас, «Соня», как раз на работе.
Ну, прямо, Комиссаржевская.)
И вдруг слышу:
– Давай еще раз без резинки. Не бойся, я здорова.
Я подозрительно посмотрел на нее.
– Не беспокойся, денег не надо! Могу ведь в кайф изредка.
Мылся под душем. «Любимая» (что ни говори, а отношения стали любовными) стучала кофейником на кухне.
– Тебя еще кофием напоят, видимо, работник ишо, – посмотрел я в зеркало и приосанился.
Девочка-то какая умелая и без аульских грубостей. (Не как тебя учил какой-то примитивный мудак, Юля.)
Последнее время я совсем охерел – стригусь каждые две недели, за одеждой слежу, стало важно, как выгляжу. (На себя бы посмотрела, дура.)
А вот эта девочка, как яблочко. И прихорашиваться мне не надо. Имидж менять.
Я оделся, положил деньги.
– Можешь заходить, если понравилось. Когда захочешь. Ты еще долго здесь будешь?
– Не знаю, – соврал я, – буду, зайду. Ты классная.
На улице я посмотрел на часы – половина двенадцатого. Пора было двигать назад – заметать следы перед друзьями и знакомыми. Представитель культурного города все-таки. Не Содом и Гоморра.
Уже передо мной маячила плоскогрудая девственница-мораль с лошадиной мордой, плотно сжатыми тонкими губами, сквозь которые она цедила ветхозаветные прописные истины. Я шел по холодной улице и представлял себе, как моралистки в однополом экстазе феминизма исподтишка облизывают мораль и ее сестру-близнеца – нравственность, родившихся, следует полагать, в непорочном зачатии от фригидной матроны-этики. Интересно, а вообще, эти две так похожие бабенки трахались с кем-нибудь или нет? По-моему, трахать здесь можно только в переносном смысле. И вообще, могут ли в непорочном зачатии от девственницы-этики родиться близнецы? И можно ли считать искусственное оплодотворение непорочным зачатием? И кто был этот неизвестный гениальный хирург древности, сумевший имплантировать сперматозоиды в девственную, бесплодную слизистую матки чопорной и спесивой этики.
(Во всяком случае, результат оказался спорным и с большими последствиями. Так что приличия соблюдать все-таки придется.)
А вышеуказанная семейка теперь решила прикрыть глаза на этические проблемы гомосексуализма. Не без влияния «Софьи Власьевны», которая тут же вылизала этих трех девственниц, чтобы показать свою свободотерпимость, когда дело касается свободы и равенства однополой любви.
Равенство в чем? Их кто-то сегодня ограничивает законами?
Ну, не понятны людям с нормальной ориентацией их половые интересы! И тем более, как у них могут родиться дети.
Я, например, никак в толк не возьму.
И стремление гомосексуалистов к службе в армии вызывает у меня подозрение относительно наших детей. Я очень сомневаюсь тогда в свободе их сексуального выбора. Особенно, судя потому, что у нас происходит в шоу-бизнесе, индустрии моды, поп музыке – везде, где пахнет большими деньгами, порочностью и дурным вкусом.
Да, мои дорогие геи и лесбиянки, если то, чем вы занимаетесь, не называют сегодня половыми извращениями, то это не значит, что все это не порочно. Хотя бы потому, что не ведет к продлению человеческого рода и, следовательно, бесплодно.
И не изображайте из себя патриотов – лично я убежден, что ни одна лесбиянка не бросится «передком» на амбразуру во имя отечества и редкий педераст вынет член из задницы и побежит бороться за свободу и независимость, если это независимость Родины, а не свобода сексуальных меньшинств.
И все эти «калифы на час» в сфере личного добывания денег на дешевых шоу, сиюминутных модах – на всем, что вскоре, как мыльный пузырь, лопнет и даже памяти не оставит, но сегодня дает бешеные деньги, все они отнюдь не демократы. Попробуйте попасть туда с нормальной половой ориентацией, узнаете.
Только через жопу.
Люди эти в большинстве не добряки, не «хорошие друзья», а моментально откусят у вас все, что, с их точки зрения, у вас неправильно.
Все это безголосое пение; лишенное пластики и понятия притоптывание, весь этот надутый блеск, спортивно-имперская эстетика, призрак легкого богатства, эти Киркоровы, «На-на», этот накачанный зайчик из «Большой стирки» – не думайте, что они наивны.
Они – с властью, и очень хорошо знают, что ей нужно.
Как, впрочем, и народный акын Розенбаум. Есть у него, с моей точки зрения, лишь одно хорошее качество – не голубой.
Мне никогда не хотелось быть геем. И представить себя бабой, коровой, даже щукой я не могу.
(А если «активным», то с моими способностями по передней части женщин я, скорее всего, всю жизнь не буду вылезать из задницы. Уже в буквальном смысле. Ибо в переносном – мы все практически не вылезаем из нее от рождения до смерти. И мне эта гармония малопривлекательна.)
О другом аспекте гомосексуализма сказал один выдающийся артист: «Я не могу – я очень смешлив».
Действительно, представить себе это забавно: мошонка «дамы», должно быть, находится в смятении, недоумевая, что, собственно говоря, с ней происходит, одуревая от попытки разгадать, какова теперь ее функция, не мешает ли она радости соития.
Честно говоря, я и сам не понимаю, а спросить не решаюсь.
Для однополой любви нужно много фантазии.
Как, кстати, называть пассивного, «душечка» или «дружок», как вы думаете?
Такие тонкости – «Гей», славяне.
Наверное, нужно долго учиться.
А с противоположной стороны в смысле пола – эти лизухи мне тоже непонятны в их святой, пиздострадательной борьбе. Кто с вами борется? Кому вы нужны?! Лижитесь себе до мозолей на языке. Хотя, когда я представляю себе их всех вместе голыми, зрелище эпическое – «Всеобщий пиздец».
С точки зрения новой «милухи», вероятно, лучше все-таки любоваться на экранах всей этой дешевой ерундой, возмущаться и устраивать теледиспуты «Про это…», чем вдруг задуматься: «А какова на самом деле эта сука-власть, которой, по сути, любая свобода поперек горла, кроме сексуальной?»
И я снова увидел, как эта пожилая проститутка, измученная климактерическим неврозом, мерзкая и жестокая, выбирает себе любовников – министров, депутатов, губернаторов.
Вспомнил их рожи, пьянствующие с комсомольских времен, не любимые женщинами и потому стремящиеся к власти, чтобы взять женщину страхом. Убогие, косноязычные, готовые бесконечно лизать пахнущие тленом гениталии власти за возможность иметь что угодно, чего у других нет. И осуществлять безнаказанно свои идиотские, садистские желания.
И в первую очередь, они содомируют то, в верности чему бесконечно клянутся, – Родину.
Изнасилованные своей обожаемой хозяйкой, они в свою очередь насилуют страну и народ, требуя проявления показной любви к ним в песнопениях и речах.
Так как же жители этой страны будут искренни, как они дадут здоровое потомство?
И вот уже зовут из соседних стран, стран Востока и Прикавказья, здоровых мужчин в надежде, что, мерзко подкладывая под них своих женщин, они исправят демографию.
Впрочем, в это они тоже не верят, иначе зачем их дети учатся и остаются жить за границей?
Кто над этим задумывался?
А ведь, действительно, вся эта педерастическая деятельность в области так называемого творчества нас отвлекает. Инфантильные поп-группы и ансамбли, империя мод, визажисты, затраханные топ и фотомодели – синтетические, потерявшие по мере проникновения в этот гребанный мир звезд все женское, если оно когда-нибудь у них было.
Только гордые бизнесмены, измочаленные финансовыми перегрузками, могут все это фригидное ебать. Потому что им все равно что, лишь бы другим показать.
Это вечером. А утром?
Когда они увидят их без грима, их паралич не разобьет – они живучие.
Когда я добрался до мастерской, стол был пуст, Завен находился в атараксии, близкой к нирване.
– Ну, как Вам понравился город? – спросил радушный хозяин.
– Город живописный и сексуальный, – вежливо ответил я, вспомнив фигуру воина-защитника, фаллическим символом стоящего на пригорке.
Все уже собрались домой. Благостно улыбающийся Заславский посматривал на меня, возможно, что-то подозревая. (Или он уж очень проницательный, или мы в какой-то другой жизни были очень похожи.)
Нина и Завен собирались в гости к его однокашнику. Он не видел его несколько десятков лет.
– Опять застолье, – подумал я. (Ну, Завен-то справится, а за Нину я беспокоюсь – выпить еще туда-сюда, а съесть столько она не сможет.)
Мы с Заславским вернулись к себе. Он лег спать, а я сидел на кухне с чашкой кофе. Не спалось (опять хотелось трахнуть эту девочку).
Часа через три появились Завен и Нина в подпитии с двумя пакетами, набитыми колбасой, сыром, ветчиной, хлебом, консервами.
Зачем-то принесли семь полурастаявших стаканчиков мороженого.
– Это зачем? – спросил я, кивнув на стаканчики.
Нинка находилась в том градусе, в котором обычно у нее начинается самобичевание, – она чувствует свою ничтожность рядом с гениальностью окружающих ее людей. Губки припухли и сложились в горестную складку: «Завенчик захотел», – всхлипнула она, и из ближайшего ко мне глаза полилось.
В Завене заговорили царственные предки. Он взглянул гордо и нелюбезно, как петух, который готовится вскочить на курицу: «Нина, я принес мороженое ре-бя-там! Они его любят».
«Ребята» мороженого не могли…
Только мы успели заснуть, раздался звонок в дверь.
Было противно, но пришлось открывать.
Ворвалась группа выспавшихся жизнерадостных аборигенов с целью вывезти нас на природу – увидеть незабываемые красоты тундры на последнем осеннем издыхании.
Заславский тут же с готовностью показал ответную жизнерадостность. (Ему-то что – он выспался. Кроме того, он всегда радуется не к месту.)
Мы выдали коллективу по кислой, маложизнерадостной улыбке, и началась тошнотворная суета. Излишняя и мало понятная нам бодрость гостей вызывала немотивированную злобу. Мы попросили их спуститься вниз, чтобы самим быстренько одеться и выйти, и, как только захлопнулась за ними дверь, завалились в постели.
Все, кроме Заславского.
Одержимый дурацкой бодростью, Заславский тормошил нас. Ему в голову пришла идиотская мысль, что заставлять ждать людей на улице – неприлично.
Чтобы как-то прийти в себя, я налил по пятьдесят граммов мне и Нинке и принес ей в кровать.
– А бутербродик? – жалобно попросила Нина.
– Ты совсем стала похожа на Завена, – буркнул я, но бутерброд все-таки принес. Полегчало мало.
Хмуро рассевшись по автомобилям, все отправились на поиски «самого» из ближайших мест. День был солнечный, но прохладный. Знобило. (Скорее всего, с перепоя.)
Место было найдено, как раз когда у меня проснулся интерес к окружающему.
Вокруг красиво было до неприличия: деревья на сопках с красными, желтыми, багровыми, вишневыми листами; между ними черными и темно-зелеными вертикалями – ели. Серые валуны. Разновысокие, какой-то немыслимой яркости и цвета растения и цветы. Зеленая трава, чистые ручейки и речка, впадающая в аквамариновое озеро, – все это маниакальное изобилие красок совершенно непредставимо в этих заполярных местах. Как отчаянный короткий вопль пред небытием полярной ночи. Как сон о фантастической красоты женщине, которая приходит к тебе перед пробуждением и тут же исчезает.
Остается поллюция, которую с полярной ночью, конечно же, не сравнишь.
Хозяева уже сооружали пикник на покрытом скатертью большом валуне. Горел костерок, а на нем жарились сосиски на шампуре. В той самой холодной речке остывали бутылки…
И тут произошло непоправимое – Завен нашел белый гриб!
(Не помню, чтобы в Урарту росли грибы. По крайней мере, сведений об этом в доступной мне литературе я не нашел. Откуда у потомка древних армянских царей такая страсть к собиранию грибов?!)
Да, душа Завена временно отлетела в подосиново-подберезовиковые, бело-рыжиковые края. Что по сравнению с этим железнодорожный нистагм?!
Завен взял целлофановый пакет и растворился в лесах.
Вечерело… Заславский уже набрал полную корзину грибов и с периодическими криками: «Это надо писать! Это надо писать!» – сидел на валуне, глядя на погруженное в лес озеро.
«Да, лес – это не хуй собачий», – подвел Заславский итог своим наблюдениям. Более проникновенного, полного восторга и упоения описания русской природы я не припомню.
Мое внимание привлекли несколько хорошеньких женщин, участвующих в пикнике, но частью с мужьями – частью мужья находились в непосредственной близости.
«Даже не думай, – сказал я себе, – ты в гостях!»
Сосиски остыли, хотелось есть, но начинать без Завена было невозможно. Все-таки главный представитель делегации и суеты.
Наконец из леса выявилась счастливая армянская физиономия Завена. Он бережно держал помятый подберезовик. Он его обожал.
Взглянув на корзину Заславского, Завен осунулся и помрачнел.
И тут Заславский совершил очередную глупость – наклонился и прямо у ног Завена нашел и вытащил из мха еще один белый гриб с толстой ножкой, маленькой темно-коричневой твердой шляпкой, не гриб – красавец.
Завен издал нечленораздельное. В его глазах появилось тоскливое безумие и высветилась клинопись, столь похожая по написанию на адрес из трех букв по-русски. (Я на его месте дал бы Заславскому по морде.)
– Вот почему тебя не любит Зяма и почему, глядя на тебя, руки бывшего пулеметчика тянутся к пулемету, – сказал я Заславскому.
Вечером мы уехали домой.
Вагон покачивало. Завен опять непрерывно смотрел в окно, по-прежнему вперед. Я не выдержал:
– На что ты там смотришь, Завен?
– Господи, – воскликнула Нина, – да на паровозик.
(«Ведь надо же, – подумал я с завистью, – я даже на женщину так долго не смотрю».)
И вспомнил его трамвайчики и трамвайные парки, буксиры, салюты на набережных.
И арочные коридоры академии, где в сумерках неутомимый Коля Кошельков, собрав вокруг себя группу слушателей, вещал новое: «А, ты, а, послушай…»
Лекции Смолянинова, столы, скамейки, стены и коридоры, изрезанные и разрисованные профилем Махи – Валеры Ватенина, – треугольник носа и точка глаза.
Кстати, Маха не имеет совершенно никакого отношения к Гойе.
Дело было так. В деревне жил поросенок по кличке Маха. Некто сообразительный сфотографировал Валеру и поросенка нос к носу – сходство имелось. Друзья стали называть Валеру Махой. Это было беззлобно – его все любили. Иногда он обижался. Потом привык. Художник он был превосходный, и вся академия его знала. Часто можно было услышать такой диалог:
– Пойдем зайдем к Валере, посмотрим.
– К какому Валере?
– Да к Махе.
Продолжалось упорное изображение профиля Валеры в туалетах, на полу, на подоконниках – во всех местах и на всех поверхностях. Неофиты приобщались к этому наскальному творчеству моментально.
– Почему его везде изображают? – спросил я как-то у Ванечки Васильева.
– Да просто, – ответил он.
Вспоминаю библиотеку, в которой практически единственной в то время можно было посмотреть монографии по современному искусству; издания «Скира» и прочие необыкновенные вещи…
Клетушки дипломников, в одной из которых Завен писал мой портрет, а потом записал, видимо, думая, что он мне не понравился.
(И до сегодняшнего дня я, вспоминая, ковыряю его душу, а когда окончательно достаю и он мне говорит: «Да напишу я тебя», – отвечаю: «Так и таким, как тогда, ты меня уже не напишешь!»)
И Людочка Куценко, которая с недовольным: «Опять ты с бабами?! Ты не даешь им диплом писать!» – влетала во флигелек во дворе академии, где писали диплом Валера и Ванечка, запершись со мной и двумя девицами, с водкой и закуской на столе и незаконченными работами на подрамниках.
Валера обладал восторженной утонченной сексуальностью. Близость с женщиной для него всегда была событием, мифом. Однажды в мастерской он покрыл небольшой шкафчик резьбой. Это были какие-то фонтанирующие фаллосы, истекающие женские промежности, акты, зовущие линии женских тел… Без восточного религиозного привкуса. Чистый, наивный восторг и изумление бытием.
Он был великий, космический человек.
«В моей голове стучит Вселенная…»
Его уже нет.
И бесконечные хождения по ночам с Ванечкой от его дома на Некрасова до моего на Жуковской, туда и обратно, туда и обратно, пока не расставались на середине.
Однажды среди ночи откуда-то неожиданно вынырнул Леня Шрам.
Взглянув на обычно серьезное, озабоченное лицо Ванечки, он вдруг спросил его: «Что с тобой, кореш? Может пришить кого-нибудь?» А потом мне: «Твой человек? Скажи ему, если кто-то ему мешает – уберем!» – и растворился в темноте.
Ванечка опешил – он тогда не знал некоторых смутных сторон моей жизни.
– Кто это? – испуганно спросил Ванечка.
– Это мой дружок, – ответил я и добавил не без лукавства, – Ванечка, если он обещал убрать – уберет!
Ванечка еще много лет помнил эту встречу – Леня умел производить впечатление.
И долгие сидения на громадном сундуке на кухне у Ванечки, его мама всегда с чаем, разнообразным вареньем, оладушками, пирожками и вопросительно наивными и серьезными глазами и руками, несущими чашки или стаканы в подстаканниках.
Приходил Гера Егошин, постоянно внутренне небезразличный, настроенный на спор.
И его «Маяковский» и «Хемингуэй» Кошелькова и многое другое, что выплывало в памяти неизвестно почему и исчезало.
Тогда опять начиналась череда женских тел, слышались их стоны, вскрики и писки, благодарное трепетание после и жажда поглотить до…
Заславский свесил ноги со второй полки:
– Я тебе все-таки расскажу, что ты не понимаешь про Юлю, – занудил он снова.
– Подожди, Толя, я сейчас выйду покурю, а потом ты меня просветишь. Кстати, тему Юли можешь дополнить органом любви, которого у меня нет.
Я выглянул в окно: состав двигался по дуге среди сопок, озер и болот. Изогнутая кишка зеленых вагонов заканчивалась тепловозом зеленым с красным. Тепловоз как тепловоз, ничего особенного. Это потом на картинах Завена оживший яркими ощущениями детства, казалось, давно исчезнувшего из нашей памяти он будет смотреться как чудо.
И мы будем спрашивать себя: «Как же так можно?» А никак нам не можно. Потому что мы уже не можем так долго смотреть на паровозик.
Я прошел мимо ног Заславского, который, видимо, готовил тезисы про Юлю и орган любви, и вышел из купе. Покурив в тамбуре, вернулся и встал напротив.
Из соседнего купе доносился женский голос: