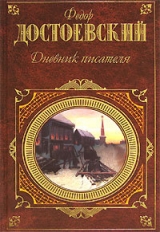
Текст книги "Дневник писателя 1876"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Всего забавнее то, что почтенный теоретик прозревает в современном увлечении в пользу славян серьезную для нас опасность и изо всех сил спешит предупредить нас. Он думает, что мы, в минуту самообольщения, выдадим себе «аттестат зрелости» и полезем спать на печку. Вот что он пишет:
«В этом смысле опасны все часто читаемые нами, по поводу жертв в пользу славян, рассуждения на тему: „факты эти обнаруживают в русском обществе отрадное оживление, они доказывают, что русское общество дозрело до“… и т. д. Склонность любоваться собою в зеркало по поводу международных вопросов и заявлений сочувствия национальностям, а затем засыпать сном труженика, исполнившего свой долг, в нас так велика, что все подобные рассуждения, хотя верные до известной степени, положительно опасны. Ведь мы уже торжествовали свою готовность к жертвам при начале Крымской войны*, праздновали свою общественную зрелость по поводу депеш нашего канцлера в 1863 году*, и по поводу сочувственной встречи, оказанной у нас офицерам североамериканского броненосца*, и по поводу сбора в пользу кандиотов*, и по поводу оваций славянским литераторам в Петербурге и Москве*. Прочтите, что писалось в то время газетами, и убедитесь, что иные фразы ныне буквально повторяются… Спросим себя, что вышло из всех тех „зрелостей“, которые мы поочередно праздновали, и подвинули ли нас вперед те моменты, в которые мы их праздновали?.. Но мы должны помнить, что, следуя влечению, мы не вправе еще претендовать на выдачу нам „аттестата зрелости“…»
Во-первых, тут всё, с первого до последнего слова, не верно действительности. «Склонность-де засыпать сном труженика, исполнившего свой долг, в нас так велика» и т. д. Эта «склонность к засыпанию» есть одно из самых предрассудочных и неверных обвинений устарелого теоретизма, очень любившего много болтать и ничего не делать, именно всегда лежавшего на печке и читавшего нравоучения с печки и именно, в самоупоении своей красотой, беспрерывно заглядывавшего на себя в зеркало. Это предрассудочное, а теперь до невероятности оказенившееся обвинение зародилось именно тогда, когда русский человек, если и лежал на печи или только и делал, что играл в карты, то единственно потому, что ему и не давали ничего делать, не пускали его делать, запрещали ему делать. Но чуть лишь у нас раздвинулись заборы, то русский человек тотчас же обнаружил скорее лихорадочное беспокойство и нетерпение в стремлении к делу и даже неустанность в деле, чем желание лезть на печку. Если же и до сих пор не совсем ладится дело, так ведь это вовсе не потому, что оно не делается, а потому, что при двухсотлетней отвычке от всякого дела нельзя так сразу приобресть способность понимать дело, верно подходить к нему и суметь за него взяться. Вам бы только наставления читать и бранить русского человека, по старой памяти. Я говорю это старым теоретикам, никогда не удостоивавшим, с высоты своего величия, вникнуть в русскую жизнь и хоть что-нибудь изучить в ней, ну, хоть чтобы проверить и поправить свои предрассудочные взгляды старинных давнишних годов.
Но опасение вполне достойное Кифы Мокиевича – это об «аттестате зрелости». Дескать, выдадим себе аттестат зрелости, да и успокоимся, и заснем. Напротив, это лишь старый теоретизм, столь давно уже выдавший себе аттестат зрелости, наклонен к самоупоению, к чтению наставлений и к сладкой полудремоте, а такие молодые, прекрасные, единящие движения всем обществом, как в нынешнем году, способны лишь побудить к дальнейшему преуспеянию и совершенствованию. Такие моменты оставляют лишь благотворный след. И откуда только вы могли вывесть, что русское общество так склонно к самокрасованию и к смотрению на себя в зеркало? Все факты тому противоречат. Напротив, что самое недоверчивое к себе, самое самобичующее общество в целом мире!.. Мы не только славянам сочувствовали, мы и крестьян освободили, а посмотрите, был ли когда в истории русского народа более скептический, более самопроверяющий себя момент, как в эти последние двадцать лет русской жизни? В недоверии к себе мы доходили, в эти годы, до болезненных крайностей, до непозволительной насмешки над собою, до незаслуженного презрения к себе и уж слишком, слишком далеки были от самоупоения нашими совершенствами. Вы говорите, что мы и критянам сочувствовали, и броненосец встречали, и каждый раз писали о своей зрелости и что ничего не вышло из этой зрелости. Да вы даже самые обыденные явления жизни, не только русской, но и всеобщей, перестаете понимать после этого. Ведь если мы и порадовались тогда на себя и на свои успехи, с некоторым преувеличением, то ведь это так естественно в молодом и – стремящемся жить обществе, еще слишком верящем в жизнь и смотрящем на назначение свое серьезно! Это везде, всегда и с каждым народом случается. Возьмите какую-нибудь из древнейших книг в мире – и увидите, что такой точно первый, молодой восторг над своим успехом бывал свойствен даже самым древнейшим народам н мире, а стало быть, существовал с самого начала мира, конечно, под тем условием, если эти народы молоды, полны жизни и будущности. У нас могла быть слишком преждевременная радость на свои успехи и на то, что мы вот бросили же наконец карты и начали тоже заниматься делом, – но опасно ли это хоть сколько-нибудь, как тревожно возвещает нам предостерегатель? Напротив, вот эти-то люди, принимающие настоящую живую жизнь серьезно и радостно, с таким чувством и сердцем, – вот эти-то и не дадут себе заснуть от самовосхваления. Поверьте, что раз возбужденная и забившая горячим ключом жизнь не остановится, самоупоение пройдет мигом, и чем сильнее оно было, тем вернее настанет спасительное отрезвление, с движением вперед и вперед. Но хоть и отрезвимся, а все-таки будем уважать спасительный, молодой, благородный и невинный недавний восторг наш. Вы спрашиваете: А что вышло из этих «зрелостей»? Как что: да вот нынешний момент, может быть, вышел. А не было бы одушевления с критянами и при приеме славянских гостей – не вышло бы и теперь ничего. Общество, стало серьезнее, познакомилось с известным циклом идей и воззрений. Помилуйте, всё делается постепенно на свете, да и народы формируются постепенно, а не рождаются так прямо маленькими рассудительными педантиками. И на что вы сердитесь: «слишком-де увлекаемся движением»; но преждевременное благоразумие, педантизм юношей, играющих роль стариков, опаснее. Вы не любите никакого живого движения, любите больше резонерство, ну что ж – это ваш вкус. О, вы, конечно, ссылаетесь сейчас на Европу: «Франция-де и не то сделала для Италии, что мы, пока, делаем для славян, но разве французское общество, по освобождении Италии, стало считать себя более зрелым, чем прежде?» Вот что вы пишете. Но это уж из рук вон! И нашли кого поставить нам в пример скромности – Францию? Да когда француз не смотрел на себя в зеркало, не красовался самим собою? При Наполеоне I, например, они возбудили к себе всеобщую европейскую ненависть своим нестерпимым гордым видом, своим вседовольством и всеблаженством. Таковы же были они по-настоящему и всегда, до самого 1871 года. Но Франция теперь слишком разъединенная внутренне нация, а потому и наблюдать ее с этой точки довольно трудно. Но как вы скажете, например, насчет англичан или, особенно, немцев? Вот уж не любят-то смотреть на себя в зеркало, вот уж не любят-то хвалиться, особенно немцы! И как верны у вас исторические выводы: «Франция-де и не то сделала для Италии, что мы пока делаем для славян…» Уверяю вас, что собственно сама Франция ровно ничего не сделала для Италии. Освободил северную Италию лишь Наполеон III, по своим политическим соображениям, и вовсе даже неизвестно, освободил ли бы французский народ Италию сам, без Наполеона III и без его политических соображений. По крайней мере, очень трудно решить, произошло ли бы это освобождение итальянцев лишь для их освобождения, а не для некоторого рода политического захвата… Нам вот кажется до сих пор, что и Наполеон III, и сама Франция совсем-таки без большого восторга взирали потом на подвиги несколько обманувшего их Кавура, а когда раздалось столь громкое: «Jamais!»[40]40
«Никогда!» (франц.).
[Закрыть] французского правительства насчет всякого дальнейшего поползновения итальянцев на Рим, то французский народ, может быть, даже и сочувственно выслушал это jamais.* О, конечно правда, что Франция все-таки больше сделала для Италии, чем пока русские для славян; дело это еще не кончено, и дальнейшие результаты его только Богу известны; но трудно Ке же допустить, чтобы столь искреннее, полное любви и уже подкрепленное подвигами высочайшего самоотвержения движение русских за славян нуждалось в таких высших назидательных примерах доблести, как освобождение Северной Италии Наполеоном III… А, впрочем, что ж, вы даже и венгерцев ставите русскому народу в пример великодушия.* Особенно теперь красивы и великодушны венгерцы, не правда ли? Какая узкая в них ненависть ко всякой мысли об облегчении участи славян! Какая ненависть к России! Как это вам пришел на ум такой пример и такой народ?..*
Повторяю, – я очень сожалею, что так распространился, но в этих, впрочем весьма невинных, словах бесспорно умного и доброго, но несколько старого автора, в этом тоне, в котором высказаны эти слова, как бы послышались мне голоса, может быть, уже очень близкого и нехорошего будущего, а потому я и не мог удержаться… О, конечно, эти будущие и возможные голоса не имеют ничего общего с голосом из «Вестника Европы», но они мне почему-то послышались. В самом деле, случись так, что всё это доброе, благородное русское движение в пользу славян, силою обстоятельств, обратится ни во что, что не удастся это дело, что все воротятся и замолкнут – о, какие мы тогда уже новые крики услышим и в каком торжествующем и победном тоне, и уже не невинные, а насмешливые, язвительные, победу празднующие! Тогда-то раздадутся вволю голоса, теперь на время было примолкшие или даже уж запевшие в унисон «благородному порыву». Раздастся хохот в глаза этому благородному порыву, и люди благородного порыва опять сконфузятся, присмиреют, а очень многие так даже и поверят: «да, дескать, это надо было предвидеть», – подумают бедненькие. «Ну что, взяли, верующие! – завопят победившие, – что вышло из вашего единения, из вашей „единящей мысли“? Остались с носом, богатыри! Умные люди вперед знали, чем кончится; разве и могло быть что-нибудь? Да и дело-то выеденного яйца не стоило. Аттестат зрелости себе написали. Зрелее ли вы теперь, господа? Нет, брат, сторонись в свой угол да хихикай в руку по-прежнему – дело складнее выйдет!» Вот что послышится, да и много, много еще другого, чего не упишешь. И сколько опять, сразу, увидим цинизма, сколько опять неверия в свои силы, неверия в самую Россию. Опять начнут отпевать ее! А сколько явится червонных валетов!* А сколько самой чистейшей сердцем молодежи побежит опять вон из общества! Опять разъединение, опять шатание! Кстати, ведь, уж конечно, виконт Биконсфильд, говоря про наши разрушительные элементы, сам знал, что лжет. Даже предчувствовал, может быть, что разрушительные элементы если и есть у нас, то теперь, с новым порывом России, должны будут принять направление иное, – и, уж конечно, такое соображение было очень досадно виконту тарантулу. Теперь же, то есть в случае неудачи «порыва», тарантул очень возрадуется, – он уж знает чему! Но… но разве это похоже на правду? Разве это сбудется? Какой дурной сон! Сон и не больше…
Октябрь
Глава первая
I. Простое, но мудреное дело*Пятнадцатого октября решилось в суде дело той мачехи, которая, помните, полгода назад, в мае месяце, выбросила из окошка, из четвертого этажа, свою маленькую падчерицу*, шести лет, и еще ребенок каким-то чудом остался цел и здоров. Эта мачеха, крестьянка Екатерина Корнилова, двадцати лет, была за вдовцом, который с нею, по показаниям ее, ссорился, не пускал ее в гости к родным, да и родных ее не принимал к себе, попрекал ее покойной женой своей и тем, что при той хозяйство у него шло лучше, и т. д. и т. д., словом, «довел ее до того, что она перестала любить его», и, чтоб отмстить ему, вздумала выкинуть его дочь от той прежней жены, которою он попрекал ее, за окошко, что и исполнила. Одним словом, история, – кроме чудесного спасения ребенка, – по-видимому, представляется довольно простою и ясною историей. С этой точки, то есть с точки «простоты», взглянул на дело и суд, и тоже самым простейшим образом присудил Екатерину Корнилову, «имевшую при совершении преступления более семнадцати лет и менее двадцати, сослать в каторжные работы на два года и восемь месяцев, а по окончании работ сослать в Сибирь навсегда».
И однако, несмотря на всю простоту и ясность, остается тут как бы нечто и не совсем разъяснившееся. Подсудимая (довольно приятная лицом женщина) судилась в последнем периоде беременности, так что в зало заседания суда, на всякий случай, была приглашена и акушерка. Еще в мае, когда случилось это преступление (и когда, стало быть, подсудимая была на четвертом месяце беременности), я записал в моем майском «Дневнике» (впрочем, мельком и мимоходом, рассматривая рутинность и казенщину приемов нашей «адвокатуры») следующие слова: «Вот это-то и возмутительно… тогда как, действительно, поступок этого изверга-мачехи слишком уж странен и, может быть, в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы» Вот что я написал тогда. Теперь проследите по фактам. Во-первых, подсудимая сама признала себя виновною, и это сейчас после совершения преступления, сама же и донесла на себя. Она рассказала тогда же, в участке, что еще накануне думала покончить с падчерицей, которую возненавидела из злобы на мужа, но накануне вечером помешало присутствие мужа. На другой же день, когда тот ушел на работу, она отворила окно, составила на одну сторону подоконника горшки с цветами и велела девочке влезть на подоконник и посмотреть вниз, в окошко. Девочка, разумеется, полезла, может быть даже с охотою, думая и Бог знает что под окном увидеть; но как только влезла, стала на колени и заглянула, опершись руками, в окно, то мачеха приподняла ее сзади за ножки и та бултыхнулась в пространство. Преступница, поглядев вниз на слетевшего ребенка (так сама рассказывает), затворила окошко*, оделась, заперла комнату и отправилась в участок – доложить о случившемся. Вот факты, кажется, чего бы проще, а между тем сколько тут фантастического, не правда ли?* Наших присяжных обвиняли до сих пор, и даже нередко, за иные, действительно уже фантастические, оправдания подсудимых. Иногда возмущалось даже нравственное чувство самых, так сказать, посторонних людей. Мы понимали, что можно жалеть преступника, но нельзя же зло называть добром в таком важном и великом деле, как суд; между тем бывали оправдания почти что в этом роде, то есть зло почти что признавалось добром, по крайней мере очень немного недоставало к тому. Являлась или ложная сентиментальность, или непонимание самого принципа суда, непонимание того, что в суде первое дело, первый принцип дела состоит в том, чтобы зло было определено по возможности, по возможности указано и названо злом всенародно. А там, потом, смягчение участи преступника, забота об исправлении его и т. д. и т. д., – это всё уже другие вопросы, весьма глубокие, огромные, но совершенно различные от дела судебного, а относящиеся совсем к другим отделам жизни общества – отделам, надо сознаться, еще далеко не определившимся и даже совсем не формулированным, так что по этим отделам общественной деятельности, может быть, еще и первого аза не произнесено. А пока в судах наших эти обе разные идеи смешиваются, и выходит иногда Бог знает что. Выходит, что преступление как бы не признается преступлением вовсе; обществу, напротив, как бы возвещается, да еще судом же, что совсем, дескать, и нет преступления, что преступление, видите ли, есть только болезнь, происходящая от ненормального состояния общества, – мысль до гениальности верная в иных частных применениях и в известных разрядах явлений, но совершенно ошибочная в применении к целому и общему, ибо тут есть некоторая черта, которую невозможно переступить, иначе пришлось бы совершенно обезличить человека, отнять у него всякую самость и жизнь, приравнять его к пушинке, зависящей от первого ветра, одним словом, возвестить как бы какую-то новую природу человека, теперь только что открытую какой-то новой наукой. Между тем этой науки еще нет и даже не начиналось. Так что все эти милостивые приговоры суда присяжных, в которых иногда ясно доказанное и подкрепленное полным сознанием преступника преступление отрицалось прямо: «не виновен, не делал, не убивал», – все эти милостивые приговоры (кроме редких случаев, когда они были действительно у места и безошибочны) удивляли народ, а в обществе возбуждали насмешку и недоумение.* И что ж, вот теперь, как только я прочел о решении судьбы крестьянки Корниловой (в каторгу на два года и восемь месяцев), мне вдруг пришло в голову: вот бы им теперь-то оправдать ее, – вот бы теперь сказать: «не было преступления, не убивала, не вышвыривала из окошка». Впрочем, не буду пускаться в какие-нибудь отвлеченности или в чувства, чтоб развить мою мысль. Мне просто кажется, что тут был даже как бы наизаконнейший повод оправдать подсудимую, – а именно, – ее беременность.
Всем известно, что женщина во время беременности (да еще первым ребенком) бывает весьма часто даже подвержена иным странным влияниям и впечатлениям, которым странно и фантастично подчиняется ее дух. Эти влияния принимают иногда, – хотя, впрочем, в редких случаях, – чрезвычайные, ненормальные, почти нелепые формы. Но что в том, что это редко случается (то есть слишком уж чрезвычайные-то явления), – в настоящем случае слишком довольно и того соображения для решающих судьбу человека, что они случаются и даже только могут случаться. Доктор Никитин, исследовавший преступницу (уже после преступления), заявил, что, по его мнению, Корнилова совершила свое преступление сознательно, хотя можно допустить раздражение и аффект. Но, во-первых, что может означать тут слово: сознательно? Бессознательно редко что-нибудь делается людьми, разве в лунатизме, в бреду, в белой горячке. Разве не знает даже хоть и медицина, что можно совершить нечто и совершенно сознательно, а между тем невменяемо. Да вот хоть бы взять сумасшедших: большинство их безумных поступков происходит совершенно сознательно, и они их помнят; мало того, дадут вам в них отчет, будут их защищать перед вами, будут из-за них с вами спорить, и иногда так логично, что, пожалуй, и вы станете в тупик. Я, конечно, не медик, но я, например, запомнил, как рассказывали, еще в детстве моем, про одну даму в Москве, которая, каждый раз, когда бывала беременна и в известные периоды беременности, получала необычайную, неудержимую страсть к воровству. Она воровала вещи и деньги у знакомых, к которым ездила в гости, у гостей, которые к ней ездили, даже в лавках и магазинах, куда заезжала что-нибудь купить. Потом эти краденые вещи возвращались ее домашними по принадлежности. Между тем это была дама слишком не бедная, образованная, хорошего круга; по прошествии этих нескольких дней странной страсти, ей и в голову бы не могло прийти воровать. Всеми решено было тогда, не исключая и медицины, что это лишь временный аффект беременности. Между тем, уж конечно, она воровала сознательно и вполне давая себе в этом отчет. Сознание сохранялось вполне, но лишь перед влечением она не могла устоять. Надо полагать, что медицинская наука вряд ли может сказать и до сих пор, в подобных явлениях, что-нибудь в точности, то есть насчет духовной стороны этих явлений: по каким именно законам происходят в душе человеческой такие переломы, такие подчинения и влияния, такие сумасшествия без сумасшествия, и что собственно тут может значить и какую играет роль сознание? Довольно того, что возможность влияний и чрезвычайных подчинений, во время беременности женщин, кажется неоспорима… И что в том, повторяю, что слишком чрезвычайные влияния эти слишком редко и встречаются: для совести судящего достаточно, в таких случаях, лишь соображения, что они всё же могут случиться. Положим, скажут: не пошла же она воровать, как та дама, или не выдумала же чего-нибудь необыкновенного, а, напротив, сделала всё именно как раз
относящееся к делу, то есть просто отомстила ненавистному мужу убийством его дочери от той прежней жены его, которою ее попрекали. Но, воля ваша: хоть тут и понятно, но всё же не просто; хоть тут и логично, но согласитесь, что – не будь она беременна, может быть, этой логики и не произошло бы вовсе. Произошло бы, например, вот что: оставшись одна с падчерицей, прибитая мужем, в злобе на него, она бы подумала в горьком раздражении, про себя: «Вот бы вышвырнуть эту девчонку, ему назло, за окошко», – подумала бы, да и не сделала. Согрешила бы мысленно, а не делом. А теперь, в беременном состоянии, взяла да и сделала. И в том, и в другом случае логика была та же, но разница-то большая.
По крайней мере присяжные, если б оправдали подсудимую, могли бы на что-нибудь опереться: «хоть и редко-де бывают такие болезненные аффекты, но ведь всё же бывают; ну так что, если и в настоящем случае был аффект беременности?» Вот соображение. По крайней мере, в этом случае милосердие было бы всем понятно и не возбуждало бы шатания мысли. И что в том, что могла выйти ошибка: лучше уж ошибка в милосердии, чем в казни, тем более, что тут и проверить-то никак невозможно. Преступница первая же считает себя виновною; она сознается сейчас же после преступления, созналась и через полгода на суде. Так и в Сибирь, может быть, пойдет, по совести и глубоко в душе считая себя виновною; так и умрет, может быть, каясь в последний час и считая себя душегубкой; и вдомек ей не придет, да и никому на свете, о каком-то болезненном аффекте, бывающем в беременном состоянии, а он-то, может быть, и был всему причиной, и не будь она беременна, ничего бы и не вышло… Нет, из двух ошибок уж лучше бы выбрать ошибку милосердия. Спать было бы лучше потом… А впрочем, что ж я: занятому человеку не о спанье думать; у занятого человека сто таких дел, и спит он крепко, когда дорвется до постели усталый. Это у праздного человека, у которого в целый год одно такое дело случится или два, – это у того бывает много времени думать. Такому, пожалуй, и начнет мерещиться, от нечего делать. Одним словом, праздность есть мать всех пороков.
А кстати, тут ведь сидела акушерка и – посмотрите: осудив преступницу, осудили вместе с нею и ее младенца, еще не родившегося, – не правда ли, как это странно? Положим, что неправда; но согласитесь, что как будто очень похоже на правду, да еще самую полную. В самом деле, ведь вот уж он, еще прежде рождения своего, осужден в Сибирь вслед за матерью, которая его вскормить должна. Если же он пойдет с матерью, то отца лишится; если же обернется как-нибудь дело так, что оставит его у себя отец (не знаю, может ли он теперь это сделать), то лишится матери… Одним словом, еще до рождения лишен семьи, это во-первых, а потом он вырастет, узнает всё про мать и будет… А впрочем, мало ли что будет, лучше смотреть на дело просто. Просто посмотреть – и исчезнут все фантасмагории. Так и надо в жизни. Я даже так думаю, что все этакие вещи, с виду столь необыкновенные, на деле всегда обделываются самым обыкновенным и до неприличия прозаическим образом. В самом деле, посмотрите: этот Корнилов теперь опять вдовец – ведь он тоже теперь свободен, брак его расторгнут ссылкой в Сибирь его жены; и вот его жена – не жена, родит ему на днях сына (потому что разродиться-то ей уж наверно дадут до дороги), и пока она будет больна, в острожной больнице или там, куда ее на это время положат, Корнилов, бьюсь об заклад в этом, будет ее навещать самым прозаическим образом и, знаете, ведь почем знать, может быть, с этой же девчонкой, за окошко вылетевшей, и будут они сходиться и говорить всё об делах самых простых и насущных, об каком-нибудь там мизерном холсте, об теплых сапогах и валенках ей в дорогу. Почем знать, может быть, самым задушевным образом сойдутся теперь, когда их развели, а прежде ссорились. И не попрекнут, может быть, друг друга даже и словом, а разве так только поохают на судьбу, друг дружку и себя жалеючи. Эта же вылетевшая из окна девчонка, повторяю, наверно будет бегать от отца каждый день на побегушках «к мамоньке», калачи ей носить; «Вот, дескать, мамонька, тятенька вам чаю с сахаром еще прислали, а завтра сами зайдут». Самое трагическое будет то, что завоют, может быть, в голос, когда будут прощаться на железной дороге, в последнюю минуту, между вторым и третьим звонком; завоет тут же и девчонка, разинув рот до ушей, на них глядя, а они наверно поклонятся оба, каждый в свою очередь, друг другу в ноги: «прости, дескать, матушка Катерина Прокофьевна, не помяни лихом»; а та ему: «прости и ты меня, батюшка, Василий Иванович (или там как его)*, виновата я перед тобой, вина моя великая…» А тут еще грудной младенчик заголосит, который уж наверно тут же будет находиться, – возьмет ли она его с собой или у отца оставит. Одним словом, с нашим народом никогда поэмы не выйдет, не правда ли? Это самый прозаический народ в мире, так что почти даже стыдно за него в этом отношении становится. о ли, например, вышло бы в Европе: какие страсти, мщения и при каком достоинстве! Ну, попробуйте описать это дело в повести, черту за чертой, начиная с ой жены у вдовца до швырка у окна, до той минуты, она поглядела в окошко: расшибся ли ребенок, – тотчас в часть пошла; до той минуты, как сидела на суде с акушеркой, и вот до этих последних проводинов и поклонов, и… и представьте, ведь я хотел написать «и, уж конечно, ничего не выйдет», а между тем ведь оно, может, вышло бы лучше всех наших поэм и романов с героями «с раздвоенною жизнью и высшим прозрением». Даже, знаете, ведь я просто не понимаю, чего это смотрят наши романисты: ведь вот бы им сюжет, вот бы описать черту за чертой одну правду истинную! А, впрочем, что ж я, забыл старое правило: не в предмете дело, а в глазе: есть глаз – и предмет найдется, нет у вас глаза, слепы вы, – и ни в каком предмете ничего не отыщете. О, глаз дело важное, что на иной глаз поэма, то на другой – куча…
А неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор Корниловой? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка… Ну так вот и мерещится, что ошибка!








