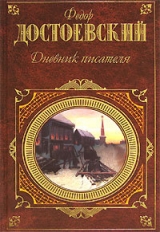
Текст книги "Дневник писателя 1876"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла эта женщина?
О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла – все-таки вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, – ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных.
Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтоб осталось так. Она тому не поверила, вот что! Нет, нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно: любить так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью под видом любви или четвертьлюбовью. Честны уж очень, вот что-с! Широкость сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль.
Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня или нет? Не думаю, чтоб презирала. Странно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда с строгим удивлением. С строгим именно. Тут-то я сразу и понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно, навеки! Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но – пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! И как бы мог я предположить даже за пять минут? Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!
О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга, но разве нельзя было опять приучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтиться и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже – вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня, не больше, и она бы всё поняла.
Главное, обидно то, что всё это случай – простой, варварский, косный случай. Вот обида! Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять минут – и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы всё поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого – вот беда!
Я хожу, я всё хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вам смешно, что я жалуюсь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она даже записки не оставила, что вот, дескать, «не вините никого в моей смерти», как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут
потревожить даже Лукерью: «Одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее». По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из окошек из флигеля и со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Но ведь и это тоже случай, что люди стояли и видели. Нет, всё это – мгновение, одно лишь безотчетное мгновение. Внезапность и фантазия! Что ж такое, что перед образом молилась? Эта не значит, что перед смертью. Всё мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь десять минут, всё решение – именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась и – и не могла устоять перед нею.
Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии? Устала она в зиму, вот что…
Опоздал!!!
Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала – ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта «горстка крови». Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то… о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, – но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! Измучил я ее – вот что!
Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите, офицер!» А я закричу ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь». О, мне всё равно!
Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила, – и пусть, ну что же? Всё и было бы так, всё бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне как другу, – вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила, – ну и пусть,
пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы… О, пусть всё, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде всё поняла!
Косность! О, природа! Люди на земле одни – вот беда! «есть ли в поле жив человек?» – кричит русский богатырь. кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец?* Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание – вот земля! «Люди, любите друг друга» – кто это сказал? Чей это завет?* Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее… Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?
Декабрь
Глава первая
I. Опять о простом, но мудреном делеРовно два месяца назад, в октябрьском «Дневнике» моем, я сделал заметку об одной несчастной преступнице, Катерине Прокофьевой Корниловой, – той самой мачехе, которая в мае месяце, в злобе на мужа, выбросила из окна свою шестилетнюю падчерицу. Дело это особенно известно тем, что эта маленькая девочка, падчерица, выброшенная из окна четвертого этажа, не ушиблась, не повредила себе ничего и теперь жива и здорова. Не буду припоминать мою октябрьскую статью в подробности, – может быть, читатели ее не забыли. Напомню лишь о цели моей статьи: мне сразу показалось всё это дело слишком необыкновенным, и я тотчас же убедился, что на него нельзя смотреть слишком просто. Несчастная преступница была беременна, была раздражена попреками мужа, тосковала. Но не то, то есть не желание отмстить попрекавшему и огорчавшему ее мужу, было причиною преступления, а «аффект беременности». По моему мнению, она переживала в то время несколько дней или недель того особого, весьма неисследованного, но неоспоримо существующего состояния иных беременных женщин, когда в душе беременной женщины происходят странные переломы, странные подчинения и влияния, сумасшествия без сумасшествия, и которые могут иногда доходить до слишком сильных уродливостей. Я представил пример, известный мне еще с детства, одной дамы в Москве, которая каждый раз в известный период своей беременности впадала в странное желание и подчинялась странной прихоти – воровству. Между тем эта дама ездила в карете и совсем не нуждалась в тех вещах, которые похищала, но, уж конечно, воровала сознательно и вполне давая себе в этом отчет. Сознание сохранялось вполне, но лишь перед странным влечением своим она не могла устоять. Вот что и писал два месяца назад и, признаюсь, писал с самою отдаленною и безнадежною целью: нельзя ли хоть как-нибудь и чем-нибудь помочь и облегчить участь несчастной, несмотря на страшный приговор, уже произнесенный над нею. В статье моей я не мог удержаться и не высказать, что если наши присяжные выносили столько раз совершенно оправдательные приговоры, преимущественно женщинам, несмотря на полное их сознание в совершении преступления и на очевидные доказательства этого преступления, вполне выясненного судом, – то, как казалось мне, можно бы было оправдать и Корнилову. (Как раз несколько дней спустя после приговора над несчастной беременной Корниловой, осужденной в каторжную работу и в Сибирь навеки, была совершенно оправдана одна престранная преступница-убийца, Кирилова*). Впрочем, выпишу, что я написал тогда:
«По крайней мере присяжные, если б оправдали подсудимую, могли бы на что-нибудь опереться: „Хоть и редко-де бывают такие болезненные аффекты, но ведь всё же бывают; ну что, если и в настоящем случае был аффект беременности?“ Вот соображение. По крайней мере в этом случае милосердие было бы всем понятно и не возбуждало бы шатания мысли. И что в том, что могла выйти ошибка: лучше уж ошибка в милосердии, чем в казни, тем более что тут и проверить-то никак невозможно. Преступница первая же считает себя виновною; она сознается сейчас же после преступления, созналась и через полгода на суде. Так и в Сибирь, может быть, пойдет, по совести и глубоко в душе считая себя виновною; так и умрет, может быть, каясь в последний час и считая себя душегубкой; и вдомек ей не придет, да и никому на свете, о каком-то болезненном аффекте, бывающем в беременном состоянии, а он-то, может быть, и был всему причиной, и не будь она беременна, ничего бы и не вышло… Нет, из двух ошибок уж лучше бы выбрать ошибку милосердия».
Написав всё это тогда, я, увлеченный моей идеей, размечтался и прибавил в статье моей, что вот эта бедная двадцатилетняя преступница, которая на днях должна родить в тюрьме, может быть, уже сошлась опять с своим мужем. Может быть, муж (теперь свободный и имеющий право вновь жениться) ходит к ней в тюрьму, в ожидании отсылки ее в каторгу, и оба вместе плачут и горюют. Может быть, и потерпевшая девочка ходит к «мамоньке», забывши всё и от всей души к ней ласкаясь. Нарисовал даже сцену их прощания на железной дороге. Все эти «мечты» мои вылились тогда у меня под перо не для эффекта и не для картин, а мне просто почувствовалась жизненная правда, состоящая тут в том, что оба они, и муж, и жена, хотя и считают – он ее, а она себя – несомненно преступницей, но на деле не могли не простить друг друга, не помириться опять, – и не по христианскому только чувству, а именно по невольному инстинктивному ощущению, что совершенное преступление, в их простых глазах столь явное и несомненное, – в сущности, может быть, вовсе не преступление, а что-то такое странно случившееся, странно совершившееся, как бы не по своей воле, как бы Божиим определением за грехи их обоих…
Закончив тогдашнюю статью и выдав №, я, под впечатлением того, что сам намечтал, решил постараться из всех сил повидать Корнилову, пока еще она в остроге. Сознаюсь, что мне очень любопытно было проверить: угадал ли я вправду что-нибудь в том, что написал о Корниловой и о чем потом размечтался? Как раз случилось одно весьма благоприятное обстоятельство, доставившее мне скорую возможность посетить Корнилову и с ней познакомиться*. И вот я даже сам был удивлен: представьте себе, что из мечтаний моих по крайней мере три четверти оказались истиною: я угадал так, как будто сам был при том. Муж действительно приходил и приходит, действительно оба плачут, горюют друг над другом, прощаются и прощают. «Девочка пришла бы, – сказала мне сама Корнилова, – но она теперь в какой-то школе, в закрытом заведении». Я жалею, что не могу передать всего, что узнал из жизни этого разрушенного семейства, а тут есть черты весьма даже любопытные, ну, конечно, может быть, в своем роде. О, разумеется, я кое в чем и ошибся, но не в существенном: Корнилов, например, хоть и крестьянин, но ходит в немецком платье, гораздо моложе, чем я предполагал о нем, служит черпальщиком в экспедиции заготовления государственных бумаг* и получает довольно значительное для крестьянина помесячное жалованье, стало быть, гораздо богаче, чем я предполагал в мечтах моих. Она же – швея, была швеей и даже и теперь, в остроге, занимается швейной работой по заказу и достает тоже деньги порядочные. Одним словом, дело идет не совсем «о холсте и валенках ей в дорогу и о чае с сахаром», а тон несколько повыше. Когда я пришел в первый раз, она уже несколько дней как родила, и не сына, а дочь, и проч. и проч. Несходства мелкие, но в главном, в сущности ошибки никакой.
Она была тогда, на время родов, в особом помещении и сидела одна; в углу, рядом на кровати, лежала новорожденная, которую накануне лишь окрестили. Ребенок, как я взошел, слабо вскрикнул с тем особым маленьким треском в голосе, какой бывает у всех новорожденных. Кстати, эта тюрьма почему-то даже и тюрьмой не называемом предварительного содержания преступников».
В ней, впрочем, содержится очень много преступников, но по иным весьма любопытным отделам преступлений, и о которых, когда придет время, может быть, я поговорю. Но прибавлю кстати, что я вынес весьма утешительное впечатление, по крайней мере в этом женском
отделении тюрьмы, видя несомненную гуманность отношений надзирательниц к преступницам. Потом я был и в других камерах, например в той, где были соединены преступницы, имеющие грудных детей. Я сам видел заботы, внимательность, уход за ними этих почтенных ближайших их начальниц. И хоть не очень долго наблюдал, но есть же такие черты, такие слова, такие поступки и движения, которые разом сказывают о многом. С Корниловой я пробыл в первый раз минут двадцать: это миловидная, очень молодая женщина, с взглядом интеллигентным, но очень даже простодушная. Сначала, минуты две, она была несколько удивлена моим приходом, но быстро поверила, что видит подле себя своего, ей сочувствующего, каким я и отрекомендовался ей при входе, и стала со мной совсем откровенна. Она не из очень разговорчивых и не из очень находчивых в разговоре, но то, что говорит, то говорит твердо и ясно, видимо правдиво и – всегда ласково, но без всякой услащенности, без всякой искательности. Она говорила со мной не то что как с ровным, а почти как с своим. Тогда еще, вероятно под влиянием очень недавних родов и воспоминания о произнесенном, тоже столь недавно, над нею приговоре (в самые последние дни беременности), она была несколько возбуждена и даже заплакала, вспомнив об одном показании, сделанном против нее в суде, о выговоренных будто бы ею каких-то словах сейчас в день преступления и которых она будто бы никогда не говорила*. Она очень горевала о несправедливости этого показания, но поразило меня то, что говорила она вовсе не желчно и всего лишь воскликнула: «Значит, уж такая была судьба!» Когда я тут же заговорил об ее новорожденной дочке, она тотчас же стала улыбаться: «Вчера, дескать, окрестили». «Как же зовут?» – «А как меня, Катериной». Эта улыбка приговоренной в каторгу матери на своего ребенка, родившегося в остроге сейчас после приговора, которым осужден и он, еще не бывший тогда и на свете, вместе с матерью, – эта улыбка произвела во мне странное и тяжелое ощущение. Когда я стал ее расспрашивать осторожно о ее преступлении, то тон ее ответов тотчас же мне чрезвычайно понравился. Она отвечала на всё прямо и ясно, нисколько не уклончиво, так что я сейчас увидал, что никаких особенных предосторожностей тут не надо. Она вполне сознавалась, что она преступница во всем, в чем ее обвинили. Сразу поразило меня тоже, что про мужа своего (в злобе на которого и выбросила в окно девочку) она не только не сказала мне чего-нибудь злобного, хоть капельку обвинительного, но даже было совсем напротив. «Да как же всё это сделалось?» – и она прямо рассказала, как сделалось. «Пожелала злое, только совсем уж тут не моя как бы воля была, а чья-то чужая». Помню, она прибавила (на мой вопрос), что хоть и пошла сейчас в участок заявить о случившемся, но «идти в участок совсем не хотела, а как-то так сама пришла туда, не знаю зачем, и всё на себя показала».
Я еще накануне посещения узнал, что защитник ее, господин Л., подал приговор на кассацию; стало быть, всё же оставалась некоторая, хотя и слабая, надежда. Но у меня, кроме того, была еще в голове и некоторая другая надежда, о которой я, впрочем, теперь умолчу, но о которой тогда же, под конец моего посещения, ей сообщил.* Она выслушала меня без большой веры в успех моих мечтаний, но расположению моему к ней поверила от всей души и тут же меня поблагодарила. На мой вопрос: не могу ли я ей в чем-нибудь сейчас быть полезным, она, тотчас же догадавшись, об чем я заговариваю, ответила мне, что ни в чем не нуждается, что деньги у ней есть и работа есть. Но в этих словах не прозвучало ни малейшей обидчивости, так что если б у ней не было денег, то она, может быть, вовсе не отказалась бы принять от меня небольшое вспоможение.
Раза два я потом опять заходил к ней.* Между прочим, я нарочно заговорил однажды об совершенном оправдании убийцы Кириловой, происшедшем всего только несколько дней спустя после обвинительного приговора над ней, Корниловой, – но не заметил в ней ни малейшей зависти или ропота. Положительно, она наклонна думать о себе как о чрезвычайной преступнице. Присматриваясь к ней ближе, я невольно заметил, что в основе этого довольно любопытного женского характера лежит много ровности, порядка и, что особенно заинтересовало меня, – веселости. Тем не менее ее видимо мучают воспоминания: она с глубоким икренним горем сожалеет о том, что была строга к ребенку, «невзлюбила его», била его, слушая беспрерывные попреки мужа покойной женой и, как я догадался, видимо ревнуя его к этой покойной жене. Ее заметно смущает, между прочим, мысль, что муж ее теперь свободен и даже может жениться, и она с большим удовольствием передала мне однажды, тотчас же как я пришел к ней, что недавно приходил к ней муж и сам ей сказал, что «до того ли ему теперь, чтобы об женитьбе думать!», – значит, именно она сама, и первая, заговорила с ним об этом, подумал я. Повторю опять, она вполне понимает, что после приговора, над нею произнесенного, ее муж совсем уж ей не муж и что брак их расторгнут. Действительно у них происходят, стало быть, прелюбопытные свидания и разговоры, подумалось мне тут же.
В эти посещения мне случилось говорить об ней с несколькими надзирательницами острога и с г-жой А. П. Б.* – помощницей смотрительницы острога. Я подивился той видимой симпатии, которую в них во всех возбудила к себе Корнилова. Г-жа А. П. Б. сообщила мне, между прочим, одно любопытное свое наблюдение, а именно: когда вступила к ним в острог Корнилова (вскоре после преступления), то это было совсем как бы другое существо, грубое, невежливое, злое, скорое на злые ответы. Но не прошло двух-трех недель, как она совсем и как-то вдруг изменилась: явилось существо доброе, простодушное, кроткое, «и вот так и до сих пор». Сообщение это показалось мне весьма подходящим к делу. Но беда была в том, что дело-то было уже решено и подписано и приговор произнесен. И вот на днях меня известили, что приговор суда, поданный на кассацию, кассирован (вследствие нарушения 693 ст. угол, суд.) и поступит вновь на рассмотрение другого отделения суда с участием присяжных заседателей.* Таким образом, теперь, в настоящую минуту. Корнилова опять подсудимая, не каторжная и опять законная жена своего мужа, а он ей законный муж! Стало быть, опять для нее засияла надежда. Дай Бог, чтоб эту молодую душу, столь много уже перенесшую, не сломило окончательно новым обвинительным приговором. Тяжело переносить такие потрясения душе человеческой: похоже на то, как бы приговоренного к расстрелянию вдруг отвязать от столба, подать ему надежду, снять повязку с его глаз, показать ему вновь солнце и – через пять минут вдруг опять повести его привязывать к столбу. В самом деле, неужели так-таки не будет дано ни малейшего внимания обстоятельству беременности подсудимой во время совершения злодеяния? Важнейшая часть обвинения состоит, разумеется, в том, что всё же она совершила преступление сознательно; но опять-таки – что и какую роль играет в этом случае сознание? Сознание могло сохраниться вполне, но против сумасшедшего, извращенного болезненным аффектом желания своего устоять она не могла, несмотря на самое яркое сознание. Неужели это кажется столь невозможным? Не будь она беременна, она в момент своего злобного раздражения подумала бы, может быть, так: «Скверная девчонка, выбросить бы ее за окно, чтоб он не попрекал меня каждый час ее матерью», – подумала бы и не сделала бы; а в беременном состоянии – не устояла и сделала. Разве это не могло так именно случиться? И что в том, что она сама показывает на себя, что еще накануне хотела выбросить из окна ребенка, да муж помешал? Всё же это преступное намерение, так логически и твердо задуманное и так методически (с перестановкой горшков с цветами и проч.) на другое утро выполненное, ни в каком случае нельзя отнести к обыкновенному расчетливому злодейству: тут именно случилось нечто неестественное, ненормальное. Подумайте об одном: выбросив девочку и заглянув в окно посмотреть, как она упала* (девочка в первую минуту была без чувств и ее из окна, конечно, можно было почесть за убитую), убийца закрывает окно, одевается и – идет в участок, где всё на себя показывает. Но для чего ей показывать на себя, если б она задумала злодеяние твердо и спокойно и с хладнокровным расчетом? Кто, где свидетели, что это она выбросила ребенка, а не сам ребенок выпал по неосторожности? Да она и воротившегося мужа могла бы тотчас же уверить в том, что ребенок сам выпал, а она ни в чем не виновата (так что мужу б отмстила, а себя оправдала). Да если б она даже убедилась тогда же, выглянув в окно, что ребенок не расшибся, а, напротив, жив и может, стало быть, потом дать на нее показание, – то и тут она могла бы ничего не бояться: что могло бы значить в глазах судебного следствия показание шестилетней девочки о том, что ее приподняли сзади за ноги и выбросили в окно? Да всякий эксперт-доктор мог бы тут подтвердить, что ей именно могло показаться (то есть если б даже она и сама упала) в минуту потери ранновесия и падения, что кто-то как бы схватил ее сзади за ножки и толкнул вниз. Но если так, то для чего же преступница сама тотчас же отправилась на себя показывать? Ответят конечно: «Была в отчаянии, хотела покончить с собой так или этак». Действительно, другого объяснения и приискать нельзя, но уж одно это объяснение показывает, в каком душевном напряжении и расстройстве была эта беременная. Любопытны ее собственные слова: «Я в участок идти не хотела, а так как-то сама пришла». Значит, действовала как в бреду, «не своей как бы волей», несмотря на полное сознание.
С другой стороны, свидетельство г-жи А. П. Б. тоже страшно много поясняет: «Это было совсем другое существо, грубое, злое, и вдруг через две-три недели совсем изменившееся: явилось существо кроткое, тихое, ласковое». Почему же так? А вот именно кончился известный болезненный период беременности – период больной воли и «сумасшествия без сумасшествия», с ним прошел болезненный аффект и – явилось существо другое.
Вот что: еще раз вновь осудят ее в каторгу, вновь ее, столь уже пораженную и столь вынесшую, поразят и раздавят вторым приговором и, двадцатилетнюю, еще почти не начавшую жить, с грудным младенцем на руках ринут в каторгу и – что же выйдет? Много вынесет она из каторги? Не ожесточится ли душа, не развратится ли, не озлобится ли навеки? Кого когда исправила каторга? И главное – всё это при совершенно неразъясненном и не-опровергнутом сомнении о болезненном аффекте тогдашнего беременного ее состояния. Опять повторю, как два месяца назад: «Лучше уж ошибиться в милосердии, чем в казни». Оправдайте несчастную, и авось не погибнет юная душа, у которой, может быть, столь много еще впереди жизни и столь много добрых для нее зачатков. В каторге же наверно всё погибнет, ибо развратится душа, а теперь, напротив, страшный урок, уже вынесенный ею, убережет ее, может быть, на всю жизнь от худого дела; а главное, может быть, сильно поможет развернуться и созреть тем семенам и зачаткам хорошего, которые видимо и несомненно заключены в этой юной душе. И если бы даже сердце ее было действительно черствое и злое, то милосердие смягчило бы его наверно. Но уверяю вас, что оно далеко не черствое и не злое и что об этом не я один свидетельствую. Неужели ж нельзя оправдать, рискнуть оправдать?








