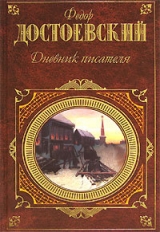
Текст книги "Дневник писателя 1876"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 40 страниц)
Но надо кончить с г-ном Энпе. С ним случилось то, что бывает со многими из его «типа»: для них что ясно и что слишком скоро они могут понять, то и глупо. Ясность они гораздо наклоннее презирать, чем хвалить. Другое дело что-нибудь с завитком и с туманом: «А, мы этого не понимаем, значит, тут глубина».
Он говорит, что «рассуждение» моего самоубийцы есть лишь «бред полусумасшедшего человека» и «давно известно». Я очень наклонен думать, что «рассуждение» это стало ему «известным» лишь по прочтении моей статьи. Что же касается до «бреда полусумасшедшего», то этот бред (известно ли это г-ну Энпе и всей их коллекции?) – этот бред, то есть вывод необходимости самоубийства, есть для многих, даже для слишком уже многих в Европе – как бы последнее слово науки. Я в кратких словах выразил это «последнее слово науки» ясно и популярно, но единственно чтоб его опровергнуть, – и не рассуждением, не логикой, ибо логикой оно неопровержимо (и я вызываю не только г-на Энпе, но и кого угодно опровергнуть логически этот «бред сумасшедшего»), – но верой, выводом необходимости веры в бессмертие души человеческой, выводом убеждения, что вера эта есть единственный источник живой жизни на земле – жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и» заключений…
А в заключение нечто совсем уж комическое. В том же октябрьском № я сообщил о самоубийстве дочери эмигранта: «Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать. Так и умерла. Пред смертью написала записку: „Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресенье из мертвых с бокалами клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землею. Очень даже не шикарно выйдет“».
Г-н Энпе высокомерно рассердился на эту «пустенькую» самоубийцу и заключил, что поступок ее «никакого внимания не заслуживает». Рассердился и на меня за «мой наивный до крайности» вопрос о том, которая из двух самоубийц больше мучилась на земле? Но тут вышло нечто смешное. Он вдруг прибавил: «Смею думать, что человек, желающий приветствовать свое возвращение к жизни с бокалами шампанского в руках» (разумеется, в руках) «не много мучился в этой жизни – когда опять с таким торжеством вступает в нее, ничуть не изменяя ее условий – и даже не думая о них…»
Какая смешная мысль и какое смешное соображение! Тут, главное, соблазнило его шампанское: «Кто пьет шампанское, тот, стало быть, не может мучиться». Да ведь если б она так любила шампанское, то осталась бы жить, чтоб пить его, а ведь она написала про шампанское перед смертью, то есть перед серьезною смертью, слишком хорошо зная, что наверно умрет. Шансу очнуться опять она не могла очень верить, да и не представлял он ей ничего отрадного, потому что очнуться опять значило для нее, конечно, очнуться для нового самоубийства. Шампанское, стало быть, тут ни при чем, то есть вовсе не для того, чтоб пить его, – и неужели это разъяснять надо? Написала же она о шампанском из желания сделать, умирая, какой-нибудь выверт померзче и погрязнее. Потому-то и выбрала шампанское, что грязнее и мерзче этой картины пития его при своем «воскресении из мертвых» не нашла другой. Нужно же ей было написать это для того, чтобы оскорбить этой грязью всё, что она оставляла на земле, проклясть землю и земную жизнь свою, плюнуть на нее и заявить этот плевок к сведению тех близких ей, которых она покидала. Из-за чего же такая злоба в этой семнадцатилетней девочке? (NB. Ей было семнадцать лет, а не двадцать, я ошибся в моей статье, и меня потом поправили знавшие это дело лучше). И на кого злоба? Ее никто не обижал, она ни в чем не нуждалась, она умерла, по-видимому, тоже совсем без причины. Но именно эта-то записка, именно то, что она так интересовалась в такой час сделать такой грязный и злобный выверт (что очевидно), именно это и наводит на мысль, что жизнь ее была безмерно чище этого грязного выверта и что злоба, что безмерное озлобление этого выверта и свидетельствует, напротив, о страдальческом, мучительном настроении ее духа, о ее отчаянии в последнюю минуту жизни. Если б она умерла от какой-нибудь апатичной скуки, не зная зачем, то не сделала бы этого выверта. К такому состоянию духа надо относиться человеколюбивее. Страдание тут очевидное, и умерла она непременно от духовной тоски и много мучившись. Чем она успела так измучиться в 17 лет? Но в этом-то и страшный вопрос века. Я выразил предположение, что умерла она от тоски (слишком ранней тоски) и бесцельности жизни – лишь вследствие своего извращенного теорией воспитания в родительском доме, воспитания с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жизни, с намеренным истреблением в душе ее всякой веры в ее бессмертие. Пусть это лишь мое предположение, но ведь не для того же, в самом деле, умерла она, чтоб оставить лишь после себя подлую записку – на удивление, как кажется и предполагает г-н Энпе? «Никто же плоть свою возненавиде».* Истребление себя есть вещь серьезная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьезная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения. Года полтора назад мне показывал один высокоталантливый и компетентный в нашем судебном ведомстве человек пачку собранных им писем и записок самоубийц*, собственноручных, писанных ими перед самою смертию, то есть за пять минут до смерти. Помню две строчки одной пятнадцатилетней девочки, помню тоже каракули карандашом, писанные в ехавшей карете, в которой тут же и застрелился самоубийца, не доехав куда везли его. Я думаю, если б даже и г-н Энпе переглядел эту интереснейшую пачку, то и в его душе, может быть, совершился бы некоторый переворот и в спокойное сердце его проникло бы смятение. Но не знаю. Во всяком случае к этим фактам надо относиться человеколюбивее и отнюдь не так высокомерно. В фактах этих, может быть, мы и сами все виноваты, и никакой чугун не спасет нас потом от бедственных последствий нашего спокойствия и высокомерия, когда восполнятся сроки и придет время этих последствий.
Но довольно. Я не одному г-ну Энпе, а многим господам Энпе ответил.
Глава вторая
I. Анекдот из детской жизни*Расскажу, чтоб не забыть.
Живут на краю Петербурга, и даже подальше, чем на краю, одна мать с двенадцатилетней дочкой. Семья небогатая, но мать имеет занятие и добывает средства трудом, а дочка посещает в Петербурге школу и каждый раз, когда уезжает в школу или возвращается из школы домой, ездит в общественной карете, отправляющейся от Гостиного двора до того места, где они живут, и обратно по нескольку раз в день, в известные сроки.
И вот однажды, недавно, месяца два назад, как раз когда у нас вдруг и так быстро установилась зима и начался первопут с целой неделей тихих, светлых дней, а два-три градуса морозу, однажды вечером мать, смотря на дочку, сказала ей:
– Саша, я вижу, ты никаких уроков не твердишь, вот сколько уже вечеров замечаю. Знаешь ли ты уроки-то?
– Ах, мамочка, не беспокойся, я всё приготовила; на всю даже неделю вперед приготовила.
– Хорошо, коли так.
Назавтра отправилась Саша в школу, а в шестом часу кондуктор общественной кареты, в которой должна была воротиться Саша, соскочив мимоездом у их ворот, подал «мамочке» от нее записку следующего содержания:
«Милая мамочка, я всю неделю была очень дурной девочкой. Я получила три нуля и всё тебя обманывала. Воротиться мне к тебе стыдно, и я уж больше к тебе не вернусь. Прощай, милая мамочка, прости меня, твоя Саша».
Можно представить, что сталось с матерью. Разумеется, тотчас же хотела бросить занятия и лететь в город разыскивать Сашу хоть по каким-нибудь следам. Но где? Как? Случился тут один близкий знакомый, принявший горячее участие и вызвавшийся тотчас же отправиться в Петербург и там, справившись в школе, искать и искать по всем знакомым и хоть целую ночь. Главное, представившееся соображение, что Саша может воротиться тем временем сама, раскаявшись в прежнем решении, и если матери дома не застанет, то, пожалуй, опять уйдет, заставило мать остаться и довериться горячему участию доброго человека. В случае же, если Саша не отыщется к утру, положили чем свет заявить полиции. Оставшись дома, мать провела несколько тяжелых часов, и я их не описываю, так как можно и так понять.
«И вот, – рассказывает мать, – уже около десяти часов вдруг слышу знакомые маленькие скорые шаги во дворе по снегу и потом по лесенке. Отворяется дверь и – вот Саша.
– Мамочка, ах, мамочка, как я рада, что пришла к тебе, ах!
Сложила руки перед собой ладошками, потом закрыла себе ими лицо и села на кровать. Такая усталая, измученная. Ну, тут, разумеется, первые восклицания, первые вопросы; мать осторожна, упрекать пока не смеет.
– Ах, мамочка, как только я вчера тебе солгала про уроки, так вчера же и решилась: в школу больше не ходить и к тебе не возвращаться; потому что как же я в школу ходить не буду, а тебя каждый день буду обманывать, что хожу?
– Да как же ты с собой-то быть хотела? Коль не в школе и не у меня, так где же?
– А я думала, что на улице. Как день, я бы всё по улицам ходила. Шубка на мне теплая, а прозябну – в Пассаж зайду, а вместо обеда каждый день по булке покупать, ну а пить – так как уж нибудь, теперь снег. Одной булки мне довольно. У меня 15 копеек, по три копейки на булку, вот и пять дней.
– А там?
– А там не знаю, дальше я не подумала.
– Ну а ночевать-то, ночевать-то где?
– А ночевать, я это обдумала. Как уж темно и как уж поздно, я думала всякий день ходить на железную дорогу, туда дальше, за воксал, где никого уж нет и где ужасно много вагонов стоит. Влезть в какой-нибудь этот вагон, который уж видно, что не пойдет, и ночевать до утра. Я и пошла. И далеко зашла, туда за воксал, и никого там нет, и вижу совсем в стороне вагоны стоят и совсем не такие, в которых все ездят. Вот, думаю, влезу в какой-нибудь этот вагон, и никто не увидит. Только я начала влезать, а вдруг сторож мне и закричал:
– Куда лезешь? В этих вагонах мертвых возят. Услышала я это, соскочила, а он уж, вижу, ко мне подходит: „Вам чего, говорит, здесь надо?“ Я от него бежать, бежать, он что-то закричал, только я убежала. Иду я, так испугалась. Воротилась на улицы, хожу и вдруг вижу дом, большой дом, каменный, строится, еще только кирпичный, стекол, дверей нет и забиты досками, а кругом забор. Вот, думаю, если б пройти как-нибудь туда в дом, то там ведь никто не увидит, темно. Зашла я с переулка и сыскала такое место, что хоть и заколочено досками, а можно пролезть. Я и пролезла, прямо как в яму, там еще земля; я пошла ощупью по стене в угол, а в углу доски, кирпичи. Вот, думаю, тут и ночую на досках. Так и легла. Только вдруг слышу, точно кто тихо очень говорит. Я приподнялась, а в самом углу слышу говорят, тихо, и точно на меня оттуда глаза смотрят. Тут я уж очень испугалась, побежала как раз в ту самую дверь опять на улицу, а они меня, слышу, зовут. Успела выскочить. А я-то думала, что дом пустой.
Тут как вышла я опять, то очень вдруг устала. Так устала, так устала. Иду по улицам, народ ходит, который час, не знаю. Вышла я на Невский проспект, иду около Гостиного и совсем плачу. „Вот, думаю, прошел бы какой добрый человек, пожалел бы бедную девочку, которой ночевать негде. Я уж призналась бы ему, а он бы мне сказал: пойдемте к нам ночевать“. Думаю я всё об этом, иду и – вдруг гляжу, стоит наш дилижанс и последний раз сюда отправляться хочет, а я-то думала, что он уже давно ушел. „Ах, думаю, поеду к маме!“ Села я, и так теперь, мамочка, рада, что к тебе воротилась! Никогда я тебя больше обманывать не буду и учиться буду хорошо, ах, мамочка! ах, мамочка!
Спрашиваю ее, – рассказывает мать дальше, – Саша, да неужель ты всё это сама выдумала – и в школу чтоб не ходить и на улице жить?
– Видишь, мамочка, тут я давно уже познакомилась с одной девочкой, такая же как и я, только она в другую школу ходит. Только, веришь ли, она никогда почти не ходит, а дома всем говорит каждый день, что ходит. А мне она сказала, что учиться ей скучно, а на улице очень весело. „Я, говорит, как выйду из дому, всё хожу, всё хожу, а в школу вот уж две недели не показывалась, в окна в магазины смотрю, в Пассаже хожу, булку съем – до самого вечера, как домой идти". Я как узнала про это от нее, тогда же подумала: „Вот бы мне так же", и стало мне скучно в школе. Только я и намерения не имела до самого вчерашнего дня, а вчера как солгала тебе, и решилась…»
Анекдот этот – правда. Теперь, уж разумеется, матерью приняты меры. Когда мне рассказали его, я подумал, что очень нелишнее напечатать его в «Дневнике». Мне позволили, конечно с полным incognito. Мне разумеется, возразят сейчас же: «Единичный случай, и просто потому, что девочка очень глупа». Но я знаю наверно, что девочка очень не глупа. Знаю тоже, что в этих юных душах, уже вышедших из первого детства, но еще далеко не дозревших до какой-нибудь хоть самой первоначальной возмужалости, могут порою зарождаться удивительные фантастические представления, мечты и решения. Этот возраст (двенадцати– или тринадцатилетний) необычайно интересен, в девочке еще больше, чем в мальчике. Кстати о мальчиках: помните вы года четыре назад напечатанное в газетах известие о том, как из одной гимназии бежали три чрезвычайно юные гимназиста в Америку и что их поймали уже довольно далеко от их города, а вместе захватили и бывший с ними пистолет.* Вообще и прежде, поколение или два назад, в головах этого очень юного народа тоже могли бродить мечты и фантазии, совершенно так же как у теперешних, но теперешний юный народ как-то решительнее и гораздо короче на сомнения и размышления. Прежние, надумав проект (ну хоть бежать в Венецию, начитавшись о Венеции в повестях Гофмана и Жорж Занда, – я знал одного такого)*, всё же проектов своих не исполняли и много что поверяли их под клятвою какому-нибудь товарищу, а теперешние надумают да и выполнят*. Впрочем, прежних связывало и чувство их долга, ощущение обязанности, – к отцам, к матерям, к известным верованиям и принципам. Нынче же, бесспорно, связи эти и ощущения стали несколько слабее. Меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося. Оттого, может быть, одностороннее и голова работает, и, уж разумеется, всё это от чего-нибудь.
А главное, это вовсе не единичные случаи*, происходящие от глупости. Повторяю, этот чрезвычайно интересный возраст вполне нуждается в особенном внимании столь занятых у нас педагогией педагогов и столь занятых теперь «делами» и не делами родителей. И как легко может всё это случиться, то есть всё самое ужасное, да еще с кем: с нашими родными детьми! Подумать только о том месте в этом рассказе матери, когда девочка «вдруг устала, идет и плачет и мечтает, что встретится добрый человек, сжалится, что бедной девочке негде ночевать, и пригласит ее с собою». Подумать, что ведь это желание ее, свидетельствующее о ее столь младенческой невинности и незрелости, так легко могло тут же сбыться и что у нас везде, и на улице и в богатейших домах так и кишит вот именно этими «добрыми человечками! Ну, а потом, наутро? Или прорубь, или стыд признаться, а за стыдом признаться и грядущая способность, все затаив про себя, с воспоминанием ужиться, а потом об нем задуматься, уже с другой точки зрения, и всё думать и думать, но уже с чрезвычайным разнообразием представлений, и всё это мало-помалу и само собой; ну а под конец, пожалуй, и желание повторить случай, а затем и всё остальное это с двенадцати-то лет! И всё шито-крыто. Ведь шито-крыто в полном смысле слова! А эта другая девочка, которая вместо школы в магазины заглядывает и в Пассаж заходит, и нашу девочку научила? Я прежде слыхивал в этом роде про мальчиков, которым учиться скучно, а бродяжитьвесело. (NB. Бродяжничество есть привычка, болезненная и отчасти наша национальная, одно из различий наших с Европой, – привычка, обращающаяся потом в болезненную страсть и весьма нередко зарождающаяся с самого детства. Об этой национальной страсти нашей я потом непременно поговорю*). Но вот, стало быть, возможны и бродячие девочки. И, положим, тут полная пока невинность; но будь невинна как самое первобытное существо в раю, а всё не избегнет «познания добра и зла», ну хоть с краюшку, хоть в воображении только, мечтательно. Улица ведь такая бойкая школа. А главное, повторяю еще и еще: тут этот интереснейший возраст, возраст, вполне еще сохранивший самую младенческую, трогательную невинность и незрелость с одной стороны, а с другой – уже приобревший скорую до жадности способность восприятия и быстрого ознакомления с такими идеями и представлениями, о которых, по убеждению чрезвычайно многих родителей и педагогов, этот возраст даже и представить себе будто бы ничего еще не может. Это-то вот раздвоение, эти-то две столь несходные половины юного существа в своем соединении представляют чрезвычайно много опасного и критического в жизни этих юных существ.
II. Разъяснение об участии моем в издании будущего журнала «Свет»*В «Дневнике писателя» (и опять в том же октябрьском №) было мною помещено объявление об издании в 1877 году нового журнала «Свет» профессором Н. П. Вагнером. И вот только что появилось это объявление, как стали меня расспрашивать о будущем журнале и о будущем моем в нем участии. Я отвечал всем, кому мог ответить, что в журнале «Свет» я, по приглашению Н. П. Вагнера, обещал поместить лишь рассказ и что в этом и будет состоять всё мое в нем участие. Но теперь вижу необходимость оговорить это даже печатно, ибо с вопросами не перестают; я получаю каждый день письма от моих читателей и ясно вижу из этих писем, что читатели мои почему-то вдруг убедились, что участие мое в журнале «Свет» будет несравненно обширнее, чем упомянуто о нем в объявлении профессора Вагнера, то есть что я почти перехожу в «Свет», начинаю новую деятельность, расширяю прежнюю, и что если я и не соучастник в издании или редактировании будущего журнала, то уже непременно участник в его идее, в замысле, в плане и проч. и проч.
На это и заявляю теперь, что в будущем 1877 году буду издавать лишь «Дневник писателя» и что «Дневнику» и будет принадлежать, по примеру прошлого года, вся моя авторская деятельность. Что же до нового издания «Свет», то ни в замысле, ни в плане, ни в соредактировании его не участвую. Даже самая идея будущего журнала мне еще совсем неизвестна, и я жду появления его первого №, чтоб в первый раз с нею познакомиться. Полагаю, что особую близость мою к журналу «Свет» вывели из того лишь, что в «Дневнике писателя» напечатано было о нем самое первое объявление, а потом как-то так почему-то случилось, что это объявление довольно долгое время не повторялось ни в одной газете. Во всяком случае обещать дать рассказ в другое издание еще не значит бросить свое и перейти в то издание, а искреннейшее мое желание успеха предприятию уважаемого Н. П. Вагнера основано всего лишь только на личной моей надежде и даже на убеждении встретить в его журнале нечто новое, оригинальное и полезное, – но далее и подробнее я ничего о журнале «Свет» не знаю. Издание это мне чужое и пока столько же мне известное, сколько и всякому, прочитавшему о нем газетное объявление.
III. На какой теперь точке делоГод кончился, а этим двенадцатым выпуском заканчивается первый год издания «Дневника писателя». От читателей моих я встретил весьма лестное мне сочувствие, а между тем и сотой доли не сказал того, что намеревался высказать, а из высказанного, вижу теперь, многое не сумел выразить ясно с первого разу и даже бывал понят превратно, в чем, конечно, виню наиболее себя. Но хоть и мало успел сказать, а всё же надеюсь, что читатели мои уже и из высказанного в этом году поймут характер и направление «Дневника» в будущем году. Главная цель «Дневника» пока состояла в том, чтобы по возможности разъяснять идею о нашей национальной духовной самостоятельности и указывать ее, по возможности, в текущих представляющихся фактах. В этом смысле, например, «Дневник» довольно много говорил о нашем внезапном национальном и народном движении нынешнего года в так называемом «славянском деле». Выскажем вперед: «Дневник» не претендует представлять ежемесячно политические статьи; но он всегда будет стараться отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения и в текущих политических событиях. Например, из наших статей о «славянском движении» нынешнего года читатели, может быть, уже уяснили себе, что «Дневник» желал лишь выяснить сущность и значение этого движения собственно и, главное, относительно нас, русских; указать, что дело для нас состоит не в одном славизме и не в политической лишь постановке вопроса в современном смысле его. Славизм, то есть единение всех славян с народом русским и между собою, и политическая сторона вопроса, то есть вопросы о границах, окраинах, морях и проливах, о Константинополе и проч. и проч., – всё это вопросы хотя, без сомнения, самой первостепенной важности для России и будущих судеб ее, но не ими лишь исчерпывается сущность Восточного вопроса для нас, то есть в смысле разрешения его в народном духе нашем. В этом смысле эти первостепенной важности вопросы отступают уже на второй план. Ибо главная сущность всего дела, по народному пониманию, заключается несомненно и всецело лишь в судьбах восточного христианства, то есть православия. Народ наш не знает ни сербов, ни болгар; он помогает, и грошами своими и добровольцами, не славянам и не для славизма, а прослышав лишь о том, что страдают православные христиане, братья наши, за веру Христову от турок, от «безбожных агарян»; вот почему, и единственно поэтому, обнаружилось всё движение народное этого года. В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства – в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и непереставаемая в народе нашем с древнейших времен, непрестанная, может быть, никогда, – и это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего. Московские старообрядцы снарядили и пожертвовали от себя целый (и превосходный) санитарный отряд и послали его в Сербию;* и, однако, они отлично знали, что сербы не старообрядцы, а такие же как и мы, с которыми они в деле веры не сообщаются. Тут высказалась именно идея о дальнейших, окончательных судьбах православного христианства, хотя бы и в отдаленных временах и сроках, и надежда будущего единения всех восточных христиан воедино; и, помогая христианам против турок, притеснителей христианства, они, стало быть, сочли сербов такими же настоящими христианами, как и сами, несмотря на временные различия, и даже хотя бы только в будущем. В этом смысле пожертвование это имеет даже историческое значение, наводит на отрадные мысли и подтверждает отчасти наше указание о том, что в судьбах христианства и заключается вся цель народа русского, хотя бы даже и разъединенного временно иными фиктивными различиями в вероисповедании. В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и оберегать от неверных всё вселенское православие. Если не прямо выскажет вам эту мысль всякий из народа, то я утверждаю, что выскажут ее вполне сознательно уже весьма многие из народа, а эти очень многие имеют бесспорно влияние и на весь остальной народ. Так что прямо можно сказать, что эта мысль уже во всем народе нашем почти сознательная, а не то что таится лишь в чувстве народном. Итак, в этом лишь едином смысле Восточный вопрос и доступен народу русскому. Вот главный факт.
Но еслитак, то взгляд на Восточный вопрос должен принять несравненно более определенный вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не то что лишь образованием, например, своим, богатствами, просвещением и проч., как в некоторых государствах Европы, ставших, за дряхлостью и потерею живой национальной идеи, совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. Думаю, что так еще долго будет. Но если народ понимает славянский и вообще Восточный вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное и не внешнее лишь политическое, а касается самой сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдашнее до самого конечного своегот разрешения. Россия уже не может отказаться от движения своего на Восток в этом смысле и не может изменить его ибо она отказалась бы тогда от самой себя. И если временно, параллельно с обстоятельствами, вопрос этот и мог, и несомненно должен был принимать иногда направление иное, если даже и хотели и должны были мы уступать иногда обстоятельствам, сдерживать наши стремления, то все же в целом вопрос этот, как сущность самой жизни народа русского, непременно должен достигнуть когда-нибудь необходимо главной цели своей, то есть соединения всех православных племен во Христе и в братстве, и уже без различия славян с другими остальными православными ародностями. Это единение может быть даже вовсе не политическим. Собственно же славянский, в тесном смысле о слова, и политический, в тесном значении (то есть моря, проливы, Константинополь и проч.), вопросы разрешатся при этом, конечно, сами собою в том смысле, в котором они будут наименее противуречить решению главной и основной задачи. Таким образом, повторяем, с этой народной точки весь этот вопрос принимает вид незыблемый и всегдашний.
В этом отношении Европа, не совсем понимая наши национальные идеалы, то есть меряя их на свой аршин и приписывая нам лишь жажду захвата, насилия, покорения земель, в то же время очень хорошо понимает насущный смысл дела.
Не в том для нее вовсе дело, что мы теперь не захватим земель и обещаемся ничего не завоевывать: для нее гораздо важнее то, что мы, всё еще по-прежнему и по-всегдашнему, неуклонны в своем намерении помогать славянам и никогда от этой помощи не намерены отказаться. Если же и теперь это совершится и мы славянам поможем, то мы, в глазах Европы, приложим-де новый камень к той крепости, которую постепенно воздвигаем на Востоке, как убеждена вся Европа, – против нее. Ибо, помогая славянам, мы тем самым продолжаем укоренять и укреплять веру в славянах в Россию и в ее могущество и всё более и более приучаем их смотреть на Россию как на их солнце, как на центр всего славянства и даже всего Востока. А это укрепление идеи стоит, в глазах Европы, завоеваний, несмотря даже на всех уступки, которые готова сделать Россия, честно и верно, для успокоения Европы. Европа слишком хорошо понимает, что в этом насаждении идеи и заключается пока вся главная сущность дела, а не в одних только вещественных приобретениях на Балканском полуострове. Понимает тоже Европа, что и русская политика великолепно сознает про всю эту сущность своей задачи. А если так, то как же не бояться ей, Европе? Вот почему Европа всеми средствами желала бы взять себе в опеку славян, так сказать, похитить их у нас и, буде возможно, восстановить их навеки против России и русских.* Вот почему она бы и желала, чтоб Парижский трактат продолжался сколь возможно долее*; вот откуда происходят тоже и все эти проекты о бельгийцах, о европейской жандармерии и проч., и проч.* О, всё, только бы не русские, только бы как-нибудь отдалить Россию от взоров и помышлений славян, изгладить ее даже из их памяти! И вот на какой теперь точке дело.








