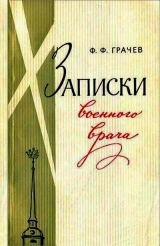
Текст книги "Записки военного врача"
Автор книги: Федор Грачев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Командировка за светом
 тром в кабинете Луканина я застал небольшого роста бойца в полушубке. Это был Емельян Никитич Городецкий, с которым мне предстояло идти на «Севкабель».
тром в кабинете Луканина я застал небольшого роста бойца в полушубке. Это был Емельян Никитич Городецкий, с которым мне предстояло идти на «Севкабель».
Комиссар протянул мне бумажку с бледным, едва различимым машинописным текстом: от холода высохла лента.
Командировочное удостоверение.
Предъявитель сего военврач 3-го ранга тов. Грачев Ф. Ф. командируется на завод «Севкабель» для переговоров о приобретении 1000 метров кабеля, необходимого для подвода госпиталю электроэнергии.
Батальонный комиссар Ф. Луканин.
Путь на «Севкабель» не близкий – в Гавань. В оба конца километров семь.
Вышли на Университетскую набережную. Закутанные во все теплое, медленно бредут студенты и преподаватели. Встречаем Ирину Митрофановну Покровскую.
– Как жизнь, Ирина Митрофановна?
– В трудах и заботах. У нас зимняя сессия. Экзамены…
– Ну и как?
– Сами понимаете…
Дымят вмерзшие в Неву корабли. Стволы башенных орудий подняты к небу. По берегу расставлены зенитные батареи.
На Неве – проруби. Над ними – завитки морозного пара. От жуткого мороза вода выпирает из-подо льда. Она не успевает застывать, как на нее накипает новая. И кажется, что дышит скованная льдами широкая река.
У обледенелого гранитного спуска люди с ведрами, бидонами, чайниками, кастрюлями.
Снега, снега. Исчезли тротуары, завалены сугробами подвальные окна. С крыш домов свисают большие снежные карнизы. Того и гляди обвалятся!
По дороге разговорился с Городецким. Доброволец армии народного ополчения. Его часть была окружена противником. С боями вышли из окружения. Партизанил в тылу врага. Был обморожен.
До войны Городецкий – начальник одной из теплоэлектроцентралей Ленэнерго. Емельян Никитич хорошо знал директора завода «Севкабель» Алексея Корнильевича Козловского: вместе учились в Политехническом институте. К Козловскому мы сейчас и бредем.
Большой проспект – главная магистраль Васильевского острова – завален сугробами. Лучшие в городе громадные дубы, ясени, клены – все в инее. Зимняя сказка! Но тут же занесенные снегом трамвайные вагоны, повисшие, скрюченные провода.
Редкие прохожие закутаны до самых глаз – мороз около тридцати градусов. Заиндевевшие ресницы. Густой пар от дыхания.
Витрина, забитая щитом из досок. На щите объявления. Почти все написаны карандашом: чернила в нетопленных квартирах давно застыли.
Одно объявление запомнилось:
«Срочно меняю прекрасный рояль „Беккер“ на все, что можно есть!»
Последние слова дважды подчеркнуты синим карандашом.
Городецкий шел медленно, он еще не совсем поправился после обморожения.
– Зайдемте ко мне, – предложил он. – Это по пути. Хочу повидать семью. Жена с детьми не успела эвакуироваться.
По обледенелым от воды ступенькам поднялись на пятый этаж. Дверь отворила ссутулившаяся женщина С покрытым копотью лицом.
– Емельян! Выписали!
– Нет, Таня, пока еще в госпитале. Зашел ненадолго.
В холодной комнате на кровати лежали два мальчика.
– Папа пришел! Папа! – встрепенулись ребята, увидев отца.
– Лежите! – прикрикнула мать. – Не тратьте сил!
– Папа, ты насовсем? – высунулся из-под одеяла давно не стриженный мальчишка.
– Нет еще.
– А скоро совсем придешь?
– Не знаю, Валя.
В углу комнаты «буржуйка». Труба выведена в форточку, заделанную жестью. – Под ножками печки – противень.
– Садитесь! – предложил мне Емельян Никитич, но, окинув взглядом комнату, почесал в затылке.
– Стулья сожгли, – сказала жена.
– Правильно сделали! – одобрил Городецкий.
Емельян Никитич выложил на стол свои приношения: завернутую в бумажку пшенную запеканку и кусок хлеба – остаток от дневного пайка в госпитале.
Каша замерзла. Дров не было. Городецкий, не долго думая, вынул два ящика из письменного стола и быстро превратил их в дрова.
И вот вспыхнуло чудодейственное пламя. «Буржуйка» не имела кирпичной футеровки и потому быстро нагрелась. Глухо ворчит блокадная печка. На ней – сковородка. Порывшись в ящике закопченного трельяжа, жена Городецкого взяла пузырек и показала мне:
– Думаю, что это можно употребить?
«Олеум персикорум», – прочел я на этикетке.
– За неимением гербовой, пишут на простой…
Через несколько минут персиковое масло, пузырясь, шипело на сковородке. Разогрев на этом масле запеканку, Городецкий аккуратно разделил ее на три равные части. Две из них поднес ребятам в кровати, третью протянул жене.
– А ты? – спросила она.
– Я сыт…
…Мы продолжали свой путь по Большому проспекту. Наконец добрались до завода «Севкабель».
В проходной завода неподвижная фигура. Очень трудно понять, кто это. Мужчина или женщина? Лицо так укутано, что мы видим только одни ввалившиеся, поблекшие глаза. А на руках – обрезанные перчатки, какие обычно зимой носили кондуктора трамвая.
Нам выдали пропуск на завод.
В кабинете за большим столом сидел в полушубке мужчина лет сорока с седыми висками. Он медленно встал, по-старчески опираясь на ручки кресла.
– Емельян! Какими судьбами? Садитесь, товарищи!
Мы объяснили цель своего прихода.
– Что-нибудь придумаем, товарищи.
Где-то совсем близко грохнул снаряд. Второй… Зазвенели стекла в кабинете.
– Начинается! – нахмурился директор, снимая трубку. – Козловский говорит. Куда кладут?.. Так… Извините, придется подождать. Выйду посмотрю, что там делается…
Директор вернулся минут через двадцать с главным инженером завода Быковым.
– Дмитрий Вениаминович, вот о чем речь. Надо помочь большому госпиталю. Холод у них, тьма! Рентген не работает. Хирургам невозможно делать операции. Как твое мнение?
– Тысяча метров? Для завода это, конечно, не цифра. Кабель нам сейчас не нужен, отправлять-то его все равно некуда, – как бы вслух размышлял Быков. – Я – за!
Козловский молча взял командировку и написал: «Отпустить из остатков довоенных заказов. Для временного пользования».
– Но ведь кабель занесен снегом, – напомнил директору главный инженер. – Его надо еще откопать, черт возьми!
– Где взять рабочих? – сказал как бы про себя Козловский. – Надо подумать…
– Для этого госпиталь даст людей, – обрадованный таким результатом, сказал Городецкий.
– Тогда все в порядке!
Прощаясь с нами, Козловский открыл ящик письменного стола и вынул оттуда пять толстых свечей:
– Передайте начальнику госпиталя… Пригодятся…
Электротрасса
 так, кабель есть.
так, кабель есть.
Теперь надо получить разрешение подключиться к Василеостровской водопроводной подстанции.
Ягунов на «Антилопе-гну» поехал в «Электроток». А в это время в тесном клубе, слабо освещенном фонарем «летучая мышь», было созвано внеочередное партийное собрание. Это было самое короткое партийное собрание из тех, на которых мне пришлось присутствовать. На нем обсуждался один вопрос – порядок работы на трассе: водопроводная подстанция – госпиталь.
Вскоре вернулся Ягунов. Разрешение получено!
Немедленно десять человек во главе с Луканиным, вооружившись лопатами, отправились на грузовой машине отрывать кабель из-под снега.
Но они быстро вернулись. Рабочие «Севкабеля» заявили:
– Ваше дело лечить раненых, мы сами все сделаем!
Через два дня кабель был доставлен в госпиталь. Теперь дело за тем, чтобы поставить столбы, на которые надо подвесить кабель. Но где взять столбы? Достал их вездесущий Зыков. Можно приступать к работе. Об этом узнали раненые. Они осаждали просьбами Ягунова и Луканина.
– Товарищ начальник, вы народ хлипкий, а мы люди физического труда, – настаивал председатель старостата раненых всего госпиталя старший лейтенант Николай Вахрамеев.
– Слышишь, комиссар, хлипкие? – улыбнулся Ягунов.
– Он не это хотел сказать, – уточнил Луканин. – Я его мысль понимаю…
– Вы не обижайтесь, товарищ начальник, – продолжал Вахрамеев. – Вот посмотрите на этого сибиряка, – показал раненый на стоявшего рядом с ним коренастого мужчину. – Он котельщик будь здоров! Стол может зубами поднять!
– Я родом из Красноярска, – поддержал сибиряк. – У нас морозы – птицы на лету падают. Я морозоустойчивый. И к тому же «морж»…
– Это как надо понимать? – заинтересовался Ягунов.
– Купаюсь в реке зимой, в проруби…
– Вот выздоровеете, тогда поговорим.
– А печи мы складывали? Топчаны делали? – перечислял морозоустойчивый «морж». – Как же так? Не годится такое дело, товарищ начальник. С чем мы вернемся к нашим товарищам в палаты? Засмеют!..
– Земля-то ведь промерзла, – продолжал Вахрамеев. – Гранит! Ее и киркой-то не сразу возьмешь. Товарищ начальник, а что если так, – скороговоркой произнес старший лейтенант, – мы только пройдем по первому разу, ямы для столбов выроем. А вы – остальное? – предложил «первопроходец».
Но Ягунов был непоколебим. От помощи раненых отказались. Работу мы начали посменно. Медицинский персонал, политруки, санитарки, дворник Семеныч – все вышли на трассу.
Бригады возглавляли Ягунов, Луканин, Зыков и секретарь партийной организации Михаил Галкин. Общее руководство взял на себя Городецкий.
Подстанция находилась около километра от госпиталя. Надо было ставить столбы.
Начали с рытья ям. Сухой морозный воздух обжигал горло. Мерзлая почва казалась железной. Она поддавалась с большим трудом. Поди угрызи ее! Орудовали вручную – ломами и пешнями. Все это нашлось у «хозяйственного мужичонки», по словам Ягунова, – у Семеныча.
Руки в теплых варежках, но и сквозь них пальцы поламывает от холода. Людей окутывают пары клубящегося дыхания. Все побелели от инея.
Мой напарник – Коптев. Лом, конечно, – не скальпель. Удивляешься, откуда у хирурга рождаются силы.
Ягунов обходит цепочку работающих. Останавливается около Коптева. Снимает с усов сосульки. Смотрит на него ласково:
– Иван Сергеевич, одолеем мы эту трассу? – и, зябко передернув плечами, размашисто похлопывает руками по бокам.
– Обязательно! Надо – еще не то сделаем!..
Ягунов молча показывает хирургу растопыренную пятерню – отлично! Оценка правильная. Тон всем землекопам задавала бригада Коптева.
Поединок с землей, скованной морозом, продолжался три дня.
Наступил вечер 30 января. И словно по мановению волшебной палочки, из конца в конец госпиталя, в закопченных палатах, в операционных, перевязочных – везде ярко зажглись огни электрических ламп, разогнав гнетущую темноту.
Честно говоря, «ярко» – это не то слово, лампочки горели тускловато. Но тогда нам казалось, что в госпитале засияло солнце!
Вот он, свет! Что творилось в госпитале! От неописуемой радости люди обнимали друг друга! Пожалуй, можно с полным основанием сказать, что если бы у каждого госпиталя в Ленинграде был свой герб, то, конечно, на фронтоне нашего здания водрузили бы вот такую простую электролампочку! Она бы символизировала трижды благословенное чувство взаимопомощи ленинградцев в обороне своего города.
Теперь под наблюдением Емельяна Никитича Городецкого осторожно приступили к запуску моторов. Ожила котельная! Появилось тепло! Эта радость на некоторое время заглушила многие наши огорчения.
«На некоторое время» – потому, что через пять дней к нашей электротрассе подключился соседний госпиталь. Он стал тратить свет без всякого учета возможностей. Расплата не заставила себя долго ждать: от перегрузки сгорели предохранители. Тогда нас… отключили от подстанции.
Ягунов немедленно вскочил в «Антилопу-гну» и опять помчался в управление «Электротока». Сердобольный инженер «Электротока» А. А. Принцев вновь разрешил подключиться, но установил госпиталю очень жесткий лимит. Этот лимит строго выполняли, помня предупреждение: малейший пережог – и нас отключат навсегда. Во всех помещениях, кроме операционной и перевязочных, горело по одной двадцати-пятисвечовой лампочке. Но и это было таким облегчением, о котором мы еще недавно могли только мечтать.
«Дом-сказка»
 конце января с младшим братом Иваном я решил сходить домой. Оба давно там не были. Брат – начальник штаба 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона – только что выписался из госпиталя после ранения.
конце января с младшим братом Иваном я решил сходить домой. Оба давно там не были. Брат – начальник штаба 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона – только что выписался из госпиталя после ранения.
Улицы погружены в темноту. Редкие прохожие да патрули. Тишина. Тишина затаившего дыхание города.
Пересекаем Неву по пешеходной дорожке, протоптанной по льду. Где-то далеко полыхает пожарище.
На площади Труда зарево обозначилось ярче. Миновав Поцелуев мост, вышли на просторную Театральную площадь. Горело в конце улицы Декабристов.
Чем ближе мы подходили к горящему дому, тем теплее становилось на улице. На лицо садилась сажа.
Пожар захватил три верхних этажа большого дома на углу проспекта Маклина и улицы Декабристов, расписанного по мотивам русских сказок. Здание это так и называли: «Дом-сказка».
Огонь бушевал. Языки пламени то вспыхивали в окнах, озаряя покрытые лазурью яркие картинки на стене, то исчезали в рыжем косматом дыму. Под ногами хрустели осколки стекол.
От жара вблизи дома таял снег. Вокруг неторопливо бродили люди. Кружками и кастрюлями они черпали воду из луж и наливали в ведра. Нет, не для того, чтобы попытаться этими каплями погасить пожар. Просто видели, что натаяло столько снега, и торопились сделать запас драгоценной воды. Ведь водопровод не работал.
– Давно горит? – спросил я у женщины, закутанной в платок.
– Третий день…
Погревшись у огня, мы пошли дальше.
Под воротами родного дома сидел дворник.
– Как живешь, Антон?
– Жену похоронил. Да и сам еле ноги таскаю…
Я поднялся на площадку, открыл дверь квартиры.
Из темного коридора пахнуло сыростью и плесенью.
– Кто дома? – громко спросил я, засветив фонарик.
Ответа не последовало.
Вошел в свою комнату. Вещи целы. Два окна без стекол. На полу слой снега. Стены, диван, стол и книжный шкаф затянуло инеем.
На книжном шкафу любимая игрушка сына: бархатная, с оторванным хвостом, собачка. Покрытая инеем, она похожа на зайца.
«Надо обязательно забить окна, – подумал я, – иначе все в комнате погибнет».
Пошел на кухню в надежде найти гвозди и молоток. В коридоре услышал глухой стон. Он исходил из комнаты моего соседа, архитектора Игоря Нипоркина.
Войдя туда, засветил фонарик. На кровати, укутанная одеялами, поверх которых было еще пальто, лежала мать Игоря, Вера Матвеевна. Рядом стул. На нем – оцинкованное ведро, наполненное снегом.
– Федя, подойди поближе, – узнав меня, тихо попросила Вера Матвеевна. – Согрей кипятку…
Старая женщина была в состоянии крайнего истощения. Дров в комнате не оказалось. Пришлось разрубить на кухне деревянное корыто и растопить кастрюлю снега.
– Где Игорь? – спросил я.
– На работе. Недавно был. Он на казарменном положении. Плохо мне. В землю прошусь…
Я поправил одеяло на кровати и сел рядом.
– Ты слушай меня, – продолжала старушка. – Передай управдому: пусть он позвонит Игорю. Номер телефона под подушкой.
– Игорю я позвоню сам, Вера Матвеевна. И не хороните себя раньше времени…
Я говорил слова утешения, но понимал: женщина обречена. Как я мог в такой момент думать о своем барахле, забивать окна? К черту все это!
Пошел ночевать к брату: его квартира помещалась на той же площадке, что и моя.
– Спать лучше не раздеваясь, – посоветовал брат. – Теплее. И потом, того…
«Того» не пришлось долго ждать. Едва мы уснули, завыли сирены. Дом потряс глухой удар. По крыше забарабанили осколки зенитных снарядов. Добрались до чердака. Над нами топот ног, лязг лопат.
– Спокойно! Сбрасывать на улицу! – раздался на крыше повелительный бас.
– Кто это? – спросил кого-то брат.
– Плешаков Иван Иванович.
– Разве он не эвакуировался?
– Нет. Когда театр уезжал, у него тяжело заболела дочь.
Плешаков – солист Академического театра оперы и балета имени Кирова, бас, – спустился с крыши. Мы встретились с Иваном Ивановичем на площадке лестницы.
Брат осветил фонариком знакомое лицо. Плешаков был в распахнутой шубе. Мне невольно вспомнился довоенный эпизод. В такой же морозный зимний день я встретил Ивана Ивановича у дома и о чем-то спросил его. Он молча показал на укутанную шарфом до подбородка шею и, нагнувшись к моему уху, прошептал:
– Извините, завтра спектакль. На улице не разговариваю.
Я напомнил ему об этом. Иван Иванович невесело усмехнулся:
– Сейчас я в другой роли: начальник жактовской команды местной противовоздушной обороны! Тоже в своем роде премьер!
Утром я возвращался в госпиталь. Колючий ветер обжигал лицо. Сугробы на улицах напоминали застывшие волны. По узеньким, протоптанным в снегу тропкам, шатаясь и падая, брели люди.
Слышен скрип салазок. Чуть живые везут мертвых. Завернутых в простыни, во что попало, без гробов.
Гробы делать не из чего. Да и сил на это нет.
На саночках же везут в стационары и дистрофиков.
Санки стали единственным доступным населению видом транспорта.
Обгоняя прохожих, по улице прошел грузовик, оставляя за собой резкий запах хвои. На машине приделан блокадный самовар-газогенератор. Бензина нет. Топливом для газогенераторных машин служат чурки.
На улице Декабристов, у булочной, прижавшись к стене, стояла очередь, скованная лютой стужей. Люди ждали, когда привезут хлеб.
Два человека в полушубках и подшитых валенках везут санки с каким-то грузом, покрытым брезентом. Остановившись около очереди в булочную, сняли брезент. Кинохроника. Кадры, которые сняли эти полуживые кинооператоры, вошли впоследствии в фильм «Ленинград в борьбе».
«Чернорабочий литературы»
 ожелтевшие от времени листки. На сгибах они протерлись. Из глубин памяти будто пахнуло дымком коптилок блокадных дней. И кажется, что слышишь разрывы снарядов, грохот рвущихся бомб…
ожелтевшие от времени листки. На сгибах они протерлись. Из глубин памяти будто пахнуло дымком коптилок блокадных дней. И кажется, что слышишь разрывы снарядов, грохот рвущихся бомб…
В декабре, когда в госпитале не было света, поздним вечером меня вызвал Луканин. В кабинете комиссара коптила «лампада». Было прохладно, чтобы не сказать – холодно.
В кожаном кресле с высокой спинкой сидел старик. В черном пальто с потертым каракулевым воротником. Черный малахай с расстегнутыми тесемками был надвинут на самые брови.
Откинувшись на спинку кресла, незнакомец вытянул ноги в больших подшитых валенках с задранными вверх носками.
– Вот и Грачев, – сказал комиссар, когда я вошел в кабинет.
Старик чуточку улыбнулся и, протягивая мне руку, слегка приподнялся:
– Кугель.
Потом добавил:
– Иона.
И опустился в кресло.
– Вот какое дело, – устало сказал Луканин. – Иона Рафаилович будет писать очерк о нашем госпитале. Хочет побеседовать и с тобой.
– Это правда, что вы кое-что пишете? – спросил Кугель, пощипывая седую бородку.
– Да.
– Тем более мне хотелось бы поговорить с вами.
Я пригласил старика к себе. Слегка сгорбившись, заложив руки за спину, Кугель ходил по комнате как-то боком, выдвинув левое плечо вперед.
Старейший журналист, начавший свою карьеру еще в дореволюционных изданиях, он сейчас работал в журнале «Звезда». Когда началась война и враг подошел к Ленинграду, товарищи посоветовали Кугелю уехать в тыл, но он отказался.
– Почему вы остались в Ленинграде? – спрашиваю я.
– Почему? – резко остановился Кугель. – Просто не мог иначе. Понимаете, не мог! Я полвека тружусь в этом городе «чернорабочим литературы». А в такое время, как сейчас, мне обязательно надо быть здесь. Все увидеть и понять.
Иона Рафаилович, помолчав, продолжал:
– Повторяю, я должен находиться на передней крае жизни. Все увидеть и понять. Вот в чем суть! А мой приятель, профессор-геолог, на такой же вопрос, какой вы задали мне, ответил очень кратко: «Я люблю Неву!» Да, да. Не улыбайтесь, пожалуйста. Он прав по-своему. Я тоже бесконечно люблю наш город. Уверен, Ленинград – лучшее место на земном шаре!
Все увидеть и понять! Эта страсть захватила «чернорабочего литературы». Он жадно прислушивался к дыханию осажденного города, искал встреч с людьми. Для этого он и пришел в госпиталь.
– А чтобы растить розы литературы, необходима земля, – продолжал старик. – Алишер Навои, например, убеждал своих учеников: «Если хотите растить розы – землею будьте, я говорю вам, будьте землею».
Рассказывал Кугель образно, увлекательно, порой по-юношески темпераментно. Двумя-тремя фразами очень красочно обрисовывал людей, обстановку. Иона Рафаилович оказался обаятельным, остроумным собеседником, человеком пытливого ума, большой культуры.
– Э, батенька мой, так мы, пожалуй, до ночи проговорим! – воскликнул он, взглянув на часы. – Так что же вы пишете? Показывайте!
– Нечем хвастать, Иона Рафаилович. Мякина всё.
Плавая до войны судовым врачом, я часто бывал за границей и вел дневниковые записи. Теперь, когда выдавалась свободная минута, работал над. «литературным оформлением» своих путевых впечатлений.
Кугель настоял на своем, и я дал ему папку с записями. В это время меня вызвали в приемный покой – прибыли раненые.
– Если приду поздно, ложитесь спать на диване, – предложил я Кугелю.
В ответ он что-то пробурчал в бородку и раскрыл рукопись.
Вернулся я очень поздно. Иону Рафаиловича застал за чтением рукописи. Наклонив седую взлохмаченную голову, он перелистывал страницы морщинистыми руками.
Я присел сбоку, взял прочитанное им, и у меня сразу заныло под ложечкой. Одни страницы зачеркнуты, на других – вопросы, восклицательные знаки. А на полях текста то там, то здесь – «плохо», «неясно», «длинновато», «проще». «Читатель и без вас поймет». «Слова – тот материал, из которого шьют пиджаки и брюки мыслям, чувствам». А в скобках: «Горький».
Я уже раскаивался в том, что показал старику рукопись. Кугель молча продолжал работать. Читал он как-то одним глазом, наклонив голову с поднятыми на лоб очками. Рукопись держал близко к лицу.
Так мы сидели довольно долго. Наконец он хлопнул ладонью по рукописи.
– Ну что же вам сказать, батенька? Работайте дальше. Кое-что я здесь сократил…
«Кое-что» оказалось доброй половиной рукописи.
Кугель, конечно, понял, что происходит у меня в душе.
– Не печальтесь, – мягко сказал он. – Так и должно быть. Чтобы найти верное слово, надо работать и работать, в муках и страданиях. Вот, например, французский писатель Жюль Ренан, тот говорил: «Садясь за стол – обливайся потом!» К читателю, дорогой мой, надо входить умывшись, помоляся богу. Вот так!..
Потом пошел разговор о нашем госпитале. Кугель умело вел беседу, все время поворачивая ее так, чтобы «выжать» из собеседника как можно больше. Время от времени он делал пометки в своем потрепанном блокнотике.
Мы легли спать поздно. Кугель устроился на диване.
Я не мог заснуть. Что греха таить – мое авторское самолюбие было сильно задето. Иона Рафаилович долго ворочался с боку на бок, потом тяжело вздохнул и закашлялся.
– Вы простужены, Иона Рафаилович. Примите кодеин с содой.
– Спасибо. Не в коня корм.
– Почему?
– Это не простуда. Сердце тово-с…
– Застойные явления?
– Застойные явления, говорите? И чего это вы, врачи, такие деликатные? Надо бы просто и прямо: от старости это, мил человек, от старости. Не сердитесь, но я гомеопатов больше уважаю. У них, знаете ли, меня очень дозировка пленяет. Очень! Вы слушаете?
– Да.
– Берете, скажем, каплю лекарства. Бросаете ее в Неву у Литейного моста. Потом черпаете скляночку воды у Дворцового моста и принимаете по единой капле через три часа. И не больше! Ни боже мой! Чудесно! Психотерапия!..
Кугель встал рано. Весь этот день до позднего вечера он провел в госпитале. Вернулся взволнованный и уставший, с пачкой фотографий, каких-то записок.
– Наговорился вот так! Вдоволь!
– Ваше впечатление о госпитале.
– Это, батенька мой, большой разговор, – ответил старик. – А кратко скажу – знаменательно! Это прежде всего – раненые. Кого ни спрошу – вовсе не совершали подвига, героического поступка. Невольно, понимаете ли, возникает вопрос: что за этим стоит? Откуда это изумительное качество? Конечно, оно возникло не как Афина Паллада из головы Зевса, а уходит своими корнями в нашу жизнь, батенька! В гражданскую зрелость советского человека.
– А мою просьбу выполнили?
– Какую?
– В третьей палате побывали?
– Конечно!
– С пулеметчиком Махиней беседовали?
– Еще бы! Был разговор… Ведь он такой заметный!
– Великан!
– Махиня – Голиаф не только физически. Духовно! Вот послушайте…
Кугель порылся в принесенных записках и прочитал мне небольшую заметку, переданную ему Махиней.
О чем писал Махиня? С поля боя его вынесла дружинница двадцатилетняя комсомолка Дуся Николаева. Пулеметчика спасла, а сама погибла. Григорий нам об этом неоднократно рассказывал. И всегда очень взволнованно. О доблестном поступке Дуси он написал письмо ее матери.
В ответном письме Махиня получил фотографию Дуси. Эта фотография стояла на его прикроватной тумбочке.
Григорий Махиня в своей заметке предлагал: в память женщин, сражавшихся на фронте, отлить после победы бронзовую фигуру. И поставить ее на Александровской колонне. Вместо ангела. И на это вносил все свое жалование за время пребывания в госпитале.
– Вот он какой, ваш Махиня! – восхищался Кугель. – В нем, как в зеркале, отражена вся природа советского человека. Духовная красота! И в этом, я бы сказал, интеграл жизни нашего народа.
В «морской палате» были очень довольны посещением Кугеля.
– Всласть побеседовали! По душам! – рассказывал мне Вернигора. – Бодрый старик! Стоять, говорит, Ленинграду навечно, а Москвой немцы подавятся и сдохнут.
«Бодрый старик» успел побывать не только в нашем отделении, но и во всем госпитале. И даже в приемном покое. Все его интересовало.
Через несколько дней по радио передавали очерк Кугеля «День в госпитале». Раненые и мы слушали со вниманием, даже с волнением. В нем была лаконичность, точность в характеристике людей и обстановки в госпитале. А главное, рассказ был проникнут оптимизмом. Написать так просто и сердечно мог только человек с большой душой и глубокой верой в победу.
Во второй половине декабря, войдя к себе, я увидел Иону Рафаиловича. Он неподвижно сидел в кресле.
– Случилось что-нибудь, Иона Рафаилович?
Кугель поднял на меня добрый, но тусклый взгляд.
На лбу пролегла глубокая морщина.
– Умер мой сын, – после большой паузы, тихо всхлипнув, произнес Кугель. – От голода. Лег спать и не проснулся…
Он встал и, шаркая валенками, с трудом подошел к окну, еле сгибая ноги.
– Иона Рафаилович, отдохните на диване.
– Не могу…
Кугель посмотрел на часы и сказал:
– В восемнадцать ноль-ноль я должен присутствовать на операции. – Он вынул записную книжку. – Да, так и есть, в восемнадцать ноль-ноль. Назначил Шафер. В шестом отделении. Не опоздать бы! Вы меня проводите?
В ординаторской шестого отделения при свете мерцавшей коптилки Иона Рафаилович тщательно ознакомился с историей болезни Петра Минакова. Подробно расспросил старшего хирурга о деталях операции и все это записал в свою книжечку, «канцелярию», как он называл.
Кугеля обрядили в халат, он молча встал около двери холодной операционной, тускло освещенной двумя коптилками. Перед самой операцией зажгли фонарь «летучая мышь». (Это было еще до того, как мы подключились к водопроводной подстанции.)
На каталке привезли Петра Минакова. «Летучая мышь» слабо освещала бледное лицо раненого красноармейца с белесыми бровями и чуть-чуть приплюснутым носом. Закутанный в одеяло, он повернул голову к Кугелю:
– Профессор, долго будете резать?
– Совсем недолго, – спокойно ответил Кугель. – Не бойся, голубчик, все будет хорошо…
Минакову дали наркоз. Зажгли еще одну «летучую мышь».
Шафер приступил к операции.
Операция закончилась благополучно.
Я решил проводить старика. Вместе вышли из госпиталя. На улице темень, мороз. Колючий ветер. Стук метронома в репродукторах. Окрики патрулей. Синеватые огоньки машин.
Дорога ныряла в сугробах. Втянув голову в плечи, Кугель шел неторопливо, экономя силы. Он молчал, казалось, забыл о моем присутствии.
– О чем вы задумались? – спросил я, чтобы нарушить молчание.
– Относительно операции Минакову, – глухо отозвался Кугель. – Тяжко было ему, а еще более – хирургу. Тяжелая это необходимость – быть хирургом, может быть, самая тяжелая профессия на земле…
– Куда вы сейчас идете?
– К подводникам. Поговорить надо с ними.
– О чем?
– Есть одна думка, – уклончиво ответил старик.
А на другой день в кабинет к Ягунову пришел военный моряк, капитан второго ранга Петр Сидоренко, командир дивизиона подводных лодок, что стояли на Малой Неве, около моста Строителей.
Кавторанг рассказал: вчера у них был журналист, по фамилии Кугель. Он поведал морякам о беде в госпитале – нет света. Очень трудно делать операции.
Вот какая думка была у Ионы Рафаиловича!
Подводники решили сократить у себя электрическое освещение и за счет этого осветить хотя бы операционную в нашем госпитале.
– Но у нас нет кабеля, – сетовал кавторанг Сидоренко.
Кабель заменили простым электрическим шнуром, который работники госпиталя сняли со стен своих квартир. Шнур лежал на рогульках, от набережной Малой Невы до госпиталя.
На рогульках были надписи:
«Не трогать!
Свет для операционной госпиталя!»
Не трогали!
Через неделю я был на совещании диетологов всех госпиталей во фронтовом эвакопункте на Кирочной улице. После совещания позвонил Ионе Рафаиловичу – решил зайти к старику в Дом писателя на улице Воинова. Это было по пути в госпиталь.
– Отыскался след, Тарасов! Заходите обязательно! – ответил Кугель. Голос глухой, точно из-под земли.
Я нашел его в небольшой комнате. На столе тускло горел оплывший огарок свечи.
– Сейчас мы устроим байрам на всю Европу! – похвастался Иона Рафаилович. – Есть два куска сахару и ломтик хлеба. Летчики снабдили. Вчера побывал у них. Замечательная была беседа, скажу я вам. Чудесный, батенька, народ!
На спиртовке Кугель стал готовить чай.
В это время в комнату вошла невысокая женщина в полушубке и валенках.
– К утру надо прочесть, Иона Рафаилович, – сказала она, кладя на стол оттиски гранок, которые пахли типографской краской. По-видимому, очередной материал в «Звезду».
– Хорошо. Сделаю еще до утра…
Женщина вышла.
– Елена Павловна Карачевская, – кивнул на дверь старик. – Сотрудница редакции нашего журнала. Ей давно лежать надо, так нет! Куда там! И слушать не хочет…
Мы сидели в холодной комнате, пили чай, вернее, кипяток. Во время разговора Кугель стряхнул крошки хлеба с прожженного ватника и аккуратно положил их в кружку тонкими, словно обтянутыми пергаментом пальцами.
Сомнений не было – старик совсем сдал. Лицо его как-то посерело, глаза потускнели и ввалились, уши стали восковыми.
Он не отдыхал, «чернорабочий литературы». Он не мог сидеть на месте сложа руки. Благородное стремление познать и раскрыть во всей полноте величие людей осажденного города не давало Кугелю покоя. Эта насущная для него необходимость была источником энергии в его неспокойной судьбе журналиста. Эта необходимость и подорвала его силы…
– Ох как много работы, батенька! – тихо говорил Кугель. – Вот так – сверх головы! Успею ли?.. А время, в которое мы с вами живем, – великое! Нам, может быть, сейчас не совсем легко точно разобраться во всем. Но сегодня пишется новая история, новая страница в истории. Она будет опираться на факты. Вот они, – показал Кугель на свои блокноты на столе. – Скромные, конечно, но все-таки. Кто и как может…








