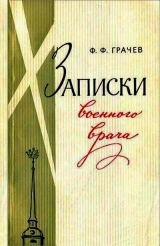
Текст книги "Записки военного врача"
Автор книги: Федор Грачев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Встреча с Фадеевым
 юнь. Первый летний месяц. Светлый и ясный. Длинные дни. Белые ночи – северное чудо.
юнь. Первый летний месяц. Светлый и ясный. Длинные дни. Белые ночи – северное чудо.
Воспользовавшись малым поступлением раненых, госпиталь принялся за косметический ремонт палат, перевязочных, операционных и приемного покоя.
Ну и работка! Копоть от печей-времянок и различных светильников покрыла потолки и стены плотным черным слоем. Все это надо перед покраской очистить.
После окончания малярных работ в восьмом отделении мне позвонила из редакции журнала «Звезда» Е. П. Карачевская.
– В Ленинграде писатель Фадеев. Хочет с вами встретиться и побеседовать, – сообщила Елена Павловна.
– А как он узнал обо мне?
– Александр Александрович был в редакции. Читал ваш очерк «Германия сегодня»…
Я получил увольнительную и пошел в гостиницу «Астория», где находился Александр Александрович Фадеев.
Солнце. Тепло. Широким полотном стелется асфальт чистых улиц. У большинства прохожих в руках лопаты. Сады, скверы, парки, пустыри, каждый мало-мальски свободный клочок земли – все вскопано под огороды.
С писателем Фадеевым я познакомился пять лет назад во Франции. Это произошло при следующих обстоятельствах.
Я был судовым врачом теплохода «Андрей Жданов». В июле 1937 года нашими пассажирами оказались артисты Московского Художественного академического театра имени Горького. Курс из Ленинграда в Гавр. МХАТ направлялся на гастроли в Париж, где в то время была Всемирная выставка.
Все пять суток рейса – шумно и весело! Мхатовцы как-то сразу запросто «вписались» в жизнь и быт экипажа. Артисты вместе с матросами драили палубу. Вербицкий и Чебан красили палубные надстройки. И как красили! Отменно! От изумления наш боцман Кудзелько только разводил руками.
В музыкальном салоне теплохода – сцены, скетчи и юмористические рассказы.
Вот Борис Петкер и Иван Кудрявцев в сценке «На примерке у портного». Петкер – портной, Кудрявцев – заказчик. И что вытворяют! Неудержимый смех зрителей с первой минуты и до конца.
– Точить ножи, ножницы, бритвы править! – кричит артист Владимир Попов нарочито простуженным голосом. С плеча как будто снимает точильный станок. И вот перед вами точильщик за работой. Движение ногой, – точит человек нож, да и только!
Для мхатовцев мы соорудили плавательный бассейн.
В благодарность за это они в музыкальном салоне показывают «Платона Кречета». Без грима и декораций. Но какой спектакль!
Борис Яковлевич Петкер в несколько репетиций организовал объединенный «морской джаз», нечто вроде ансамбля песни и пляски. Аккордеоны, гитары, деревянные ложки, балалайки, мандолины, губные гармошки и даже… медный таз – все нашло свое место.
Перед приходом в Гавр – концерт мхатовцев в двух отделениях. Для каждого члена экипажа – программа. Она написана от руки артистами. Один экземпляр, написанный концертмейстером Марией Николаевной Кореневой, сохранился у меня до сих пор.
Начался концерт в восемь часов вечера, а закончился за полночь.
Перед началом концерта внезапно заболел зуб у главного организатора и конферансье Бориса Яковлевича Петкера. Зуб надо удалить. Быть «ассистентами» добровольно вызвались Павел Владимирович Массальский и Василий Осипович Топорков – ныне народные артисты СССР.
– Будьте спокойны! – уверяли они меня. – У нас не вырвется!..
Булькает стерилизатор. Кипятятся шприц и щипцы.
– Боря, ты не волнуйся, – лениво тянет Массальский. – Моему знакомому вырвали вот такой же зуб, и он после этого жил еще целых два года…
Наконец «ассистенты» навалились на Петкера.
Но он вырвался! От страха перед «чеховской хирургией» боль исчезла, как рукой сняло! Я поверил Петкеру: такое случается в зубоврачебной практике. Поверил и облегченно вздохнул: мне никогда еще не приходилось удалять зубы. Я был на теплоходе врачом «за всё».
Оказывается, Борис Яковлевич схитрил. Почти через тридцать лет в своем письме он признался мне:
«Я обманул вас, сказав, что зуб перестал болеть. Он, черт его дери, омрачил мне и Гавр, и даже целый день в Париже. Дантист мсье Лебёф, по-русски – это бык, вырвал мне зуб».
В Гавре мхатовцев встречали Александр Александрович Фадеев и другие писатели, фамилии которых я не помню. Все примчались на машине из Парижа, где был международный конгресс писателей в защиту культуры. Им было известно, что МХАТ едет на гастроли, и они сочли необходимым встретить земляков еще в Гавре. Экипаж дружно принял писателей.
– Здрасьте, братцы! – приветствовал нас Александр Александрович Фадеев.
– Чем угощать дорогих гостей? – спросил капитан теплохода Николаев.
– Мы – русские люди. Щами, хлебом нашенским. И, конечно, – «тово». – Многозначительный жест. И всем понятно, что означает это «тово».
После обеда с «тово» – игра «в картошку». На палубе ставятся два ведра. Перед каждым, по прямой линии с интервалами через метр, кладется картошка – двенадцать штук. Кто быстрее соберет картошку в свое ведро?
Что творилось на палубе! Немолодые и даже весьма пожилые люди мгновенно превратились в подростков. С восторгом смотрела вся наша команда на играющих.
Вот о таком «мхатовском» рейсе, как его называли в нашем экипаже, я вспомнил на пути к Фадееву.
Огромное здание гостиницы «Астория», где в прошедшую зиму был городской стационар для дистрофиков.
Иду по мягким ковровым дорожкам коридора.
– Вам кого? – спрашивает горничная.
– Товарища Фадеева.
Горничная называет номер комнаты.
Тихо стучу в дверь.
– Войдите!
Увидев меня, Александр Александрович встал из-за стола.
– Военный врач второго ранга энского госпиталя приветствует вас в стенах нашего города! – отдав честь, подошел я к Фадееву, не говоря своей фамилии.
– Не могу узнать! – развел руками Фадеев, внимательно смотря на меня. – Но где-то я вас видел…
– Вспомните Францию, Гавр, теплоход «Андрей Жданов», МХАТ.
– Неужели Федор Грачев! – воскликнул Фадеев, положив руки на мои плечи.
– Точно так, Александр Александрович! Собственной персоной.
– Вот в какое время пришлось встретиться! Кто бы мог думать? Садитесь, садитесь…
– Да, Гавр, гастроли Художественного театра в Париже!.. Было ли это все, Александр Александрович? Художественный театр был и есть, а Париж?..
За чаем, беседой, воспоминаниями незаметно шло время.
Рассказываю Фадееву о формировании народного ополчения в Ленинграде, о людях, о работе в госпитале, о пережитой зиме. Наблюдаю за писателем, которого не видел пять лет. Александр Александрович почти не изменился, только стал как-то суше да больше побелела голова.
Он внимательно слушал, иногда прерывал вопросами, ходил по комнате широкими шагами, высокий, прямой. Потом садился, записывал что-то в тетрадь.
Я поинтересовался его впечатлениями о Ленинграде.
– Из нашей прессы, от друзей, по радио я знал, в каком тяжелом положении были ленинградцы в прошедшую зиму, – говорит Фадеев. – Но одно дело читать, слушать очевидцев, другое – увидеть все воочию. Я побывал в Колпине, в школах, на фронте, на заводах. Был у моряков, летчиков. Город готовится к решительной битве, это ясно…
Во всем облике Александра Александровича чувствовалась особая сосредоточенность, взволнованность.
– В редакции «Звезда» Карачевская поведала мне о вашей дружбе с Кугелем, – продолжал рассказывать Фадеев. – Покойный был прав. История организации вашего госпиталя и впрямь необыкновенна. И ценны не только факты, но и чувства. У вас в госпитале большое соцветие по-настоящему ярких характеров. Пишите об этом: труд милосердия, работа ленинградских медиков заслуживают пристального и большого внимания. Всматривайтесь в дни, в людей. Я был в двух госпиталях…
Писатель порылся на столе. Нашел нужный ему блокнот.
– Болевой порог, – прочел Фадеев. – Чем выше у человека этот порог, тем меньше он страдает. Это сказал мне главный хирург Ленинградского фронта профессор Куприянов. Какой высокий порог у наших раненых! Я не слышал от них ни одной жалобы…
Фадеев взял другой блокнот.
– Даже больше! – продолжал писатель. – Где же это у меня? Ах, вот. Нашел!.. Танкист, комсомолец двадцати лет. Слепое ранение правого бедра. От операции отказывается. Почему? Доказывает, что осколок ему не мешает. Не беспокоит. Просит выписать из госпиталя, а операцию сделать потом. «Когда потом?» – озадачены врачи. «После второго ранения, заодно». Вот какой довод нашел танкист! А! Заодно! – восхищался Фадеев.
– Александр Александрович, заглянули бы в наш госпиталь. У нас…
– Заглядывать – не в моем характере, – сухо прервал писатель. – Чтобы побывать в большом госпитале – надо время. А его у меня уже нет. Я в цейтноте… Тороплюсь, очень тороплюсь в Москву. Но сейчас не об этом, – встряхнул он головой. – Продолжайте ваш рассказ…
Передо мной сидел усталый и замотанный человек. А речь моя нескладная – волнуюсь: меня внимательно слушает выдающийся советский писатель и общественный деятель. Украдкой поглядываю на часы. Ощущение такое: зря отнимаю время у Фадеева. Александр Александрович, очевидно, заметил мое состояние.
– Вы торопитесь? – спросил он.
– Нет, но мне кажется, что я путаюсь в деталях. Я не могу выбрать главное…
– Не лиха беда. Постараюсь уловить главное, – улыбнулся мой собеседник. – Давайте условимся: вы говорите как бы не мне, не писателю, а, скажем, попутчику в поезде, в кругу товарищей. Вот так…
Я продолжал свой рассказ.
Фадеев слушал, откинувшись на спинку кресла. Осунувшееся бледное лицо, взъерошенные волосы, листки бумаг на столе, блокноты, записные книжки —* на всем отпечаток бессонной ночной работы.
– Вы устали, Александр Александрович?
– От людей я не устаю. – Фадеев поднялся с кресла. Подошел к открытому окну. Он слушал шумы, которые доносились с улицы.
– До чего же красив и строг Ленинград! – проговорил Фадеев. – Как он дорог советским людям, этот город трех революций!
И, глубоко вздохнув, продолжал:
– То, что претерпел Ленинград, – такого человечество еще не знало. Ни один город в мире не вынес бы столь жестоких испытаний, таких страданий. А он вынес все муки, не дрогнул!
Смотря в окно, Фадеев тихо произнес, словно кому-то на улице:
– Он придет, ленинградский торжественный полдень, тишины, и покоя, и хлеба душистого полный…
И ко мне:
– Ольга Берггольц. Драгоценные слова большой правды! Придет день победы человечности над бесчеловечностью!
Александр Александрович подошел к столу, опять порылся в ворохе бумаг:
– Вот что мне сказал один артиллерист: уверяем вас, мы фашистам дадим такую «кукарачу», что запомнят на десять поколений! Слово-то какое – «кукарача»! Не правда ли?
– Да, наши воины – люди подвига.
– Это кратко. Понятие подвига более широко, – уточнил Фадеев. – Подвиг – это кульминация, он является итогом жизненного пути, который ведет к такой кульминации.
Сделав глоток чаю, писатель добавил:
– Не помню сейчас, кто именно, но один крупный психолог утверждал, что способность человека на подвиг, когда он испытывает подъем духа, видимо, не имеет границ…
Александр Александрович знал много не только о Ленинграде. В августе сорок первого года он вместе с Михаилом Шолоховым и Евгением Петровым был на самых горячих участках Западного фронта, а потом Калининского.
Говорил Фадеев о людях лаконично, выразительно. Несколько впечатляющих, одушевленных штрихов, деталей. Потом все это сплавляется в единое целое? Из малого – в большое, значительное. И перед тобой как бы высвечиваются люди на войне.
Своим необыкновенно простым и теплым обращением Александр Александрович разговорил меня. Я словно обрел второе дыхание, рассказывая ему, «как попутчику в поезде». А Фадеев продолжал делать пометки в блокноте.
Он советовал понимать людей не только по анкетным данным, биографиям, но и кропотливо смотреть сквозь призму их чувств и поступков, «смотреть не на человека, а в человека».
– Тогда в оценке человека, – утверждал писатель, – не будет ощутимых потерь.
Нашу беседу прерывали телефонные звонки. Звонили писатели, друзья, моряки, летчики, журналисты.
В шесть часов мы тепло расстались.
– Не доверяйте памяти, штука коварная, – напутствовал меня Фадеев. – Полагаться на нее опасно. Советую собирать документы, фотографии из жизни вашего госпиталя. Ведь каждый день имеет свою мету. И старайтесь все записывать. Увидел, услышал – в блокнот, в блокнот. Детали, эпизоды, факты… Без этих следов пережитого все будет лишь в пределах сухой достоверности…
Тут я позволю себе нарушить последовательность воспоминаний и рассказать вот о чем. В августе 1945 года я направился в Омскую область за семьей. Доехал благополучно. Но выезд обратно в Ленинград неожиданно осложнился. Мне, военнослужащему, билет дают, семье – нет, семья должна ждать очереди для отправки в эшелоне наравне с другими ленинградцами, ожидающими своей очереди на станции Голышманово.
Ждем трое суток. Никаких сдвигов! А мне надо быть вовремя в госпитале. Что делать? Решаю ехать за сто километров в районный центр – Ишим. Может быть, там удастся достать билеты. Но, увы! Билет дали только для меня.
Вхожу в купе офицерского вагона экспресса Москва – Владивосток. В отчаянии сажусь у окна. Придется возвращаться в Голышманово и снова ждать у моря погоды.
Мои спутники открывают бутылку коньяка. Приглашают – за компанию. Отказываюсь.
– Почему? – спрашивает с удивлением один из них, летчик.
– Не до коньяка…
Излагаю свое горе и вдруг вижу на столике небольшую книжечку – «Ленинград в дни блокады». Автор – А. Фадеев. Торопливо листаю страницы. Натыкаюсь на главу – «Труд милосердия». Бог ты мой! Фадеев поведал о нашей встрече в «Астории»! Не выдержал, громко сказал:
– Грачев – это я!
И сразу же оказался в центре внимания.
– Братцы! – воскликнул летчик. – Надо как-то помочь доктору…
Летчик мгновенно исчез и возвратился с начальником поезда.
Мои спутники объясняют ему, в чем дело.
– Мест нет! – строго говорит начальник поезда.
– Надо найти…
– Повторяю, мест нет!
У открытой двери купе столпились пассажиры.
– Что же ему – бросить семью, а самому уехать?
– Доктор награжден медалью «За оборону Ленинграда»!
– Про него вот в этой книге сказано! – осаждают начальника поезда мои спутники.
– Но ведь не сажать же мне на головы пассажиров? – В голосе уже нет резкости и раздражения.
– А на головы и не надо! – возражает летчик. – Вот я, например, буду спать на багажной полке, а днем – в тесноте, да не в обиде! Одно место есть. Уверен, что еще одно тоже найдется.
Его поддержали:
– Несомненно!
– Какой разговор!..
«Общественное мнение» воздействовало. В Голышманове начальник поезда впустил мою семью в вагон.
– Билеты возьмете в Ялуторовске, – уже мягко сказал он…
Под впечатлением встречи с Фадеевым возвращаюсь в госпиталь. И вновь всматриваюсь в лицо города. Дома испещрены вмятинами от осколков снарядов и бомб. Как будто переболели оспой. А окна многих домов открыты настежь. На подоконниках, балконах – ящики с землей. Ленинградцы выращивают овощи и зелень не только на огородах, в садах и скверах, но и у себя дома.
Работники Эрмитажа – те свой огород возделали даже в Висячем саду, под открытым небом, среди беломраморных статуй. Не на земле, а на втором этаже! Нечто вроде легендарных садов Семирамиды, только там не выращивали картофеля.
В городе настороженная тишина. И если бы не замурованные окна подвалов и нижних этажей с бойницами, не зенитки, стерегущие врага в небе, где на длинных тросах плавно покачиваются аэростаты воздушного заграждения, можно было бы подумать, что течет самая обыкновенная, мирная жизнь и нет врага под стенами любимого города.
На Исаакиевской площади неожиданно услышал позади:
– Грачев!
Обернулся – глазам не верю: Павел Пастерский.
– Паша! Жив!
– И здоров! Старшим механиком на теплоходе «Челюскинец». А ты?
– Все там же. В госпитале.
Павел Теофильевич заметно поправился. Но в уголках глаз – лапки морщин. На висках чуть белеет седина.
– Помнишь железяку? – с радостью спрашивает Пастерский.
– Еще бы! Было времечко!
– А блок-станцию мы тогда все-таки построили! – с удовлетворением произнес Пастерский…
Смотрю вслед коммунисту Павлу Пастерскому и вспоминаю стихи Лебедева-Кумача:
Крепче камня
и прочнее
стали
Ленинградский питерский народ!
Пересекаю площадь Декабристов, миновал обшитый досками памятник Петру Первому.
На набережной Невы стоят с удочками старики и подростки.
Один из стариков дрожащими руками снимал с крючка взъерошенного подлещика граммов на двести-триста.
– Поздравляю вас с добычей, – сказал я.
– Это не добыча, а пища, – хмуро отозвался старик. И добавил – На троих!
В нашем госпитальном «Летнем саду» встретил Ягунова и Луканина.
Из окон госпиталя доносилась знакомая песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Ровно, слаженно звучали голоса.
– Маляры-то наши поют! Пойдемте, товарищи, посмотрим, что у них делается, – предложил Ягунов.
В палате девятого отделения, уже тщательно побеленной, мы увидели на лесах, под самым потолком, врача Гордину и медицинскую сестру Михайлову.
У раскрытого окна палаты в измазанном комбинезоне трудилась врач Романова. Она размешивала кистью краску в ведре.
– Как успехи, Анастасия Михайловна? – спросил Луканин.
– Стараемся, – ответила Романова, вытирая пот со лба. – Еще две палаты осталось…
А в парке соседнего госпиталя дружно поют соловьи. Нежно, страстно, любовно.
Бывая в городе, видишь в полный лист распустившиеся деревья. Исчезли объявления всяческого обмена вещей на продукты. Вместо них – афиши кино, концертов, спектаклей.
Открыты магазины. В киосках можно напиться воды с каким-то непонятным сиропом.
В городе стало больше автомашин. На лицах прохожих еще следы прошедшей голодной зимы, но говор громче, можно даже услышать шутку:
– Ну, дистрофик, пошли дальше!..
Если подобные шутки: «Ну, дистрофик, пошли дальше» – могли возникнуть среди ленинградцев, значит, жизнь изменилась к лучшему. И это было действительно так.
Изменился и облик нашего госпиталя. У нас светло, чисто и уютно. В «Летнем саду» буйно взялись цветы и трава. Вдоль забора раскинулись листья подсолнухов. «Директор» сада политрук Александр Кульков, засучив рукава, копается в большой цветочной клумбе, раскинувшейся пятиконечной звездой.
Желтеют посыпанные песком дорожки сада. В голубом небе легкие облака. Все, как на даче: солнце, воздух, трава, цветы.
Разросся наш «Летний сад», созданный добрыми руками на голом месте. А сейчас на клумбах яркие всполохи желтых, оранжевых, красных цветов. Они растут, набирают силы. «Летний сад» привлекает немало легкораненых и больных. Здесь они охотно проводят время. И наша стенгазета «За Родину» заполнена их заметками, посвященными этому саду.
На спортивной площадке сада медицинские сестры прекратили игру в волейбол и вместе с ранеными стоят у репродукторов, тревожно прислушиваются к военной сводке. На юге развернулись большие сражения. В начале июля, после двухсот пятидесяти дней героической обороны, советские войска оставили Севастополь. Враг рвется к Волге. Идут бои за Воронеж. Над Москвой нависла угроза нового удара.
В палатах госпиталя раненых сейчас мало: на Ленинградском фронте бои местного значения. Инициатива в руках нашего командования. Но в Ленинграде все понимают: враг не отказался от попытки взять город штурмом.
В разгаре летняя эвакуация населения. Военный совет фронта постановил объявить Ленинград военным городом. Улицы, площади, проспекты взъерошены баррикадами. В предместьях возведены дополнительные оборонительные сооружения. В подвалах домов – новые амбразуры для орудий и пулеметов.
Готовится к возможности штурма и наш госпиталь. В сортировочно-перевязочном отделении угловое окно заложено кирпичом и забетонировано. – Там укрытие для пулемета.
Созданы четыре группы самообороны госпиталя во главе с Ягуновым, Луканиным, Зыковым и Галкиным. По тревоге мы должны явиться к своим командирам.
Парад жизни
 госпитале продолжалась усиленная подготовка к военно-физкультурным соревнованиям личного состава всех госпиталей Ленинграда, назначенных на 18 июля в Лесном.
госпитале продолжалась усиленная подготовка к военно-физкультурным соревнованиям личного состава всех госпиталей Ленинграда, назначенных на 18 июля в Лесном.
Занимались мы каждый день. За тренировками тщательно наблюдал Ягунов, инициатор этих соревнований.
Не знаю, каким образом наш инструктор лечебной физкультуры врач Булашевич узнал, что у меня дома имеется велосипед, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в числе участников спортивной велогонки.
Никакие мои ссылки на то, что уже лет десять как не садился на велосипед, не помогли.
Тренировал нашу команду известный спортсмен-велосипедист и чемпион СССР по конькам Николай Петров. На тренировках Петров втолковывал участникам премудрости велосипедной техники, всячески пытаясь пробудить в нас спортивный азарт. В госпиталь мы возвращались усталые, измотанные, принимали душ и подвергались массажу, по указанию тренера.
После того как мы дважды прошли дистанцию по будущей трассе велокросса и тщательно изучили весь путь, только тогда Петров разрешил нам отдохнуть.
Наконец наступил день соревнований. По улицам города пошли многолюдные колонны работников госпиталей Ленинграда.
Большая поляна, окаймленная мелким кустарником, вся заполнена участниками состязаний. Погода выдалась на славу. Сухо, солнечно. Справа, насколько хватал глаз, простиралось поле с россыпью цветов. Слева – манящая глубина рощи с пышными кронами дубов, с веселыми березками.
Вырвавшись на природу, радостные и возбужденные свежим воздухом, теплом, зеленью, мы вели себя, как школьники на перемене: играли в чехарду, пели, смеялись по каждому малейшему поводу и даже без повода. Еще бы! Мы так рады теплу, солнцу, свету после бесконечной, холодной, темной зимы.
На трибуне, украшенной лозунгом и зелеными ветками, собрались представители командования Ленинградского фронта, Военно-санитарного управления, фронтового эвакуационного пункта, партийных и общественных организаций города. Грянул духовой оркестр. Начался парад участников соревнований. Впереди – Ягунов, начальник штаба парада – старший лейтенант Хоментковский. За ними отряд знаменосцев. Все маршируют под правую ногу, а Ягунов – под левую. Наверное, от волнения.
Вслед за знаменосцами двигаются мотоциклы. Позади водителей, на приспособленных багажниках, девушки с алыми флагами.
Разноцветные спортивные костюмы участников напоминали жизнерадостную пестроту довоенных парадов физкультурников.
Пронзительные свистки судей возвестили о начале велокросса. В это же время начались матчи баскетболистов, волейболистов и соревнования легкоатлетов. Но были и необычные для спорта соревнования. На поляну выбежали «спортсмены» с носилками. Санитары, преодолев различные препятствия, по-пластунски ползут к «раненым», чтобы вынести их с «поля боя», прочесть приколотую записку с обозначением «ранения» и тут же оказать первую доврачебную помощь: сделать перевязку, наложить шины.
Поодаль демонстрируют штыковой бой.
В очерченные белым круги бросают учебные гранаты.
Выстрел! Первый мирный выстрел в Ленинграде. Старт для санитарной эстафеты.
Перенос раненых на руках, носилках.
Все, что здесь происходит, можно назвать парадом жизни.
Хочется рассказать об одном эпизоде. За день до начала соревнований занемог участник нашей команды, секретарь партийной организации Галкин. Он температурил. А на Михаила Никифоровича тренер Петров возлагал большие надежды в велокроссе.
Что делать? Заменить кого-нибудь в команде нельзя. Списки участников утверждены. Нависла угроза: не допустят к соревнованию всю команду велосипедистов.
– Я выйду на старт! – сказал нам Галкин. – Доктор разрешил.
И он так «крутил» на дистанции, что приходилось удивляться, откуда такая сила.
Велокросс закончился. Объявили результаты. Наша команда заняла второе место. Когда вернулись в госпиталь, температура у Галкина была тридцать восемь. Мы ахнули и напустились на врача. Тот встревоженно смотрел на больного:
– Ничего не понимаю! С утра у него было тридцать семь.
– Отстаньте от доктора, – сказал Галкин. – Утром у меня были те же тридцать восемь. Но я сбил градусник… Чтобы Петров не расстраивался…








