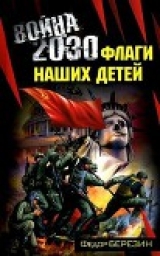
Текст книги "Флаги наших детей"
Автор книги: Федор Березин
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
26
Твердый грунт
Вот в этой, пока еще контролируемой всеобщей кутерьме, когда плазменные винтовки уничтожали цели десятками, а минный дождь и их управляемые на расстоянии стационарные сестры старались не отставать от снайперов, все как-то не заметили перехода в новую непредвиденную фазу. Точнее, предвиденную, но только как один из вариантов худшего сценария. Нет тут, на ближнем театре боевых действий, все пока еще было в норме. Поскольку мишени, доступные пулеметам и стационарно размещенным стрелкам по дальности, быстро кончились, а потерь отряд еще не понес, владельцы «плазмобоев» получили разрешение продвинуться вперед. И пехотинцы, перемещаясь со всей возможной осторожностью, отправились добивать противника.
Их действия по-прежнему соответствовали лучшей из схем и контролировались компьютером. Правда, сопровождающих их средств разведки стало несколько меньше, чем на исходной позиции. Переносной акустический локатор (не тот, что закреплен на шлеме, а несколько более крупный) в условиях леса имел достаточно малый радиус действия. Он стал практически бесполезен, за исключением засечки и определения параметров взрывов. Да и над полем боя теперь маневрировали не два микроразведчика, а всего один. Второй куда-то делся, может, досрочно выработал ресурс или встретил по дороге какой-то шальной, аномальный осколок. Вследствие этой потери стереокартинка с воздуха больше не выстраивалась. Ну что же, это являлось слишком слабой причиной для прекращения акции. Боеприпасы еще имелись: с их расходом все выходило по графикам и укладывалось в норму.
Поскольку в отряде «Ахернар» каждый ствол и меткий глаз были на счету, то, когда сражение вошло в запланированную колею, Потап Епифанович тоже стал использовать собственную винтовку по прямому назначению. Ему не слишком повезло, на его участке оказалось маловато бесхозных целей. Он успел «завалить» только три. Все предварительно укладывались лишь в шестидесятипроцентную вероятность. Из желания повысить вероятности до шестидесяти семи он использовал не по три, а по пять патронов в серии. С помощью столь простого трюка все проценты свелись к ста.
Когда первые ряды «переносчиков» полегли, «мишеней» в пределах досягаемости не осталось. Потап Епифанович решил двигаться вперед, несколько отставая от редкой шеренги своих бойцов. Именно в этот момент родная подбрюшная «IBM» предупредила его об изменении первично заданных условий. Оказывается, находящийся в пяти километрах пограничный отряд «оранжевых» изменил направление движения. Теперь этот пеший патруль двигался прямиком к месту боя. Потап Епифанович, естественно, запросил примерное время подхода. Учитывая плотность леса, отсутствие троп, ведущих к месту напрямую, и прочее, общее время прибытия пограничников оценивалось от пятидесяти пяти до семидесяти минут. Ну что же, это было не так страшно.
Майор Драченко все еще раздумывал, идти ли ему дальше, вслед за своей пехотой, или наоборот – отозвать ее назад, когда обнаружил в фоновом раскрое реальности левого зрачка новую наземную цель. Правда, она удалялась. Но с какой стороны? С той, где у отряда «Ахернар», по идее, располагался тыл. Неужели кто-то из «переносчиков» умудрился обойти позицию, не подвергнувшись огневому воздействию? Этого не могло быть.
27
Твердый грунт
Нарезающий восьмерки самолетик теперь сместил свои пируэты несколько западнее, стремясь восполнить недостачу разведывательных средств у наступающих пехотинцев. Отвлекать его фотокамеры на посторонние вещи было в настоящий момент преступно. Также нежелательно – разворачивать акустический локатор. Тем не менее нечетко наблюдаемый, удаляющийся от позиции объект внушал майору Драченко опасения. Ему уже стало не до огневой помощи своим ребятам. Благо количество непосредственно уничтоженных каждым солдатом врагов не отражалось на долларовой «зарплате» индивидуально. А то бы вся группа кинулась сейчас за скальпами. Но, во-первых, как разобраться, сколько конкретно уложил миномет или заложенная сапером мина? Тем не менее количество истребленного противника все же отражалось на оплате ратных подвигов. Но отражалось дифференцированно, с учетом специфики труда каждого номера расчета или стрелка. Так что с точки зрения беготни за деньгами Потапу Епифановичу вовсе не вменялось в обязанность опорожнять свой винтовочный магазин до конца. Его задача состояла в управлении сражением, так что охотничьи инстинкты требовалось загнать внутрь.
Поскольку перенацелить летающий наблюдатель не получалось, требовалось поднять дополнительный. Помимо того, что самолетик остался один, он еще начал обстреливаться с земли какими-то особо глазастыми бушменами. В случае его потери группа оставалась без глаз наверху. Ведь они не являлись какой-то сверхдорогой элитной группой десанта сильной державы, на которую в случае чего работали бы даже спутники видеонаблюдения или по крайней мере высотные разведчики. Приходилось рассчитывать только на себя. Между делом Потап Епифанович отдал команду компьютеру, а уже тот по своим тайным каналам переправил приказ минометчикам о срочном перенесении огня по запоздало догадливым негритянским стрелкам. Тем не менее шальная пуля все равно могла достать парящий разведчик, и подстраховка не мешала. Командир отряда «Ахернар» приказал поднять в воздух дополнительный летающий глаз.
Микросамолеты вообще-то были штукой достаточно дорогой. Их требовалось ценить. Но ведь они не являлись оторванными от дела ценностями. Возможные потери подготовленных солдат значили гораздо больше. В отряде не имелось отдельного специалиста, занятого запуском микросамолетов. Но это было не особо мудреным делом – практически каждый солдат «Ахернара» умел при необходимости проделывать такой трюк. Но поскольку обязанности были четко распределены загодя, то сейчас они лежали на втором номере минометного расчета, выходце из Восточной Украины легионере Кисленко. Для выполнения поручения Захару Кисленко требовалось оставить свою убийственную машину на попечение других, а самому дойти до складированного имущества отряда. Ведь все в соответствии с наставлениями по ведению войны в условиях космического наблюдения складировалось рассредоточенно и тщательно маскировалось. Добравшись в нужное место, легионер Кисленко вначале занялся открыванием нужного ящика, потом приведением микролетуна в готовность, а уж потом обратил внимание на одну «мелочь». Он отложил тестирование самолета и связался с Потапом Епифановичем.
– Что такое? – слегка удивился тот, ощутив в наушнике человеческую речь. – Самолет не тестируется?
– Командир, вы не распоряжались перемещать лошадей?
– Я? – опешил майор Драченко.
– Дело в том, что их тут нет, – пояснил Кисленко. – И я их не наблюдаю поблизости.
28
Пластик, железо и прочее
Контр-адмирал Лигатт наблюдал за процессом сразу из трех измерений. То есть, во-первых, он видел кое-что через поляризационное стекло с высоты девятиэтажного дома. В минуту некоторого затишья в поступлении докладов он невольно раздумывал о том, что в былые времена, капитанам прошлого уже этого стало бы достаточно для управления всеми процессами. Правда, они не оперировали такими массами, как сейчас. Но адмирал Лигатт был абсолютно уверен – его предки справились бы с задачей наверняка. «Мы мельчаем, – размышлял он в такие минуты, – шагу не можем ступить без подстраховки компьютеров». Это относилось ко второму и третьему измерениям, посредством которых контр-адмирал взаимодействовал с миром. Расположенные вокруг плоские экраны отображали события, вершащиеся сейчас на самых важных участках. Съемка велась со множества камер одновременно. Помещенные где-то ниже адмирала люди и машины занимались анализом и перебором изображений, выдавая вверх самые нужные на данный момент ракурсы.
Кроме того, имелось еще одно измерение. Оно было абсолютно виртуальным, но, разумеется, согласовывалось с происходящими реально событиями. В нем процесс отображался в виде упрощенных мультипликационных моделей с демонстрацией цветных стрелок, имитирующих векторы движений масс и объектов. Особо опасные поползновения механизмов моментально пыхали пурпуром. Одновременно соседние экраны демонстрировали возможные в данном случае противодействия опасным ситуациям. Все окружающее было рассчитано не то что на полного дурака, но на человека, знающего о происходящем самый минимум. «Мы явно деградируем, – философствовал контр-адмирал Лигатт, – сложные и не провернутые через первичную мясорубку модельного упрощения действия мы скоро совершенно разучимся понимать». Было даже странно, что адмирал додумался до таких вещей, ведь он не застал не то что века парусников, когда все управление базировалось на опыте поколений и интуиции, но даже просто времена некомпьютеризованных кораблей. Даже в период его молодости ни одна пушка на каком-нибудь задрипанном катере береговой охраны не смогла бы стрелять без информационной подпитки вычислительных машин. Однако вся его служба прошла как раз в тот период, когда компьютерные технологии резко расширили область своего применения и скачком сократили количество непосредственно ведущих управление морскими операциями людей. Кроме того, он явно наблюдал, что приходящее сегодня на борт молодое пополнение, несмотря на гораздо большую адаптацию к виртуальному миру, стало заметно глупей. Это чувствовалось. И наверняка не потому, что он стал за эти годы много умнее. Разумеется, нет, он стал просто опытнее.
Несмотря на то что первое из наблюдаемых адмиралом Лигаттом измерений было самым реальным, как раз оно, по сути, являлось абсолютно ненужным дополнением для успешного проведения процесса. Ведь в самом деле, сейчас погода стояла вполне нормальная – видно было далеко. Но какой бы толк имелся от прямого наблюдения, если б сейчас штормило, плюс к тому с ветерком и косым, непробиваемым ливнем? Или даже вокруг просто-напросто властвовала ночь? Естественно, любую обыкновенную ночь можно переждать, однако что делать, если бы вершащийся сейчас процесс пришлось выполнять в условиях полярной зимы? И потому по большому счету наблюдаемая через поляризационное стекло картинка оказывалась просто источником любования миром, и не более того. Так что всем, что происходило, адмирал Лигатт руководил через отображение векторов и ракурсы видеокамер. Ему приходилось подчиняться времени – жить в виртуальности и именно через нее контролировать реальность.
Сейчас он вел управление очень важным процессом, именуемым среди знающих военных «стыковкой». Цель «стыковки» была в создании на границе двух океанов искусственного полуторакилометрового острова – «большой боевой линейки».
29
Твердый грунт
– А где же они? – спросил Потап Епифанович вслух у самого себя. Одновременно вопрос восприняла подбрюшная «IBM-4000». Но Потап Епифанович уже и без него понял, где. Однако он уже взял себя в руки и заблокировал голосовой канал пересылки информации. После этого он спокойно доброкачественно ругнулся и, используя компьютерный канал, передал Захару Кисленко приказ произвести срочный запуск разведчика. Теперь командир «Ахернара» понимал, а компьютер подтвердил это с девяностопроцентной вероятностью, что тот самый таинственный объект и есть исконные воронежские лошаденки. Несмотря на то что этих рысаков вывели в век расцвета технологий и компьютеризации, развязывать привязь они скорее всего не умели. А если бы даже сумели, то паслись бы поблизости, а не пошли неизвестно куда, тем более скопом. С другой стороны, может, их напугали подрывы мин? И они теперь несутся сломя голову, сами не зная куда? Все допустимо, но Потап Епифанович был слишком тертым жизнью мужиком и воспринимал принцип Оккама всем нутром, еще до того, как узнал его теоретически.
«Кисленко, – напечатал он, всего лишь умело шевеля снабженной сенсорами перчаткой. – Посмотри, где наш проводник?» Он имел в виду приданного отряду негра-трансваальца. Именно ему, как не задействованному в деле истребления, поручили охранять припасы и ездовых животных.
Однако Захару Кисленко было сейчас не до этого, он уже провел ускоренное тестирование самолетика и подготовил запускающую его трубу к выстрелу. Получив предыдущий приказ майора о срочном запуске, он начисто забыл оговоренную до того инструкцию о запрете пуска вблизи остального лагерного имущества. Это делалось по нескольким причинам одновременно. Во-первых, из-за возможного возгорания; во-вторых, дабы не демаскировать место нахождения склада. Сейчас легионер Кисленко нарушил оба принципа.
Самолет запускался аналогично стрельбе из гранатомета, то есть летающую машину первично выталкивал вверх достаточно сильный пороховой заряд. Ведь желательно было запустить наблюдатель как можно выше. Снизиться, если надо, всегда проще. Поскольку микроавиация создана для разведки, то труба имела специальный глушитель, ибо какой смысл от тайного наблюдения, если ты сообщаешь о взлете грохотом на весь лес? Тем не менее из задней части водружаемого поверх плеча пускового устройства неизбежно плескал огонь.
Разумеется, Захар Кисленко не собирался что-то поджигать. Однако над ним были деревья, и он долго вертелся на месте, выбирая просвет. Окружающий мир, в том числе и готовые к погрузке ящики, для него сейчас не существовал. Играло роль только прицельное устройство. Как только он нащупал достаточно большую прорезь в листве, он нажал пуск.
Позади него стоял небольшой ящик с сигнальными ракетами. Ящик не был металлическим, поскольку, когда ездишь не на джипах, а на лошадях, приобретаешь стремление к сбросу прочь каждого лишнего килограмма.
30
Твердый грунт
На некоторое время все внимание Потапа Епифановича сосредоточилось на запущенном самолете. Он отсек поступление прочей информации и сосредоточился на результатах проверки микромашины. Вообще-то этим занималась автоматика, но майору чрезвычайно сильно хотелось ускорить процесс. Ведь после он собирался направить разведчика в сторону удаляющихся – теперь он был уверен – лошадей, а после к приближающимся пограничникам. Все-таки требовалось уточнить их состав и вооруженность. Контроль функционирования малютки прошел нормально. Это было привычно, но все-таки удивительно. Столь хрупкая штуковина, пройдя сквозь солидную, смертельную для человека встряску при взлете, сумела без помех развернуть в небесах свои крылья и теперь славно парить, рубя небо прозрачным винтом. И самолетик взял указанный компьютером курс.
Теперь Потап Епифанович проверил, чем занимается передовая линия легионеров. Большинство уже начали отход. Только двое задержались, расстреливая кого-то, находящегося в пределах зоны поражения. Любование высвеченной в глазу картой местности с символами-человечками заняло еще какое-то время. Майор Драченко уже понимал, что вся эта суета является только поводом, отодвигающим время принятия решения. Что же делать? Вообще-то вариаций по-прежнему оставалось только две. Уйти или принять бой. Правда, первая теперь затруднялась тем, что без лошадей пришлось бы бросить практически все тяжелые предметы. С другой стороны, принять бой в условиях более чем наполовину истраченных боеприпасов, с совершенно наспех подготовленной позиции? Однако, пока кто-то будет сдерживать напор нападающих, может быть, удастся каким-то, пока неясным образом вернуть лошадей назад?
Разумеется, решение можно принять и наобум, навязав его в качестве аксиомы и людям, и машинам. Но, может, пока суд да дело, стоило все же оценить варианты с помощью компьютера? Тем более за это время микроразведчик долетит и туда и туда. Можно будет убедиться, лошади ли это идут рысцой на удалении и какой точный состав вооружения у приближающегося отряда. Потап Епифанович задал своей «IBM-4000» сразу две задачи. Вторую – по поводу того, что позволительно захватить с собой в случае отхода пешком.
В это время воспламенившиеся сигнальные ракеты из злополучного ящика уже взрывались. Если бы уши майора Драченко не были прикрыты многослойной защитой кевларового шлема – он бы это услышал. А если бы зрачки его не были пронизаны лазерным телелучом – он бы увидел, как они взметаются над деревьями и распускаются вверху разноцветными плямбами. Но пока Потап Епифанович был занят. Он скомандовал аппаратуре, чтобы акустический локатор развернулся в сторону прущих напрямую через лес пограничников. Метнувшийся по азимуту «ушастик» почти сразу, после трехсекундного накопления данных, выдал требуемую для компьютера информацию о скорости неприятельского отряда. Выходные данные несколько сняли озабоченность по поводу «оранжевых». Они шли явно медленнее, чем планировалось, и уже не укладывались в минимальные пятьдесят пять минут. Между прочим, «ушастик» слышал какофонию, поднятую сигнальными ракетами, но, выполняя задания, он вырезал все мешающие делу частоты. Естественно, параллельно этому первый номер минометного расчета, да и не только он один, пытался сообщить Драченко о странно близком салюте, но все никак не мог пробить возведенный майором барьер информационного приоритета. А вот вызвавший пожар Захар Кисленко совершенно не пытался связаться с начальником, и вовсе не потому, что был ранен или же боялся ответственности. Хотя ее он, разумеется, боялся, он знал, какие у Епифановича железные кулаки. Но Захару было некогда. Он, рискуя жизнью, оттаскивал от продолжающего пылать и запускать ракеты ящика другое оборудование.
Надо учесть, что все вокруг происходило невероятно быстро и параллельно. Возможно, лишней минуты, а то и тридцати секунд, хватило бы для обуздания стихии хотя бы в информационном плане, но окружающий группу мир не давал этих минут и этих секунд. К тому моменту, когда компьютерное сообщение о пожаре и взрывах преодолело приоритетно-информационный барьер аппаратуры и сообщение уже начало выводиться на экран, случилось еще кое-что. Кстати, сообщение боролось не только с новостями другого рода, но и с докладами о том же событии, посылаемыми из разных источников. Ведь взрывы ракет наблюдали даже летающие разведчики, правда, только в качестве отсветов на деревьях, ибо их видеосредства направлялись вниз.
Так вот, информационный блок, оттеснивший все остальное, относился к приоритетам высшего уровня. В пределах пятнадцати километров от позиции появился вертолет. Сообщение пришло со спутника. Все-таки хозяева в Трансваале не оставили своих посланцев насовсем. Понятно, что почти одновременно сообщение о летательном аппарате поступило и из других источников. Вертолет был боевой. Кроме того, Потап Епифанович Драченко с удивлением узнал о том, что над отрядом «Ахернар» взрываются сигнальные ракеты. Но ни он, ни поясной компьютер уже не успели догадаться, откуда они взялись.
31
Пластик, железо и прочее
Вообще-то вертолет был старый. Да и назван именем одного из когда-то истребленных народов. «Апач» – старая американская «лошадка» почти полувековой давности. Каким образом он еще летал? Просто. В действительности он был вовсе не рухлядью. С тех пор как его выпустили, он несколько раз проходил капитальный ремонт, включающий смену двигателя и много чего еще. И модернизировался он тоже достаточное количество раз. Да, наверное, он не смог бы конкурировать с какими-нибудь современными моделями, но что выставлялось против него сейчас? Два носимых противосамолетных комплекса? Наплечная станция постановки помех? Глупости и детские игрушки. Против этого всего, включая угнанных воронежских лошаденок, «Апач» был и оставался очень и очень грозной машиной.
Он был способен двигаться над самыми вершинами деревьев. Для того чтобы обнаружить цель, ему не нужно было высовываться из-за препятствия. Зависая на месте, он выставлял вверх только краешек винта. Там находились фотокамеры и радары разного назначения. В том числе и те, что «подсвечивали» жертву. В боковых контейнерах помещалось пятьдесят ракет «воздух – земля», способных самостоятельно находить индивидуальные цели. Вся эта свора запускалась одним движением снабженной сенсорами перчатки. Причем стартовала залпом.
Это было очень удобно. Боевой вертолет, даже старый, был штуковиной дорогой. (По крайней мере так считалось в 2030-м, пока нефть еще существовала.) Не стоило рисковать им ради такой мелочи, как банда каких-то контрабандистов. Нужно было всего лишь подойти на заданную дистанцию и, совершенно не «высовываясь», сделать единственный залп. Ну а потом возвращаться на родимый аэродром допивать кофе. После, когда до места доберутся пограничники, они доложат о результатах удара. Может быть, придется взлететь еще разок. Разумеется, если начальство не пожадничает насчет керосина. Заодно отряд разберется, кого накрыл залповый огонь. После того как искусственно выпячиваемую демократию во всем мире тихонько и без гимнов затолкали под сукно, летчикам стало как-то легче работать. Теперь не нужно было подлетать на опасную дистанцию и всматриваться в нечетко различимые лица – представляют ли они какую-то явную опасность? Спрашивать у них визы на въезд в страну и прочее. Теперь все эти «иду на вы» благополучно сдали в утиль.
Сейчас задача вертолетчиков еще более облегчалась. Там, над местом сражения неопознанных гангстерских группировок, салютовали ракеты. Это стало прекрасным ориентиром и допускало стрельбу с большей дистанции. Так что, оказавшись в пятнадцати километрах, вертолет запустил вперед ракету-корректор. Выйдя в запланированную точку, она стрельнула парашютом. Над полем боя, на высоте километр, завис «глазастый» наблюдатель. Он мигом обозрел окрестности и передал все нужные координаты и картины на борт «Апача». Что с того, что по парашютисту-корректировщику легионеры «Ахернара» успели пустить противоракету? Ей было просто не успеть. Разве что на борт вертолета метнулись новые данные о выявленной точке ПВО?
Затем старичок «Апач» родил перед собой расходящийся огненный веер. Он даже не дернулся от отдачи – аппаратура загодя отразила удар добавочными оборотами винта.








