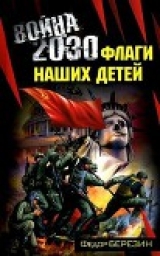
Текст книги "Флаги наших детей"
Автор книги: Федор Березин
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
96
Твердый грунт
– Пехота у них одна не ходит, – сказал на предбоевой планерке техник отряда Миша Гитуляр. – Знаете, что они сделают, когда подойдут достаточно близко? – Никто из окружающих не отозвался, но все головы повернулись к говорившему. – Они пустят вперед «шаропитека». Мы это предвидели?
– Это что за зверь? – на полном серьезе спросил Захар Кисленко. Все остальные поняли. «Шаропитеком» назывался боевой шарообразный робот, применяемый американской армией для борьбы с пехотой врага. По крайней мере иногда применяемый. Странно, что Кисленко о нем не знал, или его все-таки немного контузило после того разгрома в окрестностях Лимпопо?
– Такая штуковина метр на метр. Хорошо бронированная и обтекаемая. Катится в нужное место по заданной программе. Когда подкатится, размыкается на половинки и поливает все из трехствольного пулемета, – бесстрастно пояснил Гитуляр.
– Что ты пугаешь народ? – сымитировал строгость командир отряда Герман Минаков. – Против нас работает десант. Откуда у них такая тяжелая штуковина?
– Не думаю, что его трудно сбросить с неба, – пожал плечами технически подкованный подчиненный. – Уж точно не сложнее человека.
– Пусть так. Но он, наверное, лучше используется на ровной местности. А здесь все же горы, – не особо уверенно ухмыльнулся Герман.
– Не особо они крутые – эти горы. Кроме того, я знаю, что для него главное – твердость грунта. Вот с этим тут все в порядке.
– Глупости. Если наши нашлемные средства разведки его обнаружат… А они его обнаружат. То что сложного уничтожить его еще до того, как он разложит пулеметы? – Минаков уже чувствовал привкус победы в споре.
– Все правильно, лейтенант, – внезапно подал англоязычный голос всегда отмалчивающийся Матиас Соранцо. Оказывается, он не дремал, а вполне улавливал, о чем беседуют остальные. От удивления все уставились на него, как на говорящего кролика или, точнее, змею. – Я видел эту штуковину в бою. Умная, конечно, дрянь – попусту не стреляет. И целится быстро. Но зато патронов у него немного. Точнее, много, но расходуются быстро.
– Ну и что? – сказал уязвленный Миша Гитуляр. – Нас что, целая армия? У него тепловая и видеоаппаратура опознавания целей. Да еще локатор. А когда патроны кончаются, он складывается и катится назад.
– Неужели у десантников будет время его снова заряжать? Пихать в него ленты? – спросил Герман. – К тому же он наверняка поражаем гранатометом. Правильно, Матиас?
– Не знаю, не видел, – прикрыл глаза итальянец. – Но почему бы и нет, лейтенант?
– Короче, – повысил голос Герман. – Он что, мощнее танка? Думаю, что нет. Да и вообще, делим тут шкуру неубитого медведя. То есть боимся того, чего там и вовсе нет. Не верю я, что десант таскает с собой такие тяжелые предметы. Быть того не может. Развлеклись, и будет. Давайте поговорим о реальном планировании боя.
97
Твердый грунт
Давид Арриго нисколько не сомневался в успехе операции. За ним стояла мощь всей американской военной машины, включающей не только сегодняшнюю региональную группировку флота и самолетного парка. На него работали аналитики в парящих над Штатами летающих командных пунктах и скользящие по орбитальным эллипсам спутники. Ему повезло оказаться на острие процесса. Это надо было ценить. Не каждому в жизни выпадает такое доверие, и уж точно не тем, кто остался маяться в Нью-Мексико на социальное пособие безработного.
Да, задание относилось не к самым простым. Самые простые – это из породы «пришел, увидел, победил». Здесь было несколько другое. Врагов не подразумевалось уничтожить подчистую. С таким делом отряд справился бы легко, как и принято в американской армии. Вообще-то только из-за этого Давид Арриго и прочие вряд ли бы потребовались. Одна-две выпущенные с корабля ракеты вполне решили бы проблему.
Здесь присутствовало что-то необычное, наверняка связанное с международным терроризмом. Не зря в отряде находились два человека, владеющие русским. Правда, по мнению Арриго, это могло быть случайностью. Будь Давид Арриго чуть более грамотен в плане теории, то, оперируя вероятностями, он бы быстро пришел к выводу о невозможности эдакой случайности. Однако Давиду Арриго повезло, он умудрился получить свои лейтенантские нашивки без особо длительного сидения за партой. В последние десятилетия, когда Америка повесила на себя дополнительные функции, относящиеся к положению мирового гегемона, ее армии требовалось пополнение в сорок пять тысяч молодых офицеров. И так каждый год. Учитывая, что волна автоматизации и компьютеризации накрыла армию самой первой среди государственных институтов, это количество могло показаться чрезмерным. Но это не так. Все рассчитано. Ведь несмотря на то что чудовищные орды периода тотальных войн канули в Лету, процент офицеров по отношению к остальной массе войск возрос. Естественно, ни отстроенный после теракта 2011 года Вест-Пойнт, ни офицерские школы родов войск, ни офицерские кандидатские школы, ни даже подготовка офицеров в гражданских вузах не могли дать такое пополнение. И потому довольно часто приходилось присваивать «вторых лейтенантов» относительно достойным и добросовестным военнослужащим-сверхсрочникам.
Давид Арриго значился обыкновенным американским ворент-офицером, когда на его плечи внезапно легли погоны командира. Правда, они не приподняли его в воздух, подобно ангельским крылышкам, ибо спикировавшие одновременно дополнительные обязанности несколько надавили сверху, но все же он почувствовал огромный прилив энергии. Да и оклад увеличился, а учитывая всяческие надбавки и привилегии, даже весьма. Давид Арриго ощутил прилив благодарности к вышестоящим инстанциям. Громадные колесики армейской механики вверху провернулись на нужный угол, вызвав соответствующий, тщательно отмеренный резонанс в его голове. Кто-то там, наверху, хорошо к нему относился. Это нужно было ценить. Но связь работала в обе стороны. Теперь та, отлаженная механика вверху, могла включить в свои расчеты дополнительный заряд преданности.
И потому сейчас Давид Арриго собирался выполнить свое задание на все сто процентов.
98
Пластик, железо и прочее
Единственный из пяти модулей «линейки», носящий имя адмирала, а не старшего государственного администратора, составляя с ними единое целое, тем не менее находился от места происшествия больше чем в километре. По крайней мере поначалу. Потом, когда в палубу стоящего средненьким «Карла Винсона» начали втыкаться горящие части сошедших с ума крылатых ракет, происшествие приблизилось. Вообще-то катаклизм накатывался с такой скоростью, что смотрелся не как цепочка вызывающих одна другую катастрофу, а как одно непрерывное явление. Что, кстати, было правильно. Одновременно «Честера Нимитца» достигла ударная волна взрыва «Гуиина». Визуально впереди наблюдалось громадное облако дыма, затянувшее все. Помимо этого, от пролетающих вблизи крупных осколков инициировались автоматические системы противоракетной защиты. А от плюхающихся в море железных обломков – противолодочные. Естественно, поскольку все пять модулей-авианосцев связывались компьютерными и прочими системами связи в единое целое – причем в основном с помощью кабелей и световодов, а не через радиоэфир, – то возбуждение ПРО и ПЛО одного вело к скачкообразному введению в готовность других. Да, разумеется, не все на кораблях было отдано на откуп автоматике – люди являлись важным и в общей массе почти всеведущим звеном. Тем не менее уже почти два десятка лет назад стало абсолютно ясно, что на человека опираться при запуске антиракет нет смысла. Во многих случаях он просто не успевает сработать как надо. Сейчас, поскольку корабельная ПРО отслеживала огромное количество внезапно появившихся на близкой дистанции и неопознаваемых объектов, она даже пыталась их сбить. В некоторых системах скорость реакции была столь мала, что несколько крупных обломков удалось поразить еще до падения в воду. Автоматические пушки левого борта «Винсона», например, вообще умудрились распилить два обломка пополам. Один из них оказался несработавшей боеголовкой. Система блокировки была сверхнадежной, как и предусмотрено инструкцией. Тем не менее никакая блокировка не выдержит тыканья в себя крупнокалиберных, да еще и разрывных пуль. Тысяча двести килограммов новейшего взрывчатого вещества гахнули у самого борта.
Помимо этого, приведенная в готовность кавалькада «большой линейки» находилась на войне. У каждого из авианосцев на борту имелись готовые к взлету истребители. Дело не в том, что они не запускались в автоматическом режиме. Сейчас это было бы и невозможно в связи с предупреждением о посадке лайнера. Ведь как бы получилось их запустить, если трехсоттонная машина гасит скорость, только проехавшись по всей длине «линейки»? Естественно, при договоренности получалось задействовать боковые катапульты. Однако о чем мы говорим? У кого было сейчас время на такие операции?
Теперь надо вспомнить то, что в общем на борту всей связки кораблей значилось более двадцати пяти тысяч человек экипажа. И главное даже не это. У небольшой части этого количества имелись возможности управлять сложными взаимодействиями людей и машин. Сейчас, в связи с творящейся катастрофой, многие из этих цепей оказались «обрубленными». Например, основной авианосец линии «Авраам Линкольн» лишился всех антенн. Помимо того, на верхнем мостике начался пожар, а замкнувшие на обшивку и друг на друга кабельные жилы прямо-таки стреляли молниями. В общем, с мостика не могли доложить, что происходит. Основной корабельный командный пункт находился двумя палубами ниже, но ведь оттуда не видели происходящего наверху. Кроме того, раскиданные там и тут звенья управления слали на центральный КП свои собственные сигналы. Так, внезапно потерявший контакт со спутниками центр связи доложил о своей потере. Учитывая количество спутников и дублирующих линий, можно было предположить все что угодно, вплоть до внезапного удара по космической группировке Америки. Параллельно центр, ведающий обзором окружающего пространства, внезапно полностью лишился картинок на индикаторах внешнего обзора. Выход из строя сразу двух антенн с фазированными решетками с учетом того, что даже при повреждении пятидесяти процентов плоскости любой из них она все равно бы продолжала работать, вообще чуть не свел с ума старшего в центре наблюдения офицера. Можно было предположить применение по авианосцу мощнейшего радиоэлектронного импульса. Чем вызывается такой импульс? Если не брать в рассмотрение засекреченные разработки – мощным или же близким ядерным взрывом. Надо не забывать, что командные пункты авианосца серьезно изолированы от внешнего шума, операторы не могли слышать прокатившуюся над палубами ударную волну. Вот тех, кто сидел под палубой второго по счету корабля – «Рузвельта», – тряхнуло сильно. Но ведь он не был флагманом «большой линейки», и, значит, не с него велось управление происходящим.
А туда продолжали стекаться не просто тревожные, а прямо-таки кошмарные сообщения. В былые, докомпьютерные времена скорость передачи новостей не успела бы за событиями. А значит, первоначальная авария, даже приведя к серии взаимозапускающих катастроф, не смогла бы инициировать ни систему обороны, ни что-либо еще. Сейчас же вся эта кавалькада работала даже не как бикфордов шнур, а как брошенный в огонь ящик с бенгальскими огнями. Если еще можно было каким-то образом додуматься до того, что авария на палубе инициирует систему ПВО, то уж никак не получалось догадаться, что сработает готовность противолодочной. Но ведь теперь поступили команды, что у самого борта зафиксированы быстро движущиеся объекты. Что это было? Торпеды? По всей вероятности, авианосное соединение подверглось неожиданной атаке в обоих средах. Возможно, даже ядерной. А в самом худшем из сценариев атака была произведена еще и по спутниковой группировке.
Так ведь еще учтем, что некоторые из «плохих» сообщений просто не имели возможности добраться до КП. Например, кое-какие из не слишком поврежденных самолетов на палубе – хотя таковых было немного – автоматически задействовали аварийную радиосигнализацию. Они заполнили эфир тревожными сообщениями о своей горькой судьбе. Понятно, что те, которых сдуло за борт или же под крыльями которых подорвались твердотопливные ускорители ракет, сообщить о себе ничего не успели.
Естественно, на всех кораблях начался аврал, причем в связи с неясностью происходящего совершенно разные вещи происходили одновременно. Например, на верхнюю палубу выскочили находящиеся в повышенной готовности пилоты. Они собирались отработанно быстро занять свои боевые кресла, однако здесь, на взлетной полосе, их встретила осколочная шрапнель все еще рвущихся ракет и топливных баков. Короче, над всем соединением воцарился хаос.
99
Твердый грунт
Для людей прошлого века такой боевой порядок взвода представился бы казусом. Оброненная горсть зерна, разлетевшаяся по округе. Не связанные между собой точки. Мизер, затерявшийся в складках местности. Однако времена плотно напиханных боевых порядков давным-давно миновали. Более того, возможно, миновали, или вот-вот помашут ручкой, времена, когда бой решает плотность огня. Какой смысл в плотности, если есть оружие, способное поражать с одного раза? Туда же, в прошлое, канули и стационарные позиции. Так что постороннему наблюдателю трудно было бы сейчас разобраться, кто обороняется, а кто нападает. И американские десантники, и бойцы отряда «Ахернар» находились во встречном движении. В принципе здесь действительно не имелось обороняющихся, вершилось взаимное нападение – встречный бой.
И понятно, ни один из бойцов не наблюдал визуально не только противника, но даже соратников. И дело не столько в горах. Капские горы – старое геологическое образование, в них почти нет мест, пригодных для порядочной тренировки альпинизму. Но сотни метров, разделяющие каждого, плюс маскировочные мероприятия делали свое дело. Естественно, никто из солдат не чувствовал себя одиноким. Любой враг обнаруживался загодя, а после его попадания в зону поражения на нем концентрировались усилия всей группы. Ну а в случае риска, то есть превосходства противостоящей стороны, ничто не мешало вызвать срочную помощь извне. И даже не вызвать – она явится сама, если только экспертные программы придут к надлежащему выводу. И пусть теперь, после случая у южного побережья, американские корабли отошли подальше, любой участок гор все равно находится в зоне ракетного огня.
Но вряд ли это понадобится. Хотя из-за забивающих эфир радиопомех отряд имеет смутное представление о событиях, отстоящих далее определенной дистанции, здесь, вблизи, контроль очевиден. Правда, спутники прямого оптического наблюдения ничегошеньки не видят. Все небо в клочьях облаков. Похоже, воздействие на погоду с обеих сторон привело к ее окончательно полной непредсказуемости. Хотя, кто знает, может, и предсказуемости? В том плане, что если рассудить, кому выгодна ее непредсказуемость? Кому выгодны эти клочья облаков? Уж, конечно, не Штатам, десятки спутников которых висят над районом зазря. Не все, разумеется, зазря. Некоторые просматривают мир в таких диапазонах и частотах, что погода им «до лампочки». Но все-таки обидно.
Зато весь район в пределах нескольких сотен километров далее оцеплен. Точнее, контролируется. Не оцеплен в плане того, что через каждый метр там стоят бравые пехотинцы армии США. Но в кое-каких узловых точках действительно дежурят. Высадились намедни представители Первой кавалерийской (только по названию, разумеется) дивизии. И понятно, висит в небе летающий 120-метровый катамаран «Супремак». Неблизко висит, но видит далеко, даже за горизонтом. Не подпустит он к Капским горам никаких чужаков, точнее, местных, извне. Вот менее полусуток назад пытались африканцы подогнать сюда, может быть, именно в эти места, по которым движется сейчас группа, танковый взвод. А может быть, два взвода. Правда, подгоняли старье, видимо, не очень надеялись, что прорвутся. Где теперь та славная древность – танки «олифант-18» со своими 105-миллиметровыми пушками? Наверное, до сей поры дымят там, где повстречала их разделяющаяся боеголовка. Если там осталось чему дымить, конечно.
Но даже если бы что-то из вражьей техники и прорвалось, Давиду Арриго все равно нечего было бы опасаться. Там, за его спиной, ждут своего часа выброшенные ночью с неба танки «макартур». Всего три штуки, но и это наверняка перебор. Потому что приблизительно ясно, чье сопротивление нужно подавить группе Арриго. Небольшая пешая банда, снабженная только переносным оружием. Нет ни артиллерии, ни дальнобойных ракет. К тому же их всего втрое больше, чем американцев. Задавить их тараканий напор совсем смешная задача. Тем более это ударная сила врага, то есть не программисты-террористы, на захват коих направлены все усилия. Этих можно даже не брать в плен, не возиться.
Ну а потом ускоренным шагом вперед, к той цели, что поставлена. Вот там придется быть осторожными, там нужно брать пленных, желательно всю группу, ибо на расстоянии не разберешь, кто там кто. Да и мало ли кто конкретно интересует верхи в живом, но никак не мертвом виде?
Так что, похоже, грубое оружие – танки будут уже совершенно ни к чему. Может, их сбросили сугубо для моральной поддержки взвода Арриго?
100
Твердый грунт
Сигнал пришел неожиданно. Можно сказать, не вовремя. Если вначале его ожидали. Мечтался он эдаким «богом из машины», который волшебно разрешит все еще до силового соприкосновения. Но не дождались. Пришлось ввязываться в перестрелку. Правда, так и планировалось. Американцы имели какие-то переносные, а может, расположенные на движущихся вдали танках постановщики помех. Это ощущалось. Связь отряда «Ахернар» не задавилась полностью, но стала очень ненадежной. То там, то тут на виртуальной карте, транслируемой в глаз, проявлялись лакуны. Это переставала поступать, временно терялась информация, отрабатывавшаяся и пересылаемая кем-нибудь из отряда. И каждый раз, когда она терялась, у Германа замирало сердце. Ибо мало ли что это могло значить? Вдруг там, в той координатной точке, где вот только что перебегал от валуна к валуну хорошо знакомый человек, уже пыхнула пылью свеженькая воронка. Потом, когда информация снова реанимировалась, становилось легче. Тем не менее дважды утерянный поток информации не возобновлялся. Двое из отряда уже исчезли окончательно, и как люди, и как боевые единицы. И один раз это оказалась действительно воронка. Те, невидимые, судя по электронной картинке, движущиеся в пяти километрах «макартуры» ввели в дело свои гладкоствольные 120-миллиметровки. Вот тогда, после первых потерь, сигнал Сергея Шикарева стали действительно ожидать как единственный шанс уцелеть.
Потом стало не до него. Даже если история с электромагнитной бомбой оказалась просто-напросто сказкой – притчей, придуманной для вдыхания в «Ахернар» доблести и геройства, – деваться стало уже некуда. Пал или пропал. Но теперь уж раз пропадать, то геройски. И они геройствовали. И свистели вокруг разогнанные плазмой пули. И сверкал периодически слепящий отсвет винтовки корсиканца Соранцо. И вроде кто-то из американцев замер там, вдалеке, если судить по сигналам датчиков. Было ли это правдой? Может, они просто заняли временную позицию в соответствии со своим планом?
А потом рухнули скошенные какой-то новинкой все три летающих самолета-воробья. И в левом зрачке у Германа Минакова добавилось неясности. Сам же он, кстати, долго пытался засечь американские микроразведчики. Ведь они наверняка имелись. Но никак не получалось. Может, они были слишком маленькими, на порядок меньше «воробьев»? Все возможно, ведь показывал же ему когда-то Шикарев носимый в кармане сувенир – поврежденную кибернетическую муху. Что против них сделаешь? И это тоже могло считаться достойным поводом для ожидания подрыва «элекромагнитки».
И все-таки сигнал пришел не вовремя, потому что именно за секунду до этого Герман Минаков навел винтовку на цель. Конечно, он не был уверен до конца. Теперь, без воздушных наблюдателей, не получалось провести идентификацию. Расстояние было не большим и не малым – полкилометра. Кроме того, двигающиеся, а может, уже покоящиеся вдали танки периодически подбрасывали на поле боя сюрпризы. Иногда в небе пыхали слепящие завесы. Летели во все стороны не заказанные никем салюты. Или дулись с земли дымовые стены. И то и другое действовало еще в радиодиапазоне. Все разом оно маскировало перебежки американцев. Они успевали подкрасться ближе. И хотя, по прикидкам компьютера, американцев было всего-то двенадцать человек, их уверенное сближение не сулило отряду «Ахернар» ничего особо хорошего.
Так вот, когда пришел придуманный не Минаковым, а Шикаревым сигнал – отпечаталось в глазу короткое слово «ГОРБ», – Герман как раз держал на мушке похожую на человека деталь местности. И хотя в запасе имелось только несколько секунд, он все-таки выстрелил. Ушли к цели две уверенные, разогнанные плазмой пули. Ибо обидно было их не послать. Потому как потом, если правда сядут аккумуляторы, останутся те пули в магазине без всякой пользы. Конечно, лучше бы послать туда, в цель, не две, а десять-пятнадцать штук. Но ведь времени действительно не осталось. Нужно успеть предупредить остальных, да еще и обесточить собственную электронику. И откатиться в сторону тоже не мешает. Кто знает, может, после его выстрела сюда уже несутся снаряды с не слишком скучающих, но и не загруженных до предела 120-миллиметровок.
И он делал все одновременно. Отбрасывал прочь ненужный теперь «плазмобой», пересылал команду «ГОРБ» подчиненным (как он хотел, чтобы она продралась сквозь помеховое поле) и отползал в сторону с места, из которого стрелял. Он еще успел пронаблюдать приход команд-подтверждений от подчиненных. Правда, не от всех. Но лишних секунд на ожидание уже не имелось. Требовалось гасить микролазер, рисующий картины в глазнице. Он не хотел, чтобы тот пыхнул аналогично винтовке выходца из Сардинии. И уже без всякой электроники он увидел, как взорвалась над тем местом, где он только что сидел, небольшая граната. Вполне возможно, пуля-граната. Ну что ж, как всякое событие в жизни, оно было в чем-то радостным, а в чем-то печальным. Радостным тем, что не пришлось испытывать на прочность нательную кевларовую броню. А оттенено печалью потому, что скорее всего два его патрона вылетели из ствола зазря. Но все-таки не мешало запомнить местечко, где засел американец. Кто мог знать, что будет сейчас, после взрыва?
Кстати, а может, он уже? В смысле состоялся? Этот самый обещанный локальный конец света для местной электроники.
Герман, не прекращая отползать задом, отстегнул от пояса датчик. (Не хотелось рисковать и снова задействовать глазной монитор.) В жидкокристаллической панельке не получалось ничего разглядеть. Герман перевернулся на бок и приподнял датчик для обозрения. Маленький индикатор был мертв.








