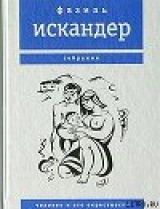
Текст книги "Человек и его окрестности"
Автор книги: Фазиль Искандер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Я лежал в кровати, а мой хозяин хватался за голову и с чувством вины, возможно похмельно преувеличенным, повторял:
– Как я мог забытъ об этом! – По его словам, медицинский спирт уже несколько лет как испортился. У пьющих медиков организм адаптировался к этому спирту, а я был свежий человек. Действительно, я пил спирт много лет назад в Сибири, и, судя по всему, тогда он еще не был подпорчен позднейшими примесями.
Если испортился спирт, подумал я, то есть вещество, предназначенное самой своей природой удерживать всё от порчи, значит, плохи наши дела. А мой неугомонный хозяин вызвал каких-то врачей с аппаратурой, проверяющей состояние сердца, и эта аппаратура, как впоследствии выяснилось – тоже порченая, злобно показала: инфаркт.
К счастью, тьфу! тьфу! не сглазить! – никакого инфаркта в помине не было и нет. Но пока выяснилось, что аппаратура пошаливает, и всё в одну сторону, представляю, сколько пережил мой хозяин. Разумеется, мне он ничего не сказал тогда об этом.
К вечеру я окончательно оклемался, и он меня привез в Москву на своей машине. Так что я не знаю, был ли его пациент именно моим земляком или это совсем другой человек. И спросить теперь не у кого, потому что мой богатырь теперь в Израиле. Такого неожиданного сальто, учитывая его могучую комплекцию, и такого точного приземления на небольшой территории я от него не ожидал. Впрочем, возможно, он и сам не подозревал в себе такой прыти.
А случилось вот что. Однажды ночью после крепкого возлияния он провожал на электричку своего друга. Видимо, им вместе было так хорошо, что они, гуляя по платформе, пропустили несколько электричек. Но в России нельзя забываться. Особенно когда тебе хорошо, тем более когда тебе хорошо ночью на загородной платформе.
Видимо, пока они гуляли по платформе, какие-то мрачные типы взяли их на мушку. Наконец мой любвеобильный хозяин заботливо посадил своего друга на электричку и пошел домой. Богатырь своим богатырством сам провоцирует удар сзади. Кто-то сзади ударил его чем-то тяжелым, и он потерял сознание. Пришел в себя – лежит на снегу, карманы выворочены, шуба и шапка исчезли. Еле дополз до дому и тут-то, вероятно, вспомнил, что у него мать наполовину еврейка.
И он заторопился в Израиль, а до этого совсем не торопился, я даже не знал, что у него есть такая возможность. И вот он со всей семьей уехал в Израиль, оставив своих психов черт знает на кого.
Хлебосолье – прекрасное свойство, но тут уж слишком. Теперь понятно, что он с еврейской энергией расширял свои русские возможности. Но поможет ли Израиль в этом случае? Кто его знает. Разве что шубу не снимут. Это точно.
Читатель может спросить: какое всё это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать? Отвечу коротко, даже огрызнусь: раз написалось, значит, имеет.
…И вот я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Слава Богу, здесь всё как раньше. Только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сидел лицом к входу, чтобы не пропустить его, и поневоле любовался городом своей юности.
Слава Богу, всё та же береговая линия, всё так же возвышаются дряхлеющие эвкалипты на приморском бульваре, всё так же сквозь густую зелень белеют дома, всё так же уютно выглядит приморская гостиница, если, конечно, не знать, что она после пожара начисто выгорела изнутри. Так как виновник пожара не был найден, решили, что он по неосторожности сгорел вместе с гостиницей. Говорят, что ее теперь отстраивают турки и поляки. Точно так же и в Москве, и в Ленинграде многие знаменитые здания реставрируются турками и финнами. То, что кажется побочным признаком конца империи – исчезновение мастеров, на самом деле является ее главным признаком.
Справа от меня, ближе к выходу, у самых перил ресторанной ограды, сидело трое молодых людей. Двое из них были одеты в ослепительные белые рубашки, а третий был одет в пурпур-ную шелковую рубашку, трепещущую и вскипающую под ветерком. Видно, он недавно ее приобрел, потому что время от времени замирал и любовался струящимся красным шелком. Они попивали кофе, рассказывали друг другу веселые истории и оглядывали входящих девушек. Народу в ресторане было довольно много. Было жарко, но под тенистыми тентами жара не чувствовалась. А столиков под тентами, как всегда, не хватало. Те, что сидели под тентами, явно не спешили их освободить, именно потому что некоторые клиенты упорно дожидались их освобождения.
Со стороны моря раздался завывающий шум приближающегося глиссера. Шум внезапно оборвался у самой пристани ресторана.
– Бочо пришел! – сказал один из ребят и, склонившись над перилами, посмотрел вниз.
– Второго такого хохмача в городе нет, – добавил краснорубашечник.
– Интересно, что он сейчас скажет, – заметил третий.
В самом деле, через несколько минут над перилами ресторанной палубы появилась курчаво-волосая голова с бронзовым, загорелым лицом. Он поднялся сюда по железной лесенке.
– Девушки, где вы? – зычно закричал он. – Спешите на морскую прогулку, пока я здесь! В летний сезон беру клиенток от двадцати до сорока лет! Старше сорока можете оставаться на местах – только в зимний сезон.
Девушки ринулись к нему. Одна женщина поднялась было, но, услышав конец его призыва, замешкалась, как бы пытаясь вспомнить свой возраст. Припомнив, погасла и села.
Молодыми застольцами она была тут же замечена, и они, кивая на нее, стали покатываться от хохота. Шесть девушек уже стояло около водителя глиссера.
– Вы! Вы! Вы! Вы! – тыкая пальцем, указал он на четырех девушек и отсек остальных: – А вы ждите следующего заезда!
Водитель глиссера сошел с лестницы и отступил на деревянную палубу по ту сторону ограды. Одной рукой держась за перила, он другой помогал девушкам перелезть через ограду и спуститься вниз по железной лесенке. Одновременно он весело и хищно оглядывал палубу ресторана. Заметив ребят, сидевших справа от меня, он, продолжая помогать девушкам, стал громко рассказывать:
– Сейчас от хохота умрете. Вчера сидим дома и обедаем всей семьей. Со двора подходит к окну соседка и кричит: «Наташа, ты дома. Что делаешь?»
«Обедаю, – отвечает жена. – Обедай, обедай! – кричит соседка. – А в это время твой муж и мой дурак с двумя курортницами уехали гулять в Новый Афон. А ты сиди обедай с детьми!»
Я умираю от хохота, а жена смотрит на меня: готова убить. Наконец кричу этой соседке:
«Я твоего дурака три дня уже не видел!»
«Что, приехал уже?» – говорит соседка и быстро уходит. Стыдно.
«Ты видишь, – говорю я жене, – как клевещут на нашу дружную, прекрасную семью. Тебе женщины завидуют, хотят нас поссорить». Приеду, расскажу еще одну хохму.
– Бочо, а куда ты дел тех девушек, которых катал? – спросил краснорубашечник.
– Как куда? – встрепенулся Бочо. – В родильный дом отвез!
Ребята стали хохотать. Последняя девушка, перелезавшая через ограду, вздрогнула и отдернулась.
– Не бойтесь, девушка, – живо откликнулся Бочо, продолжая держать ее руку в своей ладони, – я их на пляже высадил. Кто так шутит, никогда не тронет. А тот, кто тронет, – никогда так не шутит.
Девушка рассмеялась и окончательно перелезла через ограду.
– Вам остается понять, шучу я или нет! – крикнул Бочо вниз, уже спускающейся по лесенке девушке. Подмигнув ребятам, хохмач быстро спустился за нею.
Через минуту взвыл мотор, и глиссер ушел в море.
– Вот Бочо дает! – с восхищением сказал тот, что был в красной рубахе.
– А вообще он гуляет? – спросил второй.
– По-моему, нет, – сказал третий, – у меня была одна приезжая чувиха с подругой. И деньги у меня были тогда. Я встретил Бочо и говорю: так и так. Бабки у меня есть. Займись подругой моей девушки. Пожалуйста, говорит. Приходим в ресторан. Я заказываю всё что можно. Бочо наворачивает и хохмит так, что девушки падают. Даже моя стала к нему клеиться. Клянусь! Но обидеться нельзя – Бочо! Только поужинали, как он встает и говорит:
«До свиданья, девушки. Спасибо за компанию, но меня ждет красавица жена!»
– А у него в самом деле красавица жена, – вздохнул тот, что спрашивал.
– Не в этом дело, – поправил его краснорубашечник, – он, учти, гуляет в глубоком подполье.
Я, видимо, так увлекся жизнью молодых людей, что не заметил, как появился тот, кого я ожидал.
– Не согласен принципиально и окончательно, – раздался над моей головой веселый и твердый голос.
Я вздрогнул. Это был он. Всё в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. Ясно было, что они недавно начищены зубным порошком. Он стоял передо мной плотный, коренастый. Мускулистые, борцовские руки скрещены на груди. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие, живые светлые глазки. Металлический колпачок ручки, прищепленный изнутри на груди тельняшки, вспыхивал и отражал солнечный свет.
– Присаживайтесь, – сказал я, – сейчас закажем кофе, коньяк.
– Какая же это свобода, – сказал он, стремительно присаживаясь за столик, стремительно наклоняясь ко мне и стреляя в меня светлыми пульками глаз, – вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия! Какая же это свобода, батенька?
– Да, лишаю, – сказал я, – человек может экспериментировать над собой. В конце концов люди его образа мыслей могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты.
– Социализм в лаборатории – это, батенька, чепухенция! – воскликнул он, взмахнув рукой над столом. – В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет!
– Только, знаете, – сказал я ему, – если можно, без этих словечек: батенька, ни-ни, гм-гм. Особенно ненавижу гм-гм.
– Гм-гм, – незамедлительно произнес он, как бы для того, чтобы тут же, не сходя с места, утвердить свои права.
Я вспомнил, что точно так же в детстве мой сумасшедший дядюшка, бывало, если кто, выходя их комнаты, плотно прикроет дверь, тут же вскакивал и пробовал открыть в знак того, что никто не смеет его запирать, хотя его никто никогда не запирал.
– Запретить, конечно, я не могу, – сказал я мирно, – но постарайтесь, если можете.
– Я сказал «гм-гм» не нарочно, – пояснил он, – этим выразил сомнение в вашей демократичности.
– Так и скажите: сомневаюсь в вашей демократичности.
– Зачем мне говорить столько слов, когда я коротко говорю то же самое: гм-гм.
– В этом «гм-гм», – сказал я, стараясь быть доходчивым, – слышится какое-то подлое высокомерие. Как будто вы настолько выше собеседника, что он не стоит слов.
– Гм-гм, – сказал он опять, но, спохватившись, добавил: – Это я не по отношению к нашей беседе, а по отношению к тому, что вы считаете высокомерием.
Я понял, что эта мелкая перепалка может длиться бесконечно.
– Ну, как хотите, – сказал я и, стараясь поймать его в самый миг отклонения в безумие, спросил: – Что значит: «Ленин еще раз пойдет»? Появится новый Ленин?
Взгляд его отяжелел. Но мне показалось, что он взял себя в руки.
– Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, – сказал он уклончиво и одновременно твердо.
Я подозвал официантку, которая, стоя в сторонке, почему-то обидчиво поглядывала на нас. Она подошла.
– Вы пьете? – спросил я у него.
– Слегка балуюсь, – живо отозвался он.
Официантка нахмурилась.
– Два кофе и триста грамм коньяка, – сказал я и, обращаясь к нему, добавил: – Может, что-нибудь еще?
– Мороженое, – попросил он коротко, – умственная работа требует сладости.
Я вспомнил, что мой сумасшедший дядюшка тоже любил сладости. Тогда, в детстве, я изредка мог позволить себе угостить его лимонадом.
– Может, три порции? – спросил я.
– Три! Три! – вспыхнул он. – Вы угадали мою норму! Люблю иметь дело с проницатель-ными людьми, хотя от принципов не отступаюсь.
Официантка еще больше нахмурилась и, записав заказ, обратилась ко мне:
– Вы тут новый человек, умоляю: если дядя Степа начнет говорить, что он Ленин, остановите его или позовите меня. Я его попрошу отсюда. Я знаю, что сейчас свобода, но стыдно перед людьми… И Ленина жалко…
– Лениньяна продолжается, – загадочно заметил мой собеседник.
– Вы опять за свое? – с горьким сожалением сказала официантка.
– Дорогая, не забывайте, что я бывший доцент московского вуза, – не без надменности произнес мой собеседник.
– Вот именно – бывший, – мстительно подчеркнула официантка.
– «И за борт ее бросает в набежавшую волну», – неожиданно пропел мой собеседник хорошим баритоном. Он пел, глядя на официантку, и пение его как бы означало шутливую угрозу по отношению к ней и одновременно обещание, оставаясь в рамках Степана Разина, выполнить ее просьбу.
– Оставьте, ради Бога, – сказала официантка и отошла.
Мне не хотелось с ним спорить. Но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказыва-лось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Никакого убедительного доказательства автор не приводит, и всё это как-то не похоже на правду. Но там были вещи, которые показались мне бесспорными.
Ссылаясь на газету «Известия», где была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что эту информацию легко проверить? Но может быть, эту информацию «Известия» дали сгоряча, по слухам? Было ли позже в «Известиях» опровержение этой информации, уточнения?
Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину?
И потом слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстры на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. Кто спешил и почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан?
Обо всех этих сомнениях я ему рассказал. Он внимательно выслушал и вдруг воскликнул:
– Так вы и об этом знаете!
И, как бы боясь, что потом забудет, но важно, чтобы правда была полной, лихорадочно добавил:
– Только Дзержинский тут ни при чем! Запомните! Запомните! Запомните!
– Ну а как это было, если вы знаете?
Он тихо и подозрительно посмотрел по сторонам. Глаза его горели. Он наклонился ко мне и прошептал:
– Я вам всё расскажу. Вы наш, хотя и сами не подозреваете об этом.
– В каком смысле?
– В прямом. В трудную минуту вы оказали нам неоценимую помощь.
Казалось, он успокоился. Во всяком случае выпрямился.
– Какую?
– Вы помогли мне напечатать стихи, которые отвергли все редакции. Тем самым вы помогли поддержать дух народа, теряющего всякую надежду. Народ ждет Ленина. Вы наш. Вы же любили в детстве революционные песни?
Он пронзил меня буравчиками глаз. Я похолодел от чудовищной догадки. Откуда он это может знать? Это первая глава моей новой вещи! Ее еще ни один человек не видел! Я ее оставил в Москве у себя на столе! Украли! Украли! Никакого сумасшедшего не было и нет! Он оттуда! И стихи о Ленине были проверкой на лояльность! Но я случайно вывернулся тогда! Чего они хотят? Проверяют степень стойкости к безумию? Глупость! Держать себя в руках!
– Да, – сказал я, стараясь скрыть волнение, – я в самом деле в детстве любил революци-онные песни. Но откуда вы знаете это?
– Я всё знаю, – сказал он, насмешливо глядя на меня, – но почему вы смутились? Стыдитесь? Запомните, тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. Я тоже любил! Так, как я, никто их не мог любить!
Вместе с этими словами буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. О, как я знал это выражение по глазам дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня и узнавая и не узнавая меня, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. Господи, прости!
И сейчас казалось, двойник Ленина в невероятной тоске по разуму намекает на причину своего безумия и отсылает к подлинному Ленину, пытаясь уверить, что и его ошибки имеют тот же благородный источник.
Нет, брат, подумал я, этот номер не пройдет. А что касается песен – он прав. В самом деле так и есть: тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен! И тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни. Она не виновата в кровавом фарсе революции.
И нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Где граница? Нет границы! Это всё равно что винить разум в том, что иные люди слишком пристально вглядыва-ются в будущее и видят там свою могилу. Виноват ли разум, хотя, не будь разума, человек не знал бы, что он смертен? Значит, он сам в конечном итоге должен найти равновесие между бездной жизни и бездной небытия. Так и в искусстве, так и в песне.
Мой собеседник опять затравленно огляделся и низко наклонился над столом, приглашая меня сделать встречный наклон.
– Посмотрите сюда. Только вам, – сказал он доверительно.
Двумя пальцами сильной, загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит – не оставалось сомнения.
– Тише! К нам идут! Ни слова! – прошипел он и, бросив тельняшку, выпрямился над столом.
К нам быстро подошла наша разгневанная официантка.
– Вы опять за свое? – закричала она. – Я видела, что вы показывали! Я вас выведу отсюда!
– А что я показывал? – удивленно развел руками мой собеседник. – Я показывал след от фурункулов. Маркс тоже, когда работал над «Капиталом», страдал от фурункулов. «Дорого обойдутся мои фурункулы буржуазии», говаривал он в те времена.
– Значит, теперь Марксом заделались, – сказала официантка, явно сбавляя тон, – Господи, что за человек!
Она отошла, как бы примиряясь с меньшим злом.
– Конспирация, конспирация и еще раз конспирация, – сказал мой собеседник, явно довольный собой.
– Так, значит, стреляли в вас?
– А в кого же еще?
– Но ведь с тех пор прошло столько времени, – сказал я вразумительно, – разве вы похожи на человека, которому больше ста лет?
Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи.
– Мой настоящий биологический возраст, – сказал он, стараясь быть четким, – это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили.
– Разморозили?
– Конечно. Это длинная история. Но вы наш, вы еще послужите пролетарскому делу. Восстание близится, хотя день и час даже вам не могу открыть. Но оно неминуемо… Тяжелый кризис…
– Что, есть такая партия? – спросил я неожиданно, чтобы застать его врасплох.
– Есть! Есть! – ответил он, не только не смущаясь, а, наоборот, радостно распахиваясь. – Только она сейчас в глубоком подполье.
Он стал быстро-быстро черпать ложкой мороженое, отправляя его в свой губастый рот. И теперь казалось, что в сладости мороженого он чувствует сладость восстания.
– Кто вас заморозил и кто вас разморозил? – спросил я, стараясь быть как можно более четким.
Глаза его горели решительно и мрачно. Он резким движением отодвинул опустевшую вазочку.
– Это долгая история, – глухо начал он, – в чем трагедия Ленина? Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа: разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики. Они захватывают власть. А на втором этапе созидатели. Но как только Ленин попытался начать замену, случилось покушение… За это я и получил пули…
Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:
– Кстати, Плеханов жив?
Я не успел ответить, как он сам себя поправил:
– Умер! Умер! После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах… Так вот за это в меня и стреляли… Но были и верные люди. Особенно среди немецких товарищей. После ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня. А меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.
– Неужели, – спросил я, – вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!
– Конечно, – согласился он, – а что им оставалось делать? Было совещание в Политбюро. Сталин тогда сказал: «Пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина. Стаж его работы не будет утомительным. А мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Камо придется ликвидировать. Он дикий, он будет кричать: „Я знал Ленина! Это ненастоящий Ленин!“»
В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил:
– Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется, что делал Ленин первого сентября 1917 года?
Мой собеседник словно вынырнул из воды. Он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения.
– Более актуального вопроса вы не могли задать, молодой человек! воскликнул он. – Слушайте и запоминайте, это почти сегодняшний день! Первого сентября 1917 года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья, где он критикует выступления Мартова на заседании ЦИК Советов.
Мартов утверждает, что Советы, видите ли, не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы, по Мартову, привести к гражданской войне.
Тю! Тю! Тю! Тю! Нашел чем нас испугать! Цыпленок вареный, цыпленок жареный… По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай! Ай! Ай!
Узнаете наших сегодняшних либералов, молодой человек? Получается, что правительство борется с крайностями, как левыми, так и правыми. Как будто правительство не в руках у правых сил! Вот она филистерская мудрость, вот он урок сегодняшним правым и центристам! Ленин призывал брать власть в свои руки, не считаясь с войной, не считаясь с филистерской мудростью добренького Мартова! Вы поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек?
– Да, конечно, – сказал краснорубашечник, – я передам ребятам ваши слова.
– Идите и передайте, и пусть они действуют в согласии с Лениным!
Пока он говорил, молодой человек слушал его, исполненный издевательской почтительнос-ти. Друзья его тряслись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятался за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша.
– Вся надежда на них, – кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося краснорубашеч-ника, – давайте выпьем за них.
Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил:
– А наш патриот спелся с Мартовым… То же самое говорил… Говорит…
– Кто патриот? – не понял я.
– Да Плеханов Георгий Валентинович, – ответил мой собеседник, – он всю мировую войну стоял… и стоит… Нет, стоял, но не стоит…
Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющим и как бы стыдящимся того, о чем он умоляет, взглядом:
– Он жив?
– Умер, – сказал я как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях и он, естественно, мог еще об этом не знать.
Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу.
– Да! – воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. Как я мог забыть! Наш барин не выдержал обыск матросов! Выпьем за молодежь, штурмующую будущее!
Мы выпили, и я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матросов у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал:
– На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленина выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили.
– А Крупская знала об этом?
– Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни как в Шушенском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко. По аналогии. Но заграничная давалась туговато.
– А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?
– Конечно, догадывался, – кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое, – он ее шантажировал, чтобы она выдала мое местопребывание. «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове, – говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд, – или вы нам откроете местопребывание настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца». Но Наденька молчала как партизанка. Особенно он допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.
– Какой Гриша?
– Григорий Зиновьев.
– Так он принимал участие в похищении?
– Знал, но не участвовал.
– А Каменев?
– И знал и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись.
– А Троцкий?
– Нет, нет и нет! Я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш.
– Что же вы делали в Германии?
– Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику. А с другой стороны, после подавления революции готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знало только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжюмо. Это была трагедия, достойная Шекспира!
Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн, Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов!» Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой!» А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется!» Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили.
После прихода Гитлера к власти немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге на конспи-ративной квартире…
Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым, бытовым взглядом, сказал:
– Вы же депутат? Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира.
– Нет, – сказал я твердо, – этим должны заниматься местные Советы.
Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была с замученным ночевками где попало ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена не вполне законным путем. Я сделал для нее всё, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный Совет, оттуда направили в ее город комиссию. Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычное наше крючкотворство.
Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищные непристойности.
Мне эти звонки страшно надоели, и я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающейся именно такими делами. Я позвонил и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но, если она снова будет звонить, я с ним свяжусь.
И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло. Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то, знающий о моем телефонном разговоре с милицейской службой, сказал ей: «Хватит»?
– Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, – продолжал мой собеседник, – а в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной…
Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом нас обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась.
– Извините, что прерываю вашу научную беседу, – сказал он, – но мы, студенты, интересуемся, что делал Ленин девятого марта 1909 года?
– Не менее актуально, – радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что, в какой день жизни Ленина ни ткни, всё наполнено смыслом грядущего, – в этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ильиничне. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу, сестра была редактором его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которая выходила в издательстве «Крумбюгеля». Ленин уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смягчать его формулировок против Богданова и Луначарского.
А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телика стоит в церкви бывший большевик и держит свечу как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается, если ты большевик, то что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос бузиной, что дядя уехал в Киев или куда подальше. Но ничего! Скоро приедет! Полоть будем бузину, беспощадно полоть! Так и передайте товарищам!
– Спасибо, обязательно передам.
Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота.
Меня вдруг осенило спросить своего собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе.
– Скажите, – обратился я к нему, – после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется: как вы сюда попали? Кто вы? Откуда?
– Вы имеете в виду прописку? – спросил он и рассмеялся. – Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса – пять тысяч.








