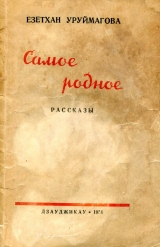
Текст книги "Самое родное (рассказы)"
Автор книги: Езетхан Уруймагова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
об этом времени... У меня украли детство, а твоя
жизнь идет светлой, широкой дорогой. Борись за нее!
Вот ты отказался полить деревья, они задыхаются
от жажды. А для кого они посажены здесь?.. Каж-
59
дой мелочью, трудом доказывай, что ты достоин
своего счастья...
– Сейчас полью, – 'горячо перебил ее мальчик,,
направляясь к бочке.
– Не надо, я сама сделаю, – остановила его
мать. – Я отведу тебя к вожатому и скажу, что не
пустила на сбор. Но ты сам расскажешь товарищам,
что не хотел мне помочь. Пусть звено решит, кто из
нас прав.
– Хорошо, – неожиданно твердо, по-мужски
произнес мальчик, – я расскажу... А можно мне
рассказать на звене про деда, про бой с белыми, пра
кровников? Можно рассказать, как они помирились?
Мать кивнула головой.
Они молча пересекли пшеничное поле. Высокие
колосья тяжело клонились к земле, легкой рябью
пробегал по ним ветерок. В теплом шелесте зреющего
зерна, в несмолкаемых шорохах ветра слышалась ей
звонкая молодость сына...
1950 г.
ЗАПИСКА.
Дочери моей
Ламзе посвящаю.
Значит, договорились, ребята?
– Не беспокойтесь, Анна Федоровна, – разда.
лись со всех концов класса детские голоса.
– Я надеюсь, – сказала пожилая учительница,—
что вы покажете себя настоящими семиклассниками.
От того, как вы будете учить уроки, как будете
сидеть в классе, вообще, от всего вашего поведения
будет зависеть практика наших молодых учителей...
– Знаем, знаем, если студент-практикант получит
тройку, так ему стипендии не дадут.
– Не только рто, – сказала Анна Федоровна.
– Вы должны понимать, что учитель не может сдать
свою педагогическую практику на тройку... Вот ты,
например, – обратилась она к краснощекому
ученику, – ты вчера чуть не заплакал, когда учительница
по географии поставила тебе тройку. Почему?
– Стыдно было, – ответил краснощекий.
– Тебе стыдно перед классом, а студенту будет
стыдно и перед вами, и перед своими профессорами,
и перед нами – старшими учителями. Поэтому
помогайте им. Молодой учительнице первый раз притти в
класс страшновато...
И Анне Федоровне вспомнился ее первый день в
школе.
...В 1915 году шестнадцатилетней учительницей
пришла Анна Федоровна в горскую, «туземную», как
называли их тогда, церковно-приходскую школу. Во
дворе ее встретили дети и молча, настороженно
разглядывали голубоглазую, светловолосую русскую де-
61
пушку. Она не говорила по-осетински, дети не гово^
рили по-русски.
Она ночевала в классе, устроившись на узеньких
партах. Сентябрьская ночь была темна, молчалива;
Где-то далеко, на другом конце аула надсадно лаяла!
собака, и в мутном осеннем небе тоскливо
курлыкали улетающие журавли.
Анна Федоровна смотрела тогда сквозь окно в
глухую осеннюю ночь и казалось ей, что идет она с
завязанными глазами по краю высокого обрыва...
Много лет прошло с тех пор... Когда-то длинные
русые тугие косы она выкладывает теперь на голове
белоснежной волнистой короной. Она теперь
заслужённая учительница, депутат Верховного Совета
республики, преподает русский язык в мужской школе.
Каждой год, когда порог ее класса переступают
молодые практиканты, она с юным волнением следит за
тем, чтобы ее ученики, упаси боже, как она говорит,
не подвели молодого, смутив его каким-нибудь
поступком.
Неделю назад она предупредила свой класс, что
в их школе будут проходить практику студенты
педагогического института.
– Через десять минут, ребята, придут и сама
студенты, их профессор и методист... Все ли у вас в
порядке?
– Всё, всё, Анна Федоровна, – ответил староста
класса и обратился к краснощекому ученику, который
получил вчера тройку по географии, – Ты всегда не
успеваешь писать диктант. Садись вперед, а то опять
будешь сто раз переспрашивать, спутаешь всё...
– Ладно уж, подумаешь, – обиделся
краснощекий, но все-же пересел на первую парту.
Еще не прозвенел звонок, а класс Анны
Федоровны был уже готов, и урок начался. У передней стены
сидели студенты, возле первой парты, куда пересел
краснощекий, поместился методист. Профессор и
Анна'Федоровна уселись немного в стороне.
Урок вела тоненькая высокая девушка в очках,
Она часто моргала близорукими глазами и не знала,
куда деть руки. Она их то совала в карманы жакета.,
62
то неестественно прямо вытягивала по швам. Звон*
ким дрогнувшим голосом она сказала:
–Здравствуйте, ребята!
Ей ответили дружным «Здравствуйте!»
Она слишком долго листала журнал,
побелевшими . губами чересчур громко выкрикивала фамилии
учеников. Потом объявила, что сейчас будет
диктант.
–Достаньте тетради, ребята,—сказала она.
Зашуршала бумага, дети, как по команде, взяли
ручки и приготовились писать.
Анна Федоровна все время ловила на себе
вопрошающие детские взгляды и чуть заметным мягким
кивком головы давала знать своим ребятам, что
довольна ими.
Молодая учительница волновалась и слишком
быстро читала текст.
; Краснощекий, как того и ждали товарищи, не
успевал записывать. Он растерянно поглядывал то на
класс, то на Анну Федоровну. Он знал, что она не
может сейчас вмешаться в урок, и стал беспокойно
ёрзать на парте и оглядываться на товарищей. Все
былп (заняты и не обращали внимания на
краснощекого. Его глаза налились слезами и, отчаявшись, он
положил ручку на парту, успев записать только
первое предложение.
< Молодая учительница неожиданно отошла от
стола и стала ходить между партами. Голос ее звучал то
у передних парт, то у задних. Класс забеспокоился,
стриженные головы поворачивались, следя за
учительницей. Это отвлекало внимание от диктанта.
Методист и профессор переглянулись, и
краснощекий услышал приглушенный шопот методиста:
«Плохо, очень плохо, во время диктанта ходить
нельзя»...
Мальчик бросил на Анну Федоровну умоляющий
взгляд, но она не поняла его. «Плохо,—подумал
краснощекий,—ей поставят двойку. Как ей дать знать,
чтобы она перестала ходить?» Его личное горе вдруг
отодвинулось. Забыв о том, что ему самому грозит
двойка за ненаписанный диктант, он вырвал из тетра.
0'5
ди лист, где стояла только первая фраза диктанта!
«Грядущее принадлежит нам». Но лист оторвался
неровно "и на нем осталось слово «грядущее». Он
торопливо написал на обрывке: «Вовка, передай
ей—грядущее – поставят двойку, ходить нельзя».
Он свернул записку и передал на заднюю парту.
Записка, как по конвейеру поползла в конец класса
и попала в руки старосты. Тот дважды прочел ее:
«Вовка, передай ей—грядущее– поставят двойку»
ходить нельзя». Что за чорт?—подумал он, но тут же
понял.
В свою очередь староста вырвал из середины
тетради развернутый лист и большими буквами красным
карандашом написал: «Ходить нельзя, идите на
место». Потом он вынул левую ногу и булавкой
прикрепил лист к колену.
Проходя между партами и повторяя текст
диктанта» учительница вдруг заметила лист бумаги,
прикрепленный к брюкам мальчика. Тот смущенно
смотрел ей в глаза и показывал на свое колено. Она
собралась было сделать ученику замечание, но, прочтя
написанное, покраснела и молча прошла к столу.
Все это время краснощекий не сводил глаз с
блокнота методиста, где, как иероглифы, темнели
таинственные пометки.
Методист перечеркнул красным карандашом
какой-то кружочек и рядом поставил маленький
крестик. Краснощекий забыл о грозившей ему двойке, его
нолновал этот крестик. «Что он
означает?—мучительно думал мальчик:—четверка, или пятерка?»
В том, что молодой практикантке ни двойки, ни
тройки не. поставят, он уже был уверен.
1951 г.
НА РАСКОПКАХ.
Он энергичным жестом откинул одеяло,
спустил ноги на пол и, нагнувшись к уху товарища,
прошептал:
– Пойдем? Посмотри, какое голубое
безмолвие,.. Весь лагерь спит.
– Пойдем, – приподнимаясь, ответил товарищ и
пошутил:—Боюсь, Володя^что за время наших
раскопок ты из инженера-геолога превратишься в поэта.
–В этом нет ничего удивительного—моя
профессия близка к поэтической, только рифмы у меня не
получаются... Возьми фуфайку, Алан.
– А сам? – спросил Алан.
– Я в кожанке пойду.
Дремотный свет луны сочится сквозь слюдяные
оконца палатки. Он падает на две узенькие походные
кроватки, вплотную придвинутые к полотняной стене,
на металлический ящик, заменяющий двум друзьям и
тумбочку, и сейф, и письменный стол.
Товарищи оделись. Володя невысок, плотен, у него
темные, с легкой проседью курчавые волосы; Алан
худощав и лыс, и товарищи говорят, что от своих
древних предков, могучих аланов, он унаследовал только
эту раннюю величественную лысину...
'Лагерь геолого-разведочной партии уже больше
трек месяцев занимается раскопками мертвого города.
– Фонарь не забудь, – шепнул Володя, беря
палку.
– По какой же тропе тебя повести? – спросил
Алан.
5 Самос родное
65
– Ну, конечно, по той, о которой ты
рассказывал, – ответил Володя. И выйдя из палатки,
восторженно прошептал: – Посмотри, голубое море звезд.,
– Море звезд, – таким же восторженным
топотом повторил Алан.
Друзья бесшумно проскользнули мимо белых
палаток лагеря, обогнули высокий холм и углубились в.
темную узкую лощину. Дрожащие лунные тени
стелились по дну лощины, повеяло сырым неприветливым
холодком.
– Сейчас пройдем эту лощину, поднимемся и
попадем в мой фамильный склеп, – шутил Алан, идя
впереди товарища.
– Скоро рассвет, – сказал Володя, очарованный
безмолвной красотой горной ночи.
– До рассвета вернемся, еще будем храпеть на
кроватях, как молодые боги. Не хочу' тебе днем
показывать эти места, не интересно, – сказал Алан.
– Надо вернуться до приезда Ольги Кондратьев-
ны. Мы преподнесем ей горные фиалки. ~
Со дня на день лагерь ждал приезда из Москвы
академика Пчельниковой, известного
ученого-археолога. Пчельникова много надежд возлагала на своего
любимого ученика Алана, который недавно защитил
кандидатскую диссертацию.
– Ты, – говорила она ему, – должен помочь
своему маленькому народу понять историю своих
далеких предков – аланов. Археология – наука
интересная, но без любви лучше на эту работу не итти.
Когда после войны Алан вернулся на кафедру,.
Пчельникова долго трясла его большую руку и,
погладив ладонью его ордена, сказала:
– Герой! Ты настоящий богатырь, недаром зовут
тебя Аланом. Начинай работать.
На раскопки мертвого города в горы Осетии Алан
был послан в качестве старшего научного сотрудника.
За башней, к которой направлялись друзья,
находилось кладбище, замурованное в горе. Еще на
рабфаке Алан рассказывал Владимиру о своем маленьком
ауле, прилепившемся на краю горного ущелья.
Сейчас представилась возможность показать другу ста-
E6
рую башню и «фамильный склеп», как в шутку
называл Алан кладбище своего аула.
– Ты знаешь, Володя, мне кажется, что в горах и
звезды совсем другие...
– Ну, конечно, не то, что мои рязанские. У вас
тут, как говорится, и ночи темнее, и очи чернее.
– Сколько лет я тебя знаю, и никогда, не могу
угадать – когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно.
– Ух, как напугала... Смотри, ящерица, и та.здесь
особенная, пугливая, как серна, – тем же
полушутливым тоном сказал Володя, отскочив в сторону.
Товарищи вышли на узенькую тропинку,
повисшую на краю обрыва.
– По ней теперь уже никто не ходит. Ты смотри,
поосторожней.
Мелкие камни срывались из под ног и скатывались
в пропасть.
Товарищи вышли на маленькую площадку перед
башней У основания башни, в скале, было много
расщелин, заложенных камнями. У одной из них
друзья остановились. Алан опустился на камень.
– Вот наш «фамильный склеп»» – сказал он.
– Здесь похоронены прадед, дед и отец.
– Может, и тебя, столетнего старца, Академия
паук из Москвы потащит сюда хоронить, – пошутил
Володя, почуствовав в голосе Алана взволнованные
нотки.
– Подсмотреть интересно,—тихо сказал Алан и
погладил холодный камень. – Камень всё такой же,
всё на месте, будто это было только вчера... Смотри...
Над башней плыли голубые туманы, звезды то
гасли, то вспыхивали в вышине.
– Расскажи, – попросил Володя.
– Хорошо, – промолвил Алан, овеянный
воспоминаниями детства, – я расскажу. Этот кусочек земли
много раз спасал мне жизнь, поэтому он мне так
дорог.
...Алан смутно помнил бурную осеннюю ночь и
грохот горного обвала. Под обвалом пбгибла вся ба-
ранта аула. Мужчины все ушли туда, в саклях
остались только женщины и дети. Утром, когда утихла
5*
07
буря и взошло над горами солнце, люди принесли
тело отца, завернутое в черную бурку. Этой бурки
долго потом боялся мальчик, потому что не узнал под
лей отца, изуродованного обвалом...
Алан помнит, как собрался весь аул, и отца
понесли высоко-высоко к каменной стене. Здесь его
замуровали и заложили расщелину большими камнями.
Он помнит искаженное горем лицо матери, длинные
распздценные волосы, исцарапанные щеки. И еще
помнит Алан, как летними ночами, когда всё
погружалось в глубокий сон, он медленно шел за матерью
по узкой осыпающейся тропинке, по которой уже не
ходили люди, говоря, что она оползает. Они приходили
х старой башне на краю ущелья, и мать, прижав его
к груди, долго молча сидела на холодном камне у
могилы отца. Похолодевшими губами она
прикасалась к щеке сына и тихо шептала, заглядывая в
пропасть:
– Хочешь, полетим?
Сколько безысходного вдовьего горя было в этих
двух словах!
Мальчик всем телом прижимался к матери, ему
было страшно.
– Не хочу лететь, – говорил он, – пойдем
домой, разведем огонь и будем греться у очага.
Сердце матери теплело и смерть отступала от них.
Дома, у каменного очага, мать рассказывала сыну
долгие сказки о голубой мерцающей звезде, которую
нужно похитить у злого колдуна, чтобы все люди
были счастливы. Но эту звезду может похитить только
самый сильный, самый смелый и самый добрый
человек.
И мальчику грезились могучие богатыри и
необыкновенные кони, летающие по небу. Но звезду
поймать никому не удавалось. Один за другим исчезали
богатыри в голубом звездном море и не
возвращались. И мальчик плакал горькими, беспомощными
слезами.
Помнит Алан и другую осеннюю ночь. Обвала не
было, но от грохота выстрелов сотрясались горы. В
ауле появилось много чужих вооруженных мужчин.
68
Их называли партизанами. Прекрасные черные бурки
были на них, а на шапках – яркокрасные, огненные
звезды...
В ту ночь, улыбаясь и плача, прижимая голову
сына к сердцу, она без конца повторяла:
– Ты будешь жить... Теперь ты будешь жить...
Много дней и ночей стоял в горах непрерывный
гул. Из самых отдаленных и высоких аулов
спустились к входу в ущелье старики и молодые, чтобы не
пропустить врага в горы.
У высокой башни, где только птицы летают да
проплывают тучи, за покрытыми мхом камнями, за
корнями диких сосен, за жестокими сухими
кустами – всюду врага поджидала смерть.
– Белые, – говорили мужчины.
– Белые, – шептали женщины.
– Белые, – повторяли дети.
Они играли в войну, и Алан помнить как его
выгнали из игры за то, что он не захотел быть «белым».
– Молодец, хорошо сделал, что не захотел быть
белым, – похвалил его партизанский начальник,
греясь ночью у костра. – Всегда будь красным.
Ленин тебя похвалил бы.
В ту ночь впервые услышал мальчик имя Ленин.
Вокруг очага на бурках лежали партизаны. На
рассвете они уходили.
–=Лишнлослал нам помощь из России, враг
бежит...
Кто такой Ленин? Что такое Россия? – молчаливо
вопрошали горящие глаза мальчика.
Партизанский начальник говорил, что Ленин
самый главный богатырь, самый смелый и самый
добрый.
«Значит, он может достать голубую звезду»,—
подумал Алан.
– А земля? – спрашивала мать.
– Будет у тебя земля. У всех будет земля, —
отвечал начальник. – И сын твой будет учиться в
большом городе.
«А что такое город?» – думал мальчик, не смея
спросить.
69
В долгие зимние ночи ему снились большие
сильные люди, которые шли по краю ущелья и огромные
камни из-под их ног с грохотом скатывались в
пропасть. Мальчик просыпался с бьющимся сердцем,
звал мать и тихо говорил: «Ленин».
– Скоро, скоро ты вырастешь, уйдешь в большой
город и увидишь богатыря Ленина, – шептала мать,
успокаивая его...
– Я помню день, когда тебя впервые привели в
общежитие рабфака, – перебил товарища Володя,
желая отвлечь его от печальных воспоминаний
детства. – Ты был смешной-пресмешной. Чорт знает,
куда делись твои кудри? Не было ни одной девушки,
которая бы не заглядывалась на тебя.
– А мама не дожила, не увидела меня
взрослым, – занятый своими мыслями, сказал Алан.
– Смотри: огонек, огонек, – зашептал вдруг
Володя и прижался лицом к расщелине, вглядываясь в
темноту склепа.
Алан тоже поднялся, но ничего не увидел.
– Чтобы это могло быть, как ты думаешь? —
спросил Володя.
– Я ничего не вижу
– Как не видишь? Отойди немного. Вот, смотри,
опять.
Действительно, в глубине могильника светился
острый, как игла, голубоватый огонек.
– Вижу, – выдохнул Алан.
– Голубой меч... А камень трудно отвалить, как
ты думаешь Алан?
– Днем лазить в эти могильники нельзя,
райисполком не разрешает.
– Давай попробуем сейчас, – с мальчишеским
озорством сказал Володя.
– Давай.
Друзья изо всех сил налегли на камень. Вначале
он не поддавался, но после нескольких усилий
отвалился и полетел в пропасть.
Товарищи вошли в могильник и на секунду
остановились, освещая фонарем углы склепа.
– А где же голубая игла?
70
В могильнике лежали большие квадратные камни.
– Под этими камнями похоронены мои
старики, – сказал .Алан. – Вот здесь отец, вот здесь —
мать.
Товарищи пошли дальше в глубь пещеры. На
одном повороте они опять увидели манящий свет голу*
"бой иглы, но она сверкнула и снова померкла.
– Что за чертовщина? – воскликнул Адеан – Гаси
фонарь.
Они медленно пошли дальше, уже в темноте,
изредка освещая путь электрическим фонариком.
– Вот опять... Смотри, вот она... Стой! —
прошептал Володя.
Товарищи остановились. Размеренно, со звоном
падала на камень вода. В этом месте пол пещеры был
темный и влажный. Друзья опустились на колени.
Светящаяся игла теперь не убегала от них, она
лежала на одном месте и искрилась серовато-голубым
светом.
– Лопатку, – прошептал Володя и ладонью
погладил светящийся луч.
Маленькой лопаточкой, напоминающей аптечный
шпадель, Володя осторожно снял верхний слой
земли. Алан небольшой щеточкой бережно сметал землю
со светящейся иглы. Увлеченные работой, они не
заметили, как в могильнике поредел мрак, поблек свет
фонаря и наступило утро. Наконец, они вытащили
металлический шлем причудливой формы. Голубая
игла, которая светила им в темноте, оказалась
блестящим камнем, вделанным в шлем.
– Похоже на сапфир. А впрочем, пошли, —
сказал Володя и поднялся, отряхивая колени.
Алан снял с себя фуфайку и бережно завернул в
нее находку. «Чей он был? Кто носил его?» – ь-звол-
нованно подумал он.
– Какое солнце! – воскликнул Володя, когда они
вышли из могильника. Оба закрыли глаза от яркого
света и легли на землю.
Черникой и мхом покрылись здесь камни. Сине-
розовыми слезами играла роса под солнцем.
– Фиалки, как в слезах. Нарвем и преподнесем
71
Ольге Кондратьевне, – сказал Алаи и неожиданно
расхохотался.
– Ты чего? – удивился Володя..
– Едва ли мой предок, которому принадлежал
этот шлем с голубым камнем, преподнес бы женщине
эти маленькие цветочки...
– Пошли скорее, пока не подняли тревогу. Хотя,,
насколько мне известно, у вас, у осетин, мужчин
никогда не крали, только женщин, – сказал Володя.
– А ты попробуй, укради осетинку, – смеясь
ответил Алан.
– А почему бы и нет? Ведь посмел же ты на
русской жениться. Чем я хуже тебя? Правда, у меня
нет такой величественной лысины и такой кавказской
талии, но я начну заниматься спортом.
Перед ними открылся лагерь. Необычайное
оживление чувствовалось кругом.
– Она приехала... Это она, – заволновался Алан
и побежал к машинам. Владимир едва поспевал за
ним. ''""' * .
Ольга Кондратьевна подняла на них прищуренные
в мягкой улыбке серые глаза.
– Вот они где! – сказала она и протянула Алану-
руку.
Алан положил на ее маленькую сухую ладонь
несколько влажных синих фиалок, а в другой руке-
поднял шлем со сверкающим голубым камнем...
1951 г.
СУД.
Клуб колхоза «Партизан» был переполнен. На
двери висело маленькое объявление:
«Разбирается поведение колхозницы ^ЗраХ*^
На собрание пришли и престарелые бабки, и
старики, которые ходят обычно только на
производственные совещания. То здесь, то там, среди старушечьих
темных повязок и стариковских бешметов, мелькали
пионерские галстуки.
Общее внимание привлекал правый угол зала, где
сидела высокая старуха с поразительно молодыми
серыми глазами, а за ее стулом стояла совсем еще
молодая женщина в белом шелковом платке, низко
опущенном на лоб. Это и была Зоя.
Было странно видеть ее такой робкой, смущенной,,
закутанной в большой праздничный платок, в то
время, как ее подруги по звену сидели в зале в легких
косынках и модных платьях. Они приглушенно
смеялись и делали Зое какие-то непонятные знаки.
Здесь не было никаких признаков официального
суда. И все-таки это был суд. Колхозное собрание
судило молодую, недавно вышедшую замуж,
колхозницу-комсомолку Зою, звеньевую передового
молодежного звена, которое уже третий год держит
переходящее красное знамя.
В феврале она вышла замуж за колхозного
бригадира, вернувшегося с войны с тремя колодками
орденов и медалей.
За что-же собрание должно было судить Зою?
Стоял уже май, а Зоя не работала с февраля,
хотя ее отпуск уже давно кончился.
73;.
Поддерживаемый внуком-пионером, в президиум
прошел восьмидесятилетний старик Гамат. Несмотря
на свои годы, он принимал активное участие" во всех
делах колхоза и часто говаривал:
– Пока человек жив, он должен работать.
Старого Гамата можно было видеть весной на
тракторной вспашке, осенью – на ломке кукурузы, а
морозной зимой – на рубке дров. Легко взмахивая
тяжелым топором, он тихо напевал шуточную осетин-
скую песню «Тауче».
" Когда старый Гамат подошел к столу и разгладил
красный сатин, в зале задвигали стульями и
приглушенно зашептались. Его часто выбирали в президиум,
но он всегда оставался в зале, говоря:
– Ладно, пусть я числюсь, а сидеть буду здесь.
Мне там трудно. Но сегодня Гамат сам пошел на
сцену, хотя президиум еще не избирали.
– Пора начинать, – шепнул председатель
колхоза парторгу.
– Товарищи, – сказал парторг, – считаю
собрание, колхозников колхоза «Партизан» открытым. На
повестке дня у нас один вопрос: «О звеньевой второго
звена Зое». Вы все ее знаете. Лучшая наша
комсомолка, стахановка, три года переходящее знамя
никому не отдавала. А теперь, пожалуй, придется его у
нее отобрать...
При этих словах Зоя вздрогнула, как от удара,
и откинула тяжелый платок со лба. Ее круглое,
всегда румяное лицо, стало белее платка, и она
растерянно посмотрела на гГодруг. Потом она опустила глаза
и чувство острого стыда перед людьми, которых она
знала с детства, вдруг охватило ее.
Она видела перед собой шерстянную повязку
сероглазой старухи—своей свекрови. Под черной
повязкой видна была тугая коса, завернутая в черный
ситец. Ни один волос на голове женщины не был виден.
Почувствовав на себе взгляд невестки, старуха
обернулась, привычным ловким движением натянула на
лоб -невестки платок и проворчала:
– Полно стариков, старух, а ты выставила
напоказ свои кудряшки... Срамота какая! Спрячь!
74
Зоя хотела было отойти от нее, но свекровь, как
бы угадав ее желание, схватила ее за руку:
– Не хватало тебе еще при всем народе сесть. А.
может быть, ты в президиум пойдешь, сядешь рядом
с Гаматом? Стой здесь!
И Зоя осталась стоять за стулом свекрови.
Серая суровая нитка висела на жилистой
загорелой шее старухи. На этой нитке держался квадратный
сафьяновый мешочек – талисман, «предохраняющий
дом от злого глаза». Зоя не раз просила мужа
уговорить старуху снять этот талисман.
– Неудобно, – говорила Зоя, – она ведь
хорошая колхозница, передовой человек, а носит такую
чепуху.
Но муж ласково отвечал:
– Пусть носит, нам он не мешает. У нас свое, а
у н-ее свое. Не будем обижать старуху. Мы же ее не
в комсомол принимаем.
Старуха одобрила выбор сына и устроила пышную
свадьбу, на которой гулял весь колхоз. Прошел
месяц, кончился отпуск Зои. УтрЪм она сняла с головы
традиционный свадебный платок, озорно вскинула
темными кудрями, посмотрела в зеркало и
повязалась яркой крепдешиновой косынкой. Оглядев еще раз
свою комнату, в которой она просидела месяц, по
обычаю, не имея права выходить, она распахнула
окно. Был март месяц, на улице стояли легкие
заморозки, и Зоя всей грудью вдохнула колючий холодох
раннего утра.
Свекровь удивилась, увидев открытое окно, и
поспешила в комнату. По обычаю, Зоя не имела права
даже приподнять занавеску, не то что открыть окно
во двор. Увидев на невестке шелковую косынку и
рабочее платье, старуха нахмурила брови и строго
спросила:
– Кто тебе разрешил снять свадебный наряд?
Ведь тебя даже к реке еще не водили, чтоб ты могла
ходить по воду.
Зоя показала на календарь и спокойно ответила:
– Отпуск мой кончился, мне надо итти в звено.
Извините, мама, я не могу больше сидеть дома.
/<>
Старуха резко оборвала ее:
– Ты не девушка, а замужняя женщина. И прог
сить разрешения уйти будешь не у председателя
колхоза, а у меня. Я твоя свекровь и командовать &
своем доме никаким звеньевым и бригадирам не
разрешу. Ты пойдешь на работу через год, когда, па
обычаю, сможешь уже показываться на людях. А
пока будешь дома. Я не хочу, чтобы моя невестка, не
выдержав года, как положено, ушла на работу с
открытой головой и голыми локтями.
Старуха прикрыла окно, сняла с невестки легкую
косынку и накинула ей на голову большой платок.
Зоя на работу не вышла. Поджав под себя ноги, она
весь день просидела в углу дивана. К ней приходили
подруги, звали на работу, но старуха встретила их
неласковым взглядом, и они ушли.
– Глупости, – говорили они, – она сама,
наверное, придерживается обычая, иначе, кто ей может
запретить? Поставим вопрос на бюро, пусть она
объяснит...
Вечером она со слезами рассказала обо всем
мужу. Он смущенно помолчал, потом сказал робко:
– Ты пойми, я не могу ее сейчас переубедить,
Побудь еще месяц дома, она поймет, что больше ты не
можешь сидеть без дела. Эх, нужна ты мне сейчас в
бригаде до зарезу...
Сейчас, на собрании он почему-то тоже смущенно
молчит, не смея обвинить мать и не решаясь защитить
жену.
– Говори, Зоя, рассказывай в чем дело, —
раздался голос из зала.
Свекровь сжала кисть ее маленькой полной руки,
но Зоя вырвала, руку и вышла вперед. Она оглядела
зал, заметила ободряющие взгляды мужа и подруг и
неожиданно закрыла лицо руками.
– Говори, говори, не стесняйся...
Старуха не выдержала. Она поднялась, заслонив
собой невестку, и громко на весь зал сказала:
– То-есть, как это – не стесняйся? Вы хотите,
чтоб она говорила при всем селе, при стариках? Вот
сидит старик Гамат, мой родственник по мужу – ви-
76
данное ли дело, чтобы она говорила при нем и при
таких, как он... Я запрещаю...
В зале задвигались, возмущенно зашумели.
Председатель зазвонил в колокольчик. И тут произошло
неожиданное.
– Садись! – крикнул Гамат старухе.
Он прошел по сцене и спустился в зал.
Наступило напряженное молчание. Гамат
подошел к Зое, взял ее за руку и повел за собой на сцену.
Напряжение наростало.
На сцене старик снял с Зои традиционный
свадебный платок, скомкал его и бросил в зал.
Лопнула напряженная тишина, в зале громко
зааплодировали, пионеры что-то кричали. Председатель
тщетно звонил в колокольчик.
А Гамат усадил Зою на свое место. Сам он
вышел вперед и заговорил твердым голосом:
– Прошу вас, не вините эту женщину, – и он
показал в угол, где сидела свекровь Зои. – Не
обвиняйте, а простите ее. Темнота, в которой она
прожила шестьдесят лет, до сих пор заволакивает ей
глаза и не дает свободно вздохнуть. – И обращаясь к
Зое, он сказал: – А ты никогда не закрывай от
солнца свои волосы, слышишь: никогда!.. Без крыльев,
без надежд жили ваши отцы и матери – не вините
их, а учите, пусть хоть на старости лет погреют они
свои седые космы под нашим счастливым солнцем...
Он оглянулся, поднял глаза на портрет,Одалинд и
вытер подолом бешмета влажные глаза. Потом
подошел к Зое, погладил ее по голове и, обращаясь к
президиуму, смущенно проговорил:
– Простите, я у вас, кажется, время отнял
напрасно...
– Нет, Гамат,, не напрасно, – сказал парторг,
протягивая Зое обе руки, – совсем не напрасно. Со-^
брание считаю закрытым...
1951 г.







