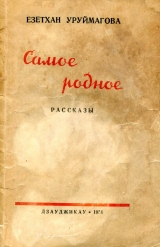
Текст книги "Самое родное (рассказы)"
Автор книги: Езетхан Уруймагова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
ЕЗЕТХАН УРУЙМАГОВА
В 1949 году Северо-Осетииское Государственное
издательство в гор. Дзауджикау выпустило первую
книгу романа Езетхан Уруймаговой «Осетины». Это
произведение в течение короткого времени получило
признание самых широких читательских кругов не
только в Осетии, но и за ее пределами. Оно
завоевало любовь читателей богатством содержания,
глубиной идеи, поэтичностью и выразительностью
художественных средств.
Этот творческий успех не пришел случайно. Он
явился результатом длительного и упорного труда
писательницы над собой, ему предшествовал большой
период исканий. В напряженном творческом труде
росло, развивалось и шлифовалось художественное
дарование Уруймаговой.
Каким же путем пришла писательница в советскую
литературу?
12 декабря 1905 года в семье крестьянина села
Хрлстиановского (ныне село Дигора в Северной
Осетии) Алимарзы Уруймагова родилась седьмая дочь.
Ее назвали Езетхан. Бедной, безземельной и
безлошадной семье Уруймаговых рождение седьмой
дочери не принесло радости. Тяжелая нужда, призрак
голода всю жизнь стояли за плечами родителей
будущей писательницы, а дочери были слабыми помощни
цами в суровой борьбе за существование.
Первые детские воспоминания Езетхан связаны с
постоянными хозяйственными заботами родителей.
Клочок земли приходилось арендовать у сельских ку-
лаков, лошадь для обработки участка брать у
родственников, а затем все лето с тревогой ожидать
урожая, от которого зависела жизнь всей семьи. В
условиях тяжелой нужды Уруймагов не мог дать своим
дочерям систематического образования, хотя
постоянно об этом мечтал.
С русской грамотой будущая писательница
впервые познакомилась через своего дядю Харитона
Уруймагова – младшего брата отца. Он посвятил
свою жизнь народному образованию и
публицистической деятельности. Уруймагов работал учителем во
многих селах Осетии, и, будучи бездетным, часто брал
к себе погостить свою племянницу Езетхан. У неге
Уруймагова впервые увидела книгу и научилась
читать.
В 1916 году Харитои Уруймагов был арестован и
Езетхан вернулась в родное село. Здесь ее
определили в Дигорскую церковно-приходскую школу,
которую она окончила в 1917 году.
Великая Октябрьская социалистическая
революция в корне изменила жизнь горской бедноты.
Земля, о которой всегда мечтали бедняки, которую
они за последние гроши арендовали у кулаков
и помещиков, стала принадлежать народу.
Революция принесла горскому крестьянству материальное
благополучие и гражданские права.
Езетхан Уруймагова получила возможность посту-
пить в Дигорское высшее начальное училище, куда
о революции девочек не принимали. В 1921 году в
гле Дигора была создана комсомольская ячейка и в
числе первых трех девушек-горянок в комсомол
приняли Езетхан Уруймагову. Началась новая жизнь,
заполненная активной общественно-политической
работой.
Для того, чтобы продолжить образование, осенью
1922 года Езетхан Уруймагова уехала в Дзауджикау.
Окончив в 1925 году первую Областную образцовую
опытно-показательную осетинскую школу,
Уруймагова с осени того же года начала работать. Она
поступила в городскую аптеку в качестве фасовщицы.
Товарищи по службе вскоре увидели в ней хорошего
Работника и активного общественника. Уруймагова
была выдвинута в местком, а затем в совпроф союза
Медикосаитруд. Более трех лет были отданы
профсоюзной работе. Однако, тяга к знаниям,
стремление получить высшее образоваание привели Уруй-
магову в степы института. Осенью 1929 года он??
стала студенткой II курса литературного отделения
Горского Педагогического института в Дзауджикау.
Годы пребывания в институте – это время большого
культурного роста Уруймаговой. Она глубоко изучила
т руды классиков марксизма-ленинизма, сокровища
русской и западно-европейской художественной лите
ратуры, в совершенстве овладела русским языком.
Почти двухлетняя болезнь не дала возможности
Уруймаговой приступить к работе преподавателя ера.
зу после окончания института. Лишь в 1935 году,
восстановив здоровье, Уруймагова вернулась в родное
село Дигора и всецело отдала себя педагогической
деятельности.
В годы Великой Отечественной войны Уруймагова
всеми силами помогала делу победы нашего народа
над гитлеровским'н захватчиками. В 1942 году,
переехав в Баку, она работает начальником военного
детского сада и корреспондентом армейской
газеты. В том же году Уруймагова вступила в члены
Всесоюзной Коммунистической Партии
(большевиков).
Литературное да роваиие Езетха и Уру й м аговой
развивалось под непосредственным воздействием двух
культур: осетинской и русской. Любовь к
художественному слову у будущей писательницы проявилась
еще в детстве. В этом немалую роль сыграл ее отец.
Он был неутомимый рассказчик, великолепный
знаток осетинского фольклора, человек, обладавший
богатой памятью и фантазией. Его дочери особенно
любили долгие зимние вечера, когда он, собрав вокруг
себя детей, рассказывал волнующие сказки или,
аккомпанируя себе на старинном народном
инструменте, речитативом напевал героические легенды о нарт-
ских богатырях. Затаив дыхание, слушали девочки
повествование о подвигах народных героев, рассказы о
борьбе бедняков с хищными киязьями-алдарами, о
страданиях безземельных горцев. Вся истории
родного народа проходила в чарующих песнях,
сказаниях и рассказах, которыми так богат осетинский
фольклор. На лучших образцах осетинского
фольклора будущая писательница училась понимать силу и
выразительность художественного слова.
Позднее, когда Езетхан Уруймагова овладела
грамотой, произведения классиков русской литературы
стали ее любимыми книгами. Забравшись куда-либо
в укромный уголок, она могла по нескольку раз
перечитывать попавшую ей в руки книгу, а наиболее
яркие описания пейзажа в тургеневских
произведениях переписывала в тетрадку, а затем заучивала
наизусть. Произведения Пушкина и Коста Хетагуро-
ва, Лермонтова и Тургенева, Толстого и Горького
стали ее любимыми книгами.
Желание заняться литературным трудом впер
вые пришло к Уруймаговой в 1925 году. Тогда ею
был задуман рассказ о двух кровниках-горцах,
которые в годы гражданской войны, участвуя в боях
против белогвардейцев, были тяжело ранены и перед
смертью примирились. Рассказ не был написан, но
наброски к нему положили начало сбора материала
о жизни родного народа до революции. В течение
более десяти лет Уруймагова записывала рассказы
бывалых людей, делала наброски бытовых сцеп,
описывала наиболее яркие человеческие характеры,
воспроизводила портреты встречавшихся ей людей.
К 1938 году подобных записей накопилось очень
много. Обилие в высшей степени интересного
жизненного материала привело Уруймагову к мысли начать
работу над романом. В нем она задумала
изобразить тяжелую жизнь родного народа в старое время,
его революционную борьбу с царизмом и
руководящую роль большевистской партии в этой героической
борьбе. Так появился замысел романа «Осетины».
Однако, у Уруймаговой еще не было профессиональных
навыков, умения воплотить в художественные формы
свой замысел.
В 1939 году Уруймагова уехала в Москву и здесь
в среде русских писателей нашла живую творческую
помощь. В работе молодой осетинской писательницы
особенно теплое участие приняли Н. Тихонов и
Ю. Либединский. Только после Великой
Отечественной войны Уруймаговой удалось закончить первую
книгу своего романа. В процессе многолетнего
упорного труда над этим произведением Уруймагова
сформировалась как писатель.
Рассказы Уруймаговой, представленные в этой
книге, впервые выходят отдельным сборником. По
своим художественным достоинствам и глубине
изображаемых событий рассказы неравноценны. Часть из
них, как например, рассказ «В горах» страдает
схематизмом. Автор не сумел в них полностью раскрыть
черты характера главных героев. Другие, например,
«В моем городе» и «На раскопках» скорее могут быть
названы очерками, а не рассказами. В них нет четко
разработанного сюжета. Однако, очерк «В моем
городе» подкупает лиричностью, глубиной чувства,
гордостью за свой родной город, за сбою родину.
Уруймагова, как художник наиболее сильна в тех
рассказах, где человеческий характер рисуется в
развитии, в процессе формирования. В этом отношении
представляют интерес рассказы «Седьмой сын»,
«Настоящая должность» и в особенности
«Неистовый».
В стремлении Уруймаговой показать героев своих
рассказов на материале, который охватывает
большой период времени и много событии, чувствуется
художник, тяготеющий к большой эпической форме.
По своему содержанию такие рассказы, как
«Неистовый», «В горах» и «Настоящая должность» могли
быть развернуты в повесть.
Уруймагова – еще молодой писатель—и,
естественно, ей не всегда удается преоделсть трудности
лсанра.
Борьба советских людей с гитлеровскими захват-
чиками, жизнь колхозной деревни после войны,
отмирание пережитков старины, – вот круг вопросов,
которые затрагивает Уруймагова в своих рассказах.
Советская осетинская литература выдвинула пер-
ьую женщину-писателя, которая пишет свои'
произведения на русском языке. Это стало возможным
благодаря завоеваниям Великой Октябрьской
социалистической революции, которая освободила народы нашей
страны от векового социального и правового гнета,
которая раскрепостила женщину-горянку и создала все
условия для развития ее духовных сил. Это явилось
результатом мудрой сталинской национальной
политики, сблизившей культуры всех народов Советского»
Союза, в первую очередь с культурой великого
русского народа.
Д. Гиреев
СЕДЬМОЙ СЫН
О крови той, что пролита обильно,
О кропи той, что дшром не прошла.
Николай Тихонов.
в^ тарая Сафпат родила шестого сына, когда ей
было пятьдесят лет. Стыдясь поздней
беременности, она, как провинившаяся девочка, смущенно
жаловалась старшей снохе:
– Стыд какой – свекровь с люлькой, со снохами
вместе. В мои ли годы рожать...
Черноокая невестка, лукаво щупя глаза, ответила:
– Ничего, роди, по очереди кормить будем, на
четырех сосках богатырем вырастет.
И родила Сафиат шестого сына в февральскую
полночь девятнадцатого года, в тот час, когда муж.
ее погиб, сражаясь с бандами Шкуро. И назвала она
шестого сына – Серго, в честь РрдлГрникидзе,
пламенные слова которого"""заставили ее поверить в то?.
что может человек быть счастливым на земле.
Серго рос бледным, худощавым мальчиком. В
пионерском отряде он дружил с сыном школьного
сторожа, русским мальчиком „Васей. Сторож, хмурый, но
добродушный старик, никогда ие мешал их детским
шалостям, и дети целые дни проводили на школьном
дворе. Детская дружба с годами окрепла. Они вместе
вступали в комсомол, вместе учились, работали. И
только война разлучила друзей. Но не надолго. Уйдя
в первые дни войны на фронт, Василий скоро, после
тяжелого ранения, вернулся в родное село и был
назначен районным военкомом.
– Отправь меня на фронт, – просил Серго.
Но Василий неизменно отвечал:
– Не могу, Серго. Не подходишь ты по здоровью.
а и в колхозе люди нужны – кто армию кормить
будет?
Из бледного худосочного мальчика Серго
превратился в высокого узкоплечего юношу. Мать, глядя на
него, сокрушенно качала головой и с невыразимой
лаской в голосе говорила:
– Последыш ты мой, девушкой бы тебе родиться.
Какой из тебя мужчина?..
* * *
Горячий сухой август. В мутном небе раскаленным
шаром висит солнце, обжигая землю. Ветер собирает
на дорогах пыльные курганчики. Через тихое когда-то
село с шумом проносятся грузовики с боеприпасами,
санитарные машины, зенитки. Танки сотрясают землю
и обдают маленькие узенькие улочки горячим
дыханием раскаленного железа. День и ночь нескончаемой
.вереницей проходят войска в ущелье.
Старая Сафиат выходила на дорогу,
всматривалась в усталые, запыленные лица бойцов и думала:
«Война в России, а войска в горы идут». С
недоумением разглядывала она молодых девушек,
вооруженных так же, как и мужчины, и растерянно говорила
про себя: «Такого никогда не было».
Когда Серго показал матери повестку из
военкомата, она побледнела.
– Один ты у меня остался, последний... Он твой
друг с детства, скажи ему, чтобы тебя не отправлял...
Простоволосая, пришла она в военкомат и
оттолкнула часового, загородившего ей дорогу.
Захлебываясь невысказанным горем, она сказала:
– Не смеешь ты меня... Я пять сыновей и двух
внуков отдала...
И распахнула дверь кабинета.
Военком поднялся ей навстречу и пододвинул
стул. Она долго молча смотрела на него, потом
протянула повестку.
– Пожалей мою старость... Ты его друг с
детства, не отправляй его. Он больной слабый. Сам почему
не идешь? Последний он у меня, – шептала Сафиат,
как в бреду.
Военком побледнел. Он дважды вытер ладонью
вспотевший лоб. Не отводя от старухи взгляда, он
сказал:
– И я иду. Мы все идем воевать. И дети, и
старики пойдут. Немец в Ростове.
Он говорил тихо, и его худое лицо судорожно
дергалось.
Сафиат, как во сне, медленно шла по длинным
улицам села...
Она не провожала сына. Оставшись одна в
большом пустом доме, она разрыдалась, потом забилась в
угол и остановившимся бездумным взглядом долго
смотрела перед собой.
* * *
Улеглась пыль на дорогах, глухая тишина повисла
над опустевшими улицами. Неумолкающий гул
канонады отал привычен и сросся с этой тишиной.
Старая Сафиат видела, как большой самолет с
черными крестами пролетел совсем низко, почти
касаясь верхушек деревьев, и обстрелял безмолвные,
мертвые улицы.
По ночам она не спала, сидела в какой-то
полудремоте у окна и в минуты краткого затишья
слышала, как шуршат сухие поля неубранной кукурузы.
Свистел ветер в чердаках, в пустых амбарах, и
испуганно, приглушенно шумела река.
Как-то ночью кто-то легко прошел по коридору и
привычно потянул дверь. Сафиат вскочила и замерла
в ожидании. Дверь открылась. На пороге, в
сверкающей от дождя бурке, стоял ее сын, ее Серго.
– Почехму ты не ушла, мама? – спросил он,
обнимая дрожащую старуху.
Не отводя взгляда от его лица, Сафиат гладила
мокрую, слипшуюся шерсть бурки и говорила:
– Никуда я не пойду» дом не брошу. Кто меня,
старую, тронет?
Оправившись от первой радости, она заметила на
пороге военкома. Оттененное черной буркой, лицо-
Василия казалось бледнее обычного, па нем ярче
проступали веснушки. Встретившись с ним взглядом,
Сафиат молча обняла сына и прижалась к нему всем
телом, словно защищая его от опасности.
Потом она колола у сарая дрова, топила печь,
кормила гостей. Она подкладывала военкому жирные
куски баранины и горячий хрустящий чурек, но ни
разу не взглянула на него.
«Если бы не он, – думала Сафиат, – сидел бы
Серго дома. А теперь... что будет с ним?»
– Мы в партизаны уходим, мама, – с
необычной нежностью сказал Серго, прощаясь и обнимая
мать. – Если будет трудно, приходи к старой башне.
Погладив узкой ладонью седую голову матери.
Сорго вышел. Военком быстро пошел за ним...
* * *
Мутная сырость осеннего рассвета. Огромные
серые грузовики, обгоняя друг друга, ворвались в
притихшие пустынные улицы. Они наезжали на закрытые
ворота, давили заборы, цветники, огороды. Солдаты
стреляли из автоматов в окна домов. Все звенело,
дрожало, гудело, наполняя село зловещим скрежетом
стали.
Сафиат стояла у окна. Серая машина вдруг круто
свернула с дороги и врезалась в крашеный забор ее
двора. Доски с сухим стонущим треском легли под
колеса машины... Сафиат зажмурилась и прижалась
спиной к стене.
Ежась от пронизывающего осеннего холода, они
тяжело бегали по коридору, стучали дверьми,
кричали на непонятном языке. Сафиат видела, как
изрубили на дрова забор, который красил ее старший
сын, как сломали курятник, потому что он мешал
машине развернуться во дворе.
Они жарко натопили, потом ели, чавкая, и громко,,
большими глотками, как лошади, пили вино. Рыжий
солдат с автоматом, оскалив желтые зубы, закричал
на старуху:
_ Рапслаль... хлеп! – и ткнул пальцем в мешок
с мукой.
Медленно, широкими шагами, какими ходила всю
жизнь, Сафиат прошла в коридор, принесла корыто.
и насыпав в него муки из мешка, стала неистово
месить тесто. Глядя, как она быстро, ловко и уверенно
работает, солдат буркнул: «Гут» и похлопал ее по
спиме. Она вынула из корыта большие, белые,
облепленные тестом руки, и резко выпрямившись, в упор
посмотрела на немца. Он нахмурился и передвинул
автомат на живот.
С того дня она каждое утро колола дрова, топила
печь, пекла хлеб, доила корову. И каждый раз,
прежде чем она становилась к корыту, солдат грубо
обыскивал ее. Потом усаживался рядом на табурет,
передвигал автомат на живот и скучно скулил на
губной гармонике...
Однажды приехал такой же серо-черный человек.
как и все ее постояльцы, но он был чище и наряднее
II казался выше других. На рукаве у него, как раз
давленная лягушка, белела свастика. В этот день
солдаты сорвали цепь над очагом, выбили из
венского стула сиденье, затянули угол брезентом – они
устроили отдельную уборную для офицера.
Надочажная цепь – символ вечности рода,
благополучия и счастья семьи. Сафиат прижала к груди
тяжелую, покрытую многолетней копотью цепь и
бережно унесла к себе на кухню.
В комнате, где поселился офицер, раньше жил ее
младший сын Серго. Сафиат очень любила эту ком-
пату – маленькую, теплую, уютную. Окно выходило
в сад, который круто спускался к реке, от нее .у*.цеко
убегали зеленые курганы и горбатые холмы. Зачйими
темной стеной тянулись леса и виден был узкий
мрачный вход в ущелье, наводившее страх на
пришельца. Офицер подолгу сидел у окна, длинным
желтым ногтем ковыряя в зубах, и сытно икал. Он
внимательно разглядывал мрачный осенний пейзаж. Кто
знает чем он думал? Может, ему не нравились эти
загадочно притихшие хмурые горы? Может, он был
недоволен тем, что Кавказ, прославленный своим гос-
тепринмством, не встретил его под Моздоком хлебом-
солью? Кто знает, о чем думал этот злой человек?..
Наступила зима. Река замерла. Завыли ветры,
метя колючий сухой снег.
Однажды во двор привели пленных. Будто
обжигаясь, переступали они босыми ногами на колючем
хрустком снегу. Ветер жестоко хлестал
окровавленных, измученных людей, трепал почерневшие бинты,
заметал кровавые следы на снегу. Один пленный
показался Сафиат знакомым: широкий вздернутый нос,
скуластое лицо, только не бледное, как раньше, я
землисто-серое. Это был Василий. Он мелко дро
жал, правая рука его с раздробленной кистью
безжизненно висела.
Сафиат вздрогнула и до хруста в пальцах впилась
в подоконник. Она закрыла глаза, припоминая
последние слова сына: «Если будет трудно, приходи к
старой башне». Она посмотрела в окно: вдалеке, вся в
инее, как в белом каракуле, безмолвно высилась над
обрывом старинная башня. Тучи цеплялись за нее,,
завороженные ледяной тишиной, окружали ее лесл.
Не было тропинки к этой башне, только старые
чабаны знали к ней дорогу и берегли эту тайну, как
дедовскую честь.
– Где ты, сын мой? Жив ли? – прошептала
Сафиат.
Пленных загнали в сарай. Мороз крепчал. Ветер
завывал над холмами, набрасывался на голые сады„
на пустые дома. Под его порывами сухо трещали
ветви замерзших деревьев. Дрожа всем телом, старая
Сафиат шептала:
– Чума... чума на землю пришла.
Съежившись в углу тесной кладовой – всё, что ей
оставили от её большого дома, – она слушала, как
обледеневшие ветки тревожно царапают стекла окон.
А перед ее глазами все стоял военком в
окровавленных бинтах и с безжизненно повисшей рукой...
* * *
Был канун рождества. Пушистая сверкающая
елка возвышалась посреди комнаты, рядом был накрыт
стол. Сафнат еще с вечера улеглась на своем войлоке
в кладовой, но уснуть не могла.
Никогда они еще так не шумели. От режущего-
крика, от звона посуды, от топота ног – у нее
кружилась голова. Она поднялась и посмотрела на них в
дверную щель.
Откинувшись на спинку стула, офицер мелкими
глотками отхлебывал из стакана пенистое золотистое
вино. Вдруг в комнату втолкнули пленного военкома.
Это был друг ее сына, человек, которого, как ей
качалось, она ненавидела. Военкома подвели к столу, и
его худое, скуластое лицо передернулось голодной
судорогой. Сжав челюсти, он отвернул лицо.
Сафиат тихо заплакала – первый раз с момента
прихода немцев. Солдат держал перед лицом
военкома тарелку с дымящимся мясом, а офицер,
раскачиваясь на стуле, говорил:
–Скажи, где есть партизан – будет кушаль, будет
пиль вино, будет жиль. Не скажи, где есть
партизан – смерть.
Последнее слово он произнес особенно четко и
поднял руку, в которой блеснул маленький револьвер.
Василий молчал. Руки его были связаны за
спиной. Откинув голову, стиснув зубы, он отворачивал
лицо, стараясь не вдыхать запах пищи. Солдат по
знаку офицера ударил его в висок. Василий
покачнулся, но устоял. Он продолжал молчать.
Сафиат, прижавшись к дверному косяку, следила
за тем, что происходит в комнате. Офицер что-то
сказал солдатам, и все, громко крича и смеясь, стали
одеваться. Сафиат накинула и а голову платок и
вышла во двор, опередив немцев. Вдыхая обжигающий
воздух декабрьской ночи, она быстро прошла в угол
двора и спряталась за столб.
Ветер спадал. Ночь была морозная, молчаливо-
настороженная. Тихо потрескивал голубой лед на
реке. Сверкающие инеем леса, древняя башня на
скалистом обрыве – все было погружено в глубокое
молчание.
Пьяно пошатываясь, кутаясь в теплые шарфы,
солдаты высыпали во двор. Военкома подталкивали ав-
–томатами в спину. Потом один солдат несколько раз
плеснул на одежду Василия бензином из бутылки и
поднес к нему зажженную спичку.
Стеганный ватник на военкоме вспыхнул синим
пламенем. Василий рванулся в сторону, потом с
разбегу бросился на земь и стал кататься по снегу.
Дикий хохот, свист и улюлюканье разорвали тишину
ночи. Сафиат выбежала из своего укрытия, сорвала с
головы платок и бросила его к ногам офицера. Упас
перед ним на колени, она горячо заговорила:
– Не убивай... Сын он мне... Мой сын... Не
убивай!
Священный обычай: если женщина открывала
перед мужчиной голову и бросала к его ногам
платок – это отводило даже кинжал неумолимой
кровной мести...
Офицер оттолкнул Сафиат и ударил ее ногой в
спину. Василий продолжал бороться за жизнь.
Последним усилием воли, он, сверкая глазами, поднялся
перед своими убийцами. Бессмертный в своей
ненависти, прекрасный в своей смеоти.
Солдаты испуганно шарахнулись в стороны и на
мгновение затихли. Офицер медленно поднял руку и
трижды выстрелил в упор...
А перед рассветом Сафиат, как всегда, затопила
печку, вынесла помои, нарубила дров. За два месяца
солдаты привыкли к ее деловитому молчанию, к
широкой медленной походке, к спокойным движениям.
Некоторые, разбуженные ее возней, открывали глаза,
но, увидев знакомую фигуру, возившуюся у печки,
поворачивались к стенке и, накрывшись с головой,
засыпали.
Налив молока в кофейник, Сафиат тихо открыла
дверь и вошла в комнату офицера. Бесшумно
поставив на стол кофейник, как делала каждое утро, она
прикрутила ночник и остановилась у изголовья
офицерской постели. Офицер тяжело, прерывисто дышал.
В тусклом свете ночника Сафиат увидела слипшиеся
светлые волосы, неприятно белую шею, на которой
пульсировали синеватые жилки.
Решительным движением она вытащила из-под
Платка топор, которым рубила дрова, и точно расчи-
гаг. удар. с силой опустила его...
В саду под ногами часового мерно поскрипывал
снег, из-за двери доносилось храпенье солдат.
Тяжелыми толчками стучало сердце старухи.
Она снова вышла во двор. Часовой у сарая
посмотрел на старуху и с наслаждением подумал о том,
что скоро утро, его сменят и он будет есть хрустящий
ароматной"коркой свежеиспеченный хлеб. Он потуже
затянул широкий шерстяной шарф на шее,
прислонился" к стене сарая и задремал, предвкушая близость
утра и сладкого сна.
Как могучее дерево, обугленное ударом молнии,
чернел на снегу труп военкома.
Сафиат неслышно подошла к часовому и ударила
его обухом в затылок. Он мягко сполз по стене и
упал перед дверью сарая. Она оттащила труп и
открыла дверь.
В сарае зашевелились. Ветер прошумел в голых,
обледеневших ветвях сада. Ласково, как говорят с
детьми, Сафиат прошептала:
– Только не шумите... тихо... тихо.:.
Ветер памел в углах сарая сверкающие снежные
курганчики. Дленные жались друг к другу и молча
смотрели на старуху с растрепанными седыми
волосами, с большим топором в руках.
Шагнув вглубь сарая, Сафиат взяла одного из них
за руку и сказала тихо:
– Пойдем туда, – показала она на заснеженную
башню. – Я поведу вас, я знаю дорогу...
Бережно подняв труп военкома, люди пошли за
Сафиат. Она вела их к скале, на которой высилась
неприступная старинная башня...
НАСТОЯЩАЯ ДОЛЖНОСТЬ.
Звеньевой» – так его называли все: и председа-
тель колхоза, и бригадир, и пионеры, которые
помогали его звену. Казалось, он и сам гордился этим
именем. Высокий, широкоплечий, он в свои тридцать-
лет напоминал кряжистый, рослый дуб.
И вот, этого здорового человека не пустили на
фронт, а оставили с женщинами копать картошку.
Все его товарищи еще в июле ушли в действующую
армию, а он остался и считал себя кровно
обиженным.
Осенью сорок первого года в колхозе осталось
мало настоящих работников. Москва готовилась к.
великой битве, и со всех сторон бескрайной Родины
день и ночь тянулись эшелоны к столице. А Николай
остался с женщинами, стариками и детьми. По
вечерам, когда стан затихал, его просили что-нибудь
рассказать, но он молча кутался в бурку и, упершись
длинными ногами в стену шалаша, засыпал.
– Обидели его, на фронт не взяли, – объясняла
детям Замират, лучшая колхозница из звена Николая,
Иногда ночью Николай уходил на край кукуруз-
ного поля, садился на землю и гладил лохматую
морду старой-престарой лошади.
– Списали нас обоих, друг Серко, – говорил он
горестно, – тебя председатель от работы отстранил,
мне войну не доверили.
Серко тепло и шумно дышал ему в лицо, касаясь
влажной обвислой губой его небритой щеки. А днем,
насупив брови и ни с кем не разговаривая, Николай.
18
выполнял по пять норм, и колхозницы его звена не
успевали убирать за ним картошку. Он работал легко
и быстро, далеко отшвыривая перерезанные лопатой
картофелины. При этом он говорил:
– Не порть мне красоту урожая.
Пришел председатель колхоза, увидел огромное
вскопанное поле и одобрительно сказал:
Вот видишь, потому я тебя и в военкомате
отстоял... упросил военкома. За пятерых успеваешь.
Мне бы еще трех!-четырех таких, как ты, и я не
чувствовал бы, что нет в колхозе мужских рук.
Только сказав это, председатель понял, что
совершил непоправимую ошибку. Николай отбросил
лопату, остановился перед председателем и не своим
голосом закричал:
– Так по твоему я только на то и гожусь, чтобы
картошку копать? В военкомате отстоял... А кто тебе
такой закон установил, чтобы меня моего мужского
права лишать? Это тебе не старый режим, чтоб
самовольничать!
– Да ты что, очумел, что ли? Не понимаешь
разве – армию кормить надо. Не всем же воевать, —
волнуясь говорил председатель, торопливо шагая за
звеньевым, который уже бежал к шалашу.
– Не уговоришь, и не думай. Здесь не зачислят, я
з город пойду. Там примут. А ты сам здесь воюй с
бабами, – со злостью говорил звеньевой, на ходу
застегивая ватную куртку.
Ни разу не оглянувшись, он пересек осеннее
влажное поле и подошел к реке. Мост был далеко, и
чтобы не терять времени, Николай снял чувяки и
перешел реку вброд.
...Высокий, большой, он стоял перед военкомом и
резко требовал:
– Запиши, я тебе говорю. Чем я хуже других?
Настоящие мужчины на фронте, а я с бабами,
лопатой воюю. Запиши. Все равно, я здесь больше ни од-
иого дня не останусь. Лучше по закону зачисли, а не
го сам уйду.
Военком, бледный мужчина с почечными отеками
°Д глазами, не без зависти смотрел на его крепкую,
19
сильную фигуру. Наконец, решившись, он протянул
ему руюу и сказал:
– Ладно, зачислю. Солдат из тебя будет крепкий.
Правда, председатель твой ругать меня будет, да уж
бог с ним... Воюй.
* * *
Ранней весной сорок шестого года Николай
вернулся в родной колхоз. Ордена Красной звезды,
Славы третьей и второй степени и медали красовались на
его гимнастерке. Он сразу же пришел к председателю.
– На, возьми свою смерть, – сказал
председатель, протягивая ему два распечатанных конверта.
– Что это? – удивился Николай.
– Дважды извещение приходило, что ты погиб. А
я не поверил. Как же так, думаю: Николай – и вдруг
погиб? Не может, думаю, такого быть. Ну вот, по-
моему и вышло. Теперь принимай звено, земля по
настоящим рукам тоскует. Завтра же выходи на
работу. Замират хоть и женщина, а работала
по-мужски, никто в ней силы такой не подозревал. Бригада
у нее крепкая, ждет она тебя, звеньевого.
– Меня ждать нечего, я не жених, – обиделся
Николай.
– А разве только женихов ждут? Вот и я тебя
ждал, потому и не разрешил твоей жене корову на
поминки резать. Думал: если ты уж действительно
погиб, и есть царство мертвых, так не может быть,
чтоб ты себе пищу сам, без помощи жены, не
раздобыл, – пошутил председатель.
– Спасибо, – глухо сказал Николай,
поднимаясь. – Спасибо за то, что ждал, за то, что корову
сберег... А в подчинение к Замират, к девчонке я не
пойду. Не заслужила она этого. Бригадир! —
насмешливо воскликнул он и опустил длинные руки
по швам, словно стоял перед . командиром. – Не
таким бригадирам я подчинялся.
– Значит, за то, что у нее орденов нет, ее с
бригады снимать, так по-твоему? – спросил
председатель.
– Как хочешь, это дело не мое, – несколько
20
спокойнее ответил Николай. – Ты хозяин, ты должен
смотреть правильно, так, чтобы человека на его
настоящее место поставить. Чтобы должность выше
человека была и человек к ней тянулся.
– Чтобы человек к должности тянулся? —
засмеялся председатель. – А я наоборот думаю: пусть
должность, самая маленькая должность тянется к
человеку, а человек ее сделает большой.
– Нет, ты не так меня понял, – перебил
Николай, снова присаживаясь к столу. – Мне всегда не
везло... Вот я тебе расскажу: когда меня из
госпиталя выписали, я, конечно, в свою часть не попал.
Направили меня в жаркое место. Передний край от
командного пункта километрах в трех находился. Немец
этот участок днем и ночью долбил, головы поднять не
давал, а бойцы целые сутки без хлеба, без воды одну
за другой вражеские атаки отбивают. Хоть и не
отступаем, но и вперед ни на вершок не продвигаемся.
Помню, бригадный говорил: «Хоть клещами рвать
будет, а не вырвать ему из под нас этот клочек земли».
Ну, готовился и я со своей ротой в атаку... Это я
тебе рассказываю к тому, как человека на настоящее
место ставить нужно... Так вот, как раз тогда,
недалеко от командного пункта врезался в землю
подбитый немецкий самолет. Торчит перед глазами, мешает
обозрению местности. Взялся я да и откопал эту
рухлядь, а потом оттащил в сторону. Вот этот пустяк
всю мою военную судьбу и переменил. Только я
закончил работу, как позвали меня к бригадному.
Оглядел он меня с ног до головы и говорит: «Такая







