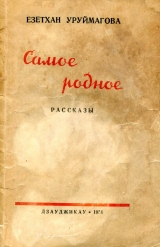
Текст книги "Самое родное (рассказы)"
Автор книги: Езетхан Уруймагова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
силища в тебе, солдат, зря пропадает». Набрался я сме
лости и говорю: «Нет, говорю, не зря, товарищ
генерал. Я в атаке двумя штыками орудую, за троих
воевать могу». А он улыбнулся и говорит: «В атаке
каждый солдат герой. А тебе другое задание, важное,
большое. От того, говорит, как ты его выполнишь,
ход боя зависит». Так и сказал: «от тебя зависит».
Тут я вытянулся и говорю: «Служу Советскому
Союзу!». Тогда он и говорит: «Люди два дня без юрячей
пищи, девять атак отбили. Мы третью кухню
посылаем – не доходит. Ты, говорит, человек кавказский,
21
по кручам с детства ползать привык, а местность
здесь на вашу похожа... Донесешь обед – бой
выиграем, не донесешь – солдаты опять голодными
останутся, а голодному воевать трудно». Хотел я было
сказать: «Правильно, товарищ генерал, что пустой
мешок, что голодный человек – стоять не
приспособлены», но он мне говорить не дал. «Иди, говорит,
на кухню, выполняй».
Обвязали меня на кухне с плеч до пяток
термосами и хлебом, только грудь и живот остались
свободны, чтоб мог я ползти. Повесили автомат на шею,
накинули на меня белый халат и пополз я по снегу.
Животу холодно, а в боках и на спине такая жара,
что я и на уборке никогда так не потел. Пули кругом
посвистывают, как зяблики в зимнюю ночь на снегу.
Когда до переднего края дополз, от меня пар валил,
как от солдатского котла. Поднялся я ла колени – в
полный рост нельзя было – снимая с себя термоса,
крышки откручиваю. Каша салом была заправлена.
Украинцы первые запах сала учуяли. Облепили меня
ребята, почет мне, как герою какому-нибудь, а
ротный обнял меня и говорит: «Молодец, старшина,
настоящий герой!»
Николай помолчал, посмотрел на председателя и
глубоко вздохнул.
– С того дня и началось мое понижение в
жизни, – продолжал он. – На настоящую должность я
больше не попал. Стал я вместо солдата «кашено-
сом». Где машина не пройдет, там я проберусь,
кухню подобьют – я обед доставлю, лошадь убьют, а я
живой, будто от смерти заговоренный. Одно утешение
было, что обратно пустой не возвращался: двух, а то
и трех раненых каждый раз принесу на себе. Хоть
этим свой солдатский долг выполнял. А в приказе,
когда Красную Звезду получал, почти так и написано
было, что за должность кашеноса награжден.
Председатель от души расхохотался.
^– Тебе смешно, – с горечью произнес
Николай, – а^ мне обидно. Хороший человек был мой
бригадный, а на настоящую должность меня не
сумел поставить.... Так же вот, как и ты. В начале вой-
22
чы меня с бабами оставил, а теперь в звеньевые
подаешь, к девчонке в подчинение. Что я, настоящей
должности не заслужил, что-ли?.. Нет, ни за что!
Лучше сторожем на бахчу пойду.
Председатель шумно отодвинул стул, вышел из-за
стола и положил обе руки Николаю на плечи.
_ Молодец! Я на тебя надеялся и ты не обманул
меня. Знал я, что не посрамишь ты чести осетина.
Правильно сказал тебе ротный: герой ты, Николай. А
обижаешься напрасно: ты везде был на своем месте.
Настоящая должность та, на которой настоящие
.люди работают. Знаешь, есть такая русская
поговорка: «ие место красит человека, а человек место»...
Принимай, старшина, звено и командуй. Будет это
твоя настоящая должность. СК твоей работы судьба
нашего урожая будет зависеть, – и председатель
протянул Николаю руку.
Николай молчал. Потом вдруг порывисто, обеими
руками крепко пожал руку председателю и, уходя,
зесело сказал:
– Завтра выйду на работу.
1916 г.
НЕИСТОВЫЙ.
Он ничем не выделялся среди других учеников.
Серые тиковые шаровары были закатаны
выше колен, косоворотка в заплатах перетянута
ремешком из сыромятной кожи. На узком девичьем
лице светились большие озорные глаза; острый нос был
усыпан теплыми веснушками.
Учился он посредственно, часто шалил. Однажды
на уроке он связал тонкой ниткой несколько мух и
пустил их по классу,
– Володькина эскадрилья! – закричали ребята.
Я выгнала его из класса. Вместо того, чтобы
выйти в дверь, он выскочил в окно.
– Пусть мать придет ко мне, – крикнула я ему
вслед.
Вечером ко мне на квартиру пришла стройная,
худощавая женщина средних лет.
– Я мать Владимира,.– смущенно сказала она.,
усаживаясь на диван. – Он у меня один. Я вдова,
работаю на ферме. Зимой он один управляется по
хозяйству, а все лето – в колхозе.
Она помолчала, потом подняла на меня усталые
но открытые глаза и сказала:
– Прошу вас: вы его больше не выгоняйте. «Если,,
говорит, учительница еще хоть раз выгонит меня с
урока, совсем учиться не буду»... Он ласку любит.
Попробуйте и вы с ним лаской.
Мне пришлась по душе мудрая простота этой
женщины.
24
* * *
Стояли последние дни погожей осени. Ноябрь
пылал золотом опадающей листвы. Над деревьями и
;гад крышами домов плыла серебристая паутина.
Мальчики на школьном дворе гнались за ней и
сбивали длинными палочками.
Вечерело. Приглушенно шумела река. Я думала о
том, почему Владимир не пришел сегодня в школу.
«Если бы не мать, я бы совсем не учился,—сказал он
мне накануне, когда я пожурила его за плохое знание
урока. – Я только для нее учусь, а то она у меня
зее плачет».
В окно постучали.
– Вас вызывает начальник милиции, – коротко
сказал милиционер.
– Зачем?
Не ответив, он вскочил на коня и уехал.
Начальник отделения, пожилой хмурый человек,
встретил меня укоризненным взглядом и предложил
пройти за ним.
В полутемной комнатке на полу, опустив голову,
сидел Владимир. Увидев нас, он вскочил, сделал два
шага мне навстречу, но вдруг, словно передумав,
развязно сунул руки в карманы и сел на прежнее
место.
– С утра сидит, а прощенья не просит, – сказал
начальник. – Послали за матерью – ее дома не
оказалось. Он сам просил вызвать вас: учительница,
говорит, все объяснит.
– А что он сделал?
– Да вроде диверсии, знаете ли... выбил у нас
стекла.
Я была поражена. Владимир был озорным,
шаловливым мальчиком, но хулиганом – никогда.
– Если можно, оставьте нас вдвоем, – попросила
я начальника.
В комнате стульев не было. Я облокотилась на
подоконник. Мы оба молчали. Потом Владимир под-
иял голову, посмотрел на меня и... расплакался.
– Только маме не говорите. Я не хочу, чтоб она
25.
плакала... Ведь я не нарочно. Охотники подарили мне
порох и капсули. Я хотел только попробовать.
Положил на камень, а другим ударил. У них под окном
камни гладкие, удобные... Я забыл, что это милиция...
А теперь, – сквозь слезы проговорил он, —
начальник грозит сослать за хулиганство...
Он плакал горько, безутешно, как плачут дети,
когда думают, что попали в безвыходное положение.
Мне удалась убедить начальника ничего не
сообщать матери. Через час мы вышли из милиции.
» * *
Прошло несколько лет.
Из вихрастого босоногого мальчугана Владимир
превратился в стройного худощавого юношу. Глаза
его по-прежнему весело, озорно светились, веснушки
на носу побледнели. Он работал в колхозе
бригадиром молодежной бригады.
Стан бригады считался лучшим в колхозе.
Длинное кирпичное здание стояло в пустом фруктовом
саду. Перекатываясь мягкими волнами, с высоких
холмов в ложбины сбегали колхозные поля.
Комсомольцы с гордостью показывали мне стан: книги на
полочках, пианино, ковер на полу, бюст^Ленина и
портрет Сталингмв. позолоченной рамке, отлитый~йз
бронзы Киров в охотничьем костюме...
На стене висела грифельная доска– здесь
отмечались успехи учеников-комсомольцев. Владимир
молча старался обратить мое внимание на доску: мол, не
везде я посредственный. Комсорг похлопал его по
плечу и ^сказал:
– Лучшую бригаду на соревнование вызвал. Я
уверен, что наш участок выйдет вперед.
Допоздна тянулась беседа. Юность любопытна, ей
всё хочется знать: как делали отцы революцию, кто
в Америке не любит негров, есть-ли на Марсе жизнь,
как^Николай Островский написал книгу, почему
Московская 1сёл]ьско-хозяйствёРяая Академия называется
Тимирязевской, на каком языке будут разговаривать
люди, когда во всем мире будет коммунизм?..
26
# * ,#
В серый декабрьский день сорок первого года
мать Владимира получила извещение о том, что он
'югиб, защищая Москву. Я пришла к ней выразить
свое сочувствие.
Святая любовь матери, ты тоже была на
вооружении нашей армии!
– За свое счастье погиб, – сказала мне
женщина. – Рос сиротой, советская власть его учила.,.
Кому ж ее было защищать, как не ему?!
Она дала мне последнее письмо сына. Я сразу
узнала крупные неровные буквы. Письмо было сухое,
без ласковых слов. Он скупо сообщал о том, что
здоров и воюет. Предупреждал, чтобы мать не плакала,
если долго не будет писем. Он уверял, что не умрет,
он должен дойти до Берлина...
Женщина протянула мне фотографию, бережно
завернутую в белый шелк. На меня смотрело
знакомое узкое лицо. Как он возмужал! Но озорство по-
прежнему светилось в его глазах. На обороте
фотографии я прочла: «Моей маме, самой лучшей маме.
От старшего сержанта, минера энской гвардейской
бригады...».
Пожалуй, это были самые ласковые слова,
сказанные им когда-либо матери. Странный характер:
учился только для того, чтобы не огорчать мать, в
бригаде был первы,м, чтобы матери было приятно, и
под арестом у начальника милиции, зажав в кулак
самолюбие и мальчишескую гордость, униженно
плакал, упрашивая, чтобы не сообщали матери о его
аресте. Как-будто не было у него своей жизни, своих
интересов. Л с фронта пишет, что ни за что не умрет,
что он должен дойти до Берлина...
* # *
Весной сорок четвертого года я очутилась на
станции Беслан. Крыши зданий были сорваны, окна
выбиты, повсюду торчали бездымные закопченные
трубы и скрюченные рельсы.
Среди больших народов, на смерть дравшихся с
27
врагом, ис последней была и ты, любимая маленькая
родина моя! Названия твоих деревень значились на
больших стратегических картах вождя. Твой Моздок
знали и друзья и враги. Друзья с волнением следили
за боями в районе города...
Я пропускала поезд за поездом, завидуя
мужчинам, так ловко устраивающимся на крышах. Подошел
санитарный: белые марлевые занавески на окнах,
цветы, белоснежные халаты сестер.
– Какая станция, мать? – спросил меня юноша
лет семнадцати с удивленными глазами цвета
апрельского неба. Обе руки его были в гипсе. Он и сам был
чем-то по!хож на этот яркий весенний день, то ли
голубизной своих глаз, то ли волосами цвета
подсолнуха. Я не успела ему ответить. Подошел высокий
мужчина в белом халате.
– Я врач, – отрекомендовался он. – В нашем
поезде едет ваш ученик. Он увидел вас в окно и
просил позвать. Вам в какую сторону ехать?
Я сказала.
– Правда, в санитарном поезде не полагается
посторонним. Но знаете, не могу ему отказать, он
тяжелый.
Врач взял мой чемодан, и мы вошли в вагон.
Потом он подал мне халат и повел в крайнее купэ.
– Получай свою учительницу, – весело сказал
мой спутник.
Владимир... Неужели это Владимир?
Голова густо забинтована, правая рука в гипсе,
глаза кажутся огромными на исхудавшем лице. Он
молча посмотрел на меня и протянул левую руку.
Потом прошептал чуть слышно:
– Увидел Беслан – домой захотелось... маму
повидать. Ведь она меня уже похоронила... Опять,
наверное, плакала.
Он побледнел и закрыл глаза.
– Будешь нервничать – уведу учительницу, —
строго сказал врач.
– Не буду, оставьте, – сказал Владимир, не
открывая глаз.
Ночью, под мерный перестук колес он долго рас-
28
называл мне о своем единоборстве с немецким са-
!ером.
– У него лопатка и у меня лопатка. Оба мы
полип к дереву, у которого стоял пулемет. Кто раньше
до пулемета доберется, тот живым останется...
Ом помолчал, видимо, подыскивая слова, чтобы
ярче передать свои мысли, потом улыбнулся и
сказал:
– Вот рассказывать не умею. Вы всегда меня
ругали за короткие письменные работы... Ну, до
пулемета, все-таки, я раньше добрался... Л потом их
пришло очень много, а я был один. Ну, я не жалел их,
и они меня не жалели...
Он снова замолчал и закрыл глаза. Я боялась
заговорить, мне показалось, что он уснул.
– Вы маму видели, когда она извещение
получила? – вдруг тихо спросил он.
Я молча кивнула головой.
Он ждал.
– Нет, на этот раз твоя мама не плакала, —
поняв его, сказала я.
– Не плакала? – удивился он и знакомая
озорная улыбка мелькнула в его глазах. Ему как будто
стало легче и он жадно стал расспрашивать о матери,
о соседях, о колхозе, о своей бригаде.
– Война кончится, я вам много интересного
расскажу... А какие колхозы мы построим, —
мечтательно произнес он. – Ноги у меня здоровые, вот только
рука... Но это ничего.
Мы расстались под утро.
– Увидимся после войны в твоей бригаде, —
сказала я прощаясь.
Он просил меня написать матери о нашей встрече.
* * *
Кончилась война. Еще дымилась обожженная
земля. На месте деревень лежали обугленные развалины.
Но раны быстро затягивались. Наперекор всему буйно
пвели сады. Из-под пепла вновь возрождалась жизнь.
_ Тихим июльским вечером я шла по родному селу.
Сколько незримых нитей связывает меня с этими ме-
29
стами! Как дорого всё, как незабвенно... Безотрадное
детство и старый отец, сгорбившийся над сохой..•
Колхоз, выросший на моих глазах, и пионерский
отряд...
У моста через реку, разделявшую село, стояли
двое мужчин. Один из них был председатель
сельсовета – пожилой человек с длинными, свисающими,
как у запорожца, усами. Тыча суковатой ореховой
палкой в яму, образовавшуюся у моста, он строго
говорил своему собеседнику:
– Ты кого ждешь, сапер? Пойдут дожди – как
урожай повезешь? Твой участок – значит, чини, не
жди волшебства. Чтоб мне дорога была ровная.
– Машины вывезут, – ответил второй. На нем
была выгоревшая на солнце гимнастерка, с аккуратно
заправленным под ремень пустым рукавом.
Я сразу узнала это худое лицо с теплыми
веснушками на носу. Лоб прорезали две глубокие морщины,
виски поседели. Всё это мне показалось
неестественным, будто молодого актера неудачно загримировали
под старика.
– А чем дорога плоха? Бывало, мы и не по таким
дорогам ездили.
– Не знаю, – сердито перебил его председатель
сельсовета, – не знаю, по каким дорогам вы ездили.
На фронте не был, стар. В гражданку, помню, всякие
дороги бывали, мы легче туров на скалы взбирались.
Так то время другое было. Почему наша дорога
должна быть сейчас похожа на военную? Жизнь ведь
мирная! Машина за колхозные деньги куплена, не
дядя на блюдечке принес, беречь ее -надо... Чини свой
участок – и всё! И слушать ничего не хочу.
– Однако, сердит ты, хозяин села, ни минуты
покоя не даешь, – с озорной смешинкой сказал
Владимир.
– Уж лучше сердитым быть, чем равнодушным
Равнодушие – для любого дела погибель... Чини —
вот тебе и весь мой сказ.
– А я тебя как раз и хотел в равнодушии
упрекнуть, – сказал Владимир. – У меня сейчас
свободных людей нет, но мост я все-таки починю. А вы вот
30
аЖдое лето новые навесы для пшеницы делаете:.
Ведь правда: делаете? Как только урожай увезут.
• ¦•авесы разбирают, растаскивают по дощечке, по
гвоздику. Как это по-твоему называется – не
равнодушие? Лес пропадает, деньги, трудодни пропадают.
Собственного добра вам не жаль. Так вот, я не
разрешу каждое лето новые навесы делать. Пусть кто-
нибудь попробует хоть гвоздик тронуть – под суд
отдам... А насчет моста ты меня зря ругаешь, я сам
к тебе по этому делу шел.
– Так зачем же ты споришь? – разозлился
председатель. – Или на войне старшим возражать
научился?
– Наоборот, я на войне научился подчиняться
старшим. Наш батальонный давно бы мне приказал:
«Выполняй!» Разве я такие мосты чинил? —
Сдерживая улыбку, он приложил левую руку к виску и
чеканно произнес: – Есть починить мост, чтобы
участок мой был ровнее ровного!
Председатель ласково взглянул на него из-под
кустистых бровей, улыбнулся и, ничего не сказав,,
ушел.
– Владимир, – позвала я.
– Вы? – удивился он.
Мы долго беседовали. Он повез меня по той самой
дороге, по которой ходил до войны, мимо милиции,
где сидел под арестом, мимо школы, где провел
суматошное детство. Он держал вожжи в левой руке.
Когда я попыталась помочь ему, он сказал:
– Что у меня одна рука – это неважно... Теперь
хоть упрекать не будут, что некрасиво пишу, – он
рассмеялся собственной шутке. – Скупая вы на
отметки были, никогда я у вас из троек не вылезал. Но
теперь, с одной рукой, думаю на пятерку работать.
Он водил меня от участка к участку, рассказывал
о бригадах, о звеньях высокого урожая. Нагнувшись,
он взял в горсть немного земли и подкинул ее на
ладони.
– Только на войне понял я, как дорога мне эта
Родная земля, – сказал он задумчиво.
Мы поднялись на высокий холм. Солнце садилось.
31
Пламенел закат. Шелестящими волнами
перекатывались хлеба, убегая вдаль, к границам Кабарды.
– Дважды рвали сорняк, – окидывая взглядом
пшеничные дали, с гордостью произнес Владимир.
Мы подошли к бурной речушке и сели на берегу.
– Вырубили сады, – тихо сказал Владимир.
– Ничего, вырастим новые, лучше прежних будут.
Мне столько хочется сделать, что одной жизни мне
мало, ой, как мало... Л вот что осталось от нашего
стана. Помните, вы нам до войны лекции здесь читали?
Новый стан построю, да такой, чтоб отдельные
комнаты у колхозников были, баня, ясли, библиот^а. Чтоб
радиоприемник играл и картину после рарепы можно
было посмотреть... – Л что вы думаете; нельзя? —
вдруг резко спросил он, хотя я слушала его молча.
И в ту минуту он стал похож на того неуемного,
вихрастого Володьку, которого я выгоняла из класса
за шалости.
– Почему нельзя? – сказала я. – Можно даже
больше, чем ты замышляешь. Ведь все в твоих
руках.
Он с благодарностью посмотрел на меня. В
лунном мареве тихо шептались травы.
– Но если сказать правду – трудно мне порой,
труднее даже, чем было на фронте. Никогда не
работал человек так, как работает сейчас. Вон за тем
курганом работает бригада стариков. Я не звал их,
сами пришли. Мать говорит, что у земли своя душа
есть и эту душу понять надо, а если поймешь, то она
никогда не подведет...
– Не плачет мать больше?
– Нет, – улыбнулся он как-то особенно
ласково, – всё проверяет, хорошо ли работаю.
Он швырнул в воду камень.
– Год должен быть хорошим. Опять мы богатыми
станем. Вот река, – какая сила под боком. А
дороги какие можно проложить! Только надо захотеть по-
настоящему. На фронте, бывало, скажет бригадный
инженер: «За ночь дорогу проложить, мост
починить». И мы такое делали, что, кажется, не под силу
человеку. Эх, мне бы сюда нашего бригадного инже-
32
,;1; – мечтательно воскликнул он, сдвинув фураж-
х' .!а затылок.
Б эту ночь Владимир был удивительно
словоохотлив я никогда не знала его таким.
__ Хочется, чтобы у нас всего было много и чтоб
;;..мое лучшее. Потому я, однорукий, и в председатели
ч:,.-|Хоза пошел, чтобы самому проверить, что человек
жег сделать, если захочет, если все силы отдать,
;,к на войне отдавали.
Он взъерошил светлые волосы и, подвинувшись
м» мне, сказал тихо, как бы поверяя тайну:
– А в душе у меня такое волнение... верите, мне
п него трудно, ой, как трудно.
– Это хорошее волнение, очень хорошее...
В это время к нам подошел молодой, невысокого
поста мужчина в сапогах и косоворотке.
– Знакомтесь, – сказал Владимир, – это наш
агроном. Тоже фронтовик.
– Ну как, поедем, или ночевать будем? —
спросил агроном, и я услышала в его низком басистом-
голосе певучий говор украинца.
– Ночевать, – ответил Владимир. – Покажем
>автра учительнице весь колхоз. Пусть посмотрит...
Мне захотелось рассказать этим двум
замечательным людям, осетину и украинцу, хозяевам этих
земель, как на этих холмах жили их отцы и деды – в
неодолимой нужде, в бесправии и кровавых распрях...
У курганов паслись стреноженные кони, над
горами обломаиым колечком висела бледная маленькая
луна. Звенела река, серебром отливали поля, темной
стеной вдали тянулись леса – наши леса, наши поля,
наши реки.
И захваченная мечтой своих юных собеседников,
'!. позабыв о своих сединах, мечтала вместе с ними:
сот в голубизну неба поднимается мрамор, гранит
покрывает улицы, ярче звезд сверкает всюду
электричество, нежным белым пухом цветут наши сады...
И я, в который раз, пожалела о том, что не дана
человеку вечность, потому что бессмертна жизнь на
*-мле...
1947 г.
'-'Мое родное.
33
У СТАРОГО СКЛЕПА.
Вечер застал меня на станции Ардон. До ночи-
мне надо было добраться в колхоз «Партизан».
Но на привокзальной площади машин не было, и я
без особой радости подумала о том, что ночь
придется провести на станции.
– Садитесь, подвезу, – обратился ко мне
плотный мужчина средних лет с широкой крутой
спиной. – Машин до утра не будет, а вас дождь
промочит. Видите, – показал он на свинцово-фиолетовые
тучи, которые стремительно неслись из-за гор. —
Хорошие тучи! Большой должен быть дождь. Только бы
мимо не прошел... Ну что-ж, поехали?
Я с благодарностью приняла предложение
незнакомого человека.
Пыльная извилистая дорога бежала по
пшеничному полю, и высокие упругие колосья с жестким
шуршанием царапали бока двуколки.
Мой спутник был молчалив, но я обратила
внимание на то, с какой легкостью, с какой мальчишеской
лихостью правил он лошадью. Каждый раз, натягивая,
вожжи, он чуть привставал, и казалось, что он вот-вот
залихватски гикнет и конь понесет.
– Вижу, что вы в кавалерии служили, лошадь
чувствует вашу руку, – сказала я, желая завязать
разговор.
Он повернул ко мне лицо и с усмешкой, но без
горечи, сказал:
– Хромых в армию не берут, тем более в
кавалерию. Там йоги нужны такие, чтоб крепче стали были..
34
Он натянул вожжи, тихо присвистнул, и лошадь
пошла бодрой рысью. Подул встречный ветер.
Последние лучи солнца скользнули по вершинам
курганов. Большие черные тучи мчались нам навстречу.
_ Хоть вы и не были на фронте, но лошадью
правите, как настоящий кавалерист, – сказала я.
Он сиял шапку и повернул ко мне левую щеку.
Видите: вот, что мне помешало воевать.
У него не было левого уха, и всю щеку, от виска
до подбородка, прорезал розоватый след давней
раны.
– Это одна причина. А вторая та, что я хромой.
Я только с виду герой, а если присмотреться ко мне
поближе, так я весь продырявлен.
– Как же это так? На войне, говорите, не были...
– Да, не был, а все-таки изувечили. Меня так и
зовут: «одноухий кучер», как будто люди забыли мое
имя.
Он умолк. Я не беспокоила его вопросами,
чувствуя, что воспоминания ему неприятны.
Тучи промчались стороной и в потемневшем
вечернем небе проглянули первые бледные звезды. Ветер
внезапно стих, и по поверхности пшеничного поля
пробежала зыбкая рябь. То тут, то там прорывалась
гортанная песенка перепела. Где-то за курганом
прозвенел ручеек, и над посиневшими холмами повис
острый серп луны.
– Вас куда везти, – спросил возница, – в
бригаду, или в село?
– В правление везите, мне председатель колхоза
нужен.
– Председатель в поле ночует, в стане второй
бригады. Значит, нам по пути, – сказал он и хлестнул
лошадь.
Мы поднялись на пологий холм, где кончались
пшеничные поля и начинались кукурузные посевы.
Внизу, в ложбине переливались яркие огни. Луна
вдруг показалась мне совсем маленькой и бледной, а.
небо слишком высоким и холодно-неуютным. И мне
захотелось поскорее добраться к этим огням внизу. Не
35
спрашивая, я потянула к себе вожжи и хлестнула
лошадь, которая и без того бежала довольно резво.
– Не боитесь? – спросил мой спутник. —
Лошадью править не каждый умеет, а места наши
неровные.
– Мне эти места с детства знакомы, – ответила
51, не отрывая взгляда от ярких огней колхозной
деревни.
– Направо, – сказал он. – Стаи бригады вон
там, у кизиловой рощи, у старого склепа.
Я сдержала лошадь. Мы проехали мимо
каменного сооружения, неясно белевшего в темноте, и я не
сразу узнала старый каменный склеп, затерявшийся
среди курганов.
У длинного кирпичного здания возница помог мне
сойти. Призывно, тепло светились окна колхозного
стана, прорезая теплый мрак летней ночи широкими
снопами электрического света. Навстречу нам вышел
высокий сухой мужчина. Густые коротко
подстриженные его волосы были белоснежны, а с загорелого
липа юношески молодо глядели широко расставленные
черные глаза.
– Что так поздно? – обратился седовласый к
моему спутнику.
– Склад долго не открывали. Велели завтра
прислать .машину и получить все, что нам положено...
Л это вот товарищ к вам. Я знал, что вы в бригаде
ночуете, поэтому сюда привез.
– Много о вас говорят, – сказала я, протягивая
старику руку. – Хочу посмотреть ваш колхоз.
– Стараемся, сил своих не утаиваем, —
приветливо улыбнулся председатель и пригласил меня
поужинать. – Располагайтесь. Завтра я к вашим услугам,
а сейчас мне надо проскочить в первую бригаду.
Он легко взобрался на двуколку, в которой мы
приехали, и тронул лошадь.
* * *
– Разве вы никогда не слыхали историю склепа? —
удивился мой спутник. – Ведь вы говорите, что
места эти вам знакомы с детства...
/О
– Нет, не слыхала, – ответила я. – Склеп очень
красивый.
– Ничего в нем нет красивого: мшистые камни
лопухи да зеленые ящерицы. Только и того, что *
жаркий день в его тени можно от солнца укрыться.
Одноухий кучер присел па камень и глубоко
вздохнул. Вот что ои мне рассказал:
– Когда то, очень давно, одна вдова из фамилии
чД2^вь1х,_спасая своих малолетних сыновей от
кровной Л1естн,'"сложила этот склеп, и укрылась там. Двое
близнецов, Дзамболат и Дзаналди росли в нем под
присмотром ""матери; Тш'ТШ'^ттгтгстг^' по кровники их
все же разыскали и увезли. От горя вдова
превратилась в каменный столб – вот, видите этот ровный
прямой столб у входа? Склеп разрушается, а столб
стоит. Кровники поместили близнецов в высокую
каменную башню – адат запрещает из кровной мести
убивать детей. Их кормили, в надежде расправиться,
когда они вырастут. Но мальчики были мужественны
и храбры. Однажды ночью они выбросились из окна
башни и бежали. Однако, погоня быстро настигла их,
и в тот момент, когда кровники занесли над ними
кинжалы, старший, Дзх[^олат,_в^молился богу: «О,
бог богов, если ты не можешь ничем нам помочь,
тогда преврати нас в камень, чтобы холодные кинжалы
не могли поразить нас». И мальчики легли на дороге
рядом с двумя большими булыжниками. Они и
сейчас лежат у входа в Дигорское ущелье, а мать,
говорят, все ждет, когда сыновья отомстят кровникам, и
тогда она проснется от своего каменного сна.
– Эту легенду рассказал мне, умирая, мой отец,
когда мне было восемь лет. Ночью, во время жатвы
на него напал кровник и смертельно ранил. Тогда II
меня ранили в бедро, поэтому с тех пор я хромой.
Все это произошло возле этого большого камня, вот
здесь, где мы с вами сидим. Я бы этот склеп давно
разрушил, он только несчастья приносит. Да, отец
тогда прижал меня к груди и простонал: «Отомсти за
меня, иначе превращусь я в загробном мире в
каменный столб».
– И вы отомстили?
37
– Нет, хотя имел возможность убить своего кп)ов-
ника – сына того, кто убил моего отца. /
– Так вам ухо отрезали кровники? – как-то
некстати спросила я.
– Нет. В тридцатом году, когда только начали
создавать у нас колхозы, вот здесь у этого склепа на
спящего председателя сельсовета ночью напали
кулаки. Я был поблизости. Конечно, я мог уйти, их было
трое, а я что... хромой кучер, с меня спрос
маленький. Но я не ушел. В ту ночь я спас жизнь
председателю сельсовета, но в драке один бандит отсек
мне ухо.
– А жив еще человек, которого вы спасли?
– Жив, вы с ним только что познакомились, он
сейчас председатель колхоза. Мы с ним почти
ровесники. Он то и был моим кровником, сыном того, кто
убил моего отца... Вы спрашивали, отомстил ли я.
Еще задолго до той ночи, когда я спас ему жизнь, он
перестал быть моим кровником.
1949 г.
В МОЕМ ГОРОДЕ.
Я снова в своем родном городе, в столице
республики – Дзауджикау. Воскресный вечер.
Театральная площадь полна народу. Смех, шутки,
традиционные приветствия. Старик лет
восьмидесяти со старушкой направляются в театр. На ней
шелковый платок с длинной бахромой. Эти платки
можно увидеть только здесь, их плетут золотые руки
осетинок, издавна искусных мастериц. Мне все здесь
так знакомо – и ажурные платки, и расшитые
пестрые чувяки, и широкополые войлочные шляпы, и
стариковские, старательно выглаженные, бешметы, и
«рыцарские» поклоны молодежи. И я волнуюсь так,
словно после долгой разлуки попала в родной дом,
где прошло мое босоногое детство...
В зеленоватом полумраке зрительного зала тепло
и уютно. Приглушенный говор, шелест платьев. В
первом ряду партера рядом со мной сидят старик в чер-
.ческе и старушка в шелковом платке с бахромой. По
другую сторону от меня – юноша лет двадцати. На
прислоненный к стулу костыль он бережно положил
раненую ногу.
Третий звонок. Гаснет свет. Медленно, тяжело
скользит бархатный занавес, открывая' сцену. В зале
наступает тишина. Опираясь на костыль,
сосредоточенно подался вперед сосед справа. Упершись
подбородком в сморщенную старушечью ладонь, застыла
соседка слева. На сцене народный артист. Тхагтеаев.
Кем был бы он, если бы над его родиной не
прошумели ветры Октября? Повторил бы судьбу от:
39
нов: тяжелый пот на чужой пашне и бессильная
злоба...
А теперь, вот он, нащ Отелло. В белом оскале
зубов, в сдержанном порыве стрйстп протягивает он
руки к Дездемоне.
Я смотрю на сцепу и воспоминания наплывают им
меня. Это было давно, Тхапсаев умел тогда
произносить, наверное, только слово «пана».1
...Жаркий летний день. Заброшенный амбар.
Пахнет мышами. Посреди двора разостланы цыновки, на
них сушится пшеница. «Карауль, чтобы не поклевали
куры, чтоб телята не разбросали», – наказывает мать
и уходит на мельницу. Но разве усидишь?.. В амбаре,
за плотно прикрытой дверью репетируем «Трех
сестер». В амбаре вместе с нами... мальчики, чужи*:.-,
не родственники, значит, бывать им с нами нельзя.
Упаси боже, узнают отцы! Такого преступлении
мальчикам не простят, поэтому они стоят поближе к
двери, готовые удрать в любую минуту. И вдруг
слышится крик матери: «Чтоб я увидела тебя мертвой... гд-з
ты? Смотри, что сделали телята с пшеницей...» Дверь
амбара распахивается и на пороге появляется мать.
Она застывает, как в столбняке, в синих глазах —
ужас, на щеках – пятна злости. «Зачем вы здесь?
Что делаете? Какому богу молитесь, безумные?»...
^«Дездемона^^шдубка моя», – шепчет Отелло.
Старушка-соседка, упершись локтями в колени и
подавшись вперед, не сводит глаз со сцены.
Чья-то чужая мать. Морщинами щек, тусклым
блеском глаз – как ты похожа на мою старенькую
маму! Стоя когда-то в дверях амбара, она с гневом' и
страхом спрашивала меня: «Какому богу молитесь.
безумные?»
Смотри, смотри, старенькая мама, хоть па закате
дней своих познай настоящее счастье. Вот видишь:
мы вышли из темных амбаров на сверкающие сцены.
Ради того, чтобы увидеть сегодняшний день, стоило
пройти через тысячи смертей, пережить обиды, хорсчь
1 Нана – мама.
40
незаслуженных обвинений, злобный топот недобрых
поседей.
«Почему никто не подскажет, что она невинна?» —
полнуясь, шепчет моя соседка и тревожно оглядывает
зал. В напряженном молчании зала слышится только







