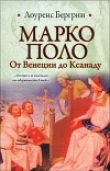Текст книги "Сын Неба. Странствия Марко Поло"
Автор книги: Эйв Дэвидсон
Соавторы: Грэния Дэвис
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
28
Гуай: Выход.
Радостное озеро подымается до небес.
Сильный и стойкий муж идет под дождем в одиночку.
– «Ищи Стоглавую Голову», – задумчиво процитировал Никколо свиток великого хана. – Интересно, кто это. Или что. Помнится, я читал… или слышал… а-а, неважно. В общем, давным-давно было такое стоглавое чудище. Геракл ему головы отхватывал – а они тут же опять вырастали. Н-да, вырастали.
Они продолжали устало тащиться вверх по продуваемой злыми ветрами горной тропе, вдоль ряда низких сосенок. Наконец, дядя Маффео, придавая мысли брата причудливое продолжение, заметил, что гераклины отличаются превосходной шерстью.
– Роскошная, плотная! А какие из нее капюшоны для подобной холодрыги! На ней даже влага от дыхания не намерзает! Этих гераклинов еще росомахами зовут. Так что, мы теперь ищем холм с сотней росомах? Да?
Марко, в очередной раз подивившись поразительной логике своего дяди, тяжко вздохнул. А потом ответил, что, по его мнению, они ищут дверь с сотней замочных скважин. Или замочную скважину с сотней дверей. Или…
Но тут ученый Ван Лин-гуань, порядком подуставший и в беседу не ввязывавшийся, вдруг произнес:
– Ха!
Все повернули головы и внимательно на него посмотрели.
– А что, собственно, «ха»? – осведомился дядя Маффео, нервно подергивая седеющую бороду.
– Притча о блаженном Ананде…
– Блаженном что?
Марко вежливо вмешался:
– Это, дядя, один индусский мудрец. Жил еще до Господа нашего. Очень добродетельный язычник, и теперь он, несомненно, в чистилище, а ни в коем случае не в аду. – Про себя Марко добавил, что в чистилище, должно быть, куда приятнее, чем на этой продуваемой леденящим ветром горной тропе.
Дядя Маффео кивнул.
– Значит, добродетельный дохристианский язычник? Так? – Теперь он нашел точку отсчета. – Что, вроде Вергилия? Да? Помнится, я в свое время тоже штудировал Вергилия. «Arumque…» Да нет – что это я? «Anna virumque cano», или «О мужах, псах и оружии». Ха, Вергилий. – Тут дядя выдохся. Да и замечания на предмет Вергилия истощились. Больше он ничего не сказал.
А ученый Ван вновь подобрал нить своего рассуждения.
– По прошествии далее Будды Шакьямуни, о коем, безусловно, неверно будет сказать, что он умер от употребления в пищу свинины, был созван Великий монаший собор. И ученик Ананда туда пришел. Однако у дверей разные монахи остановили его со словами… – Тут ученый Ван откашлялся и очень похоже изобразил монотонную речь монаха: – «Собор сей запретен для тебя, о Ананда, по причине твоего прежнего неизменного пристрастия к женскому телу, каковое, о Ананда, несовместно с путем мудрости и познания!» И с этими словами они закрыли дверь перед самым его носом, заперли ее и убрали ключ. Тогда, произведя шум наподобие громового раската, блаженный Ананда все-таки вошел. Через замочную скважину.
Какое-то время тишину нарушал только мерный стук шагов по ледяному гравию. А потом дядя Маффео от души расхохотался.
– Понятно вам? – фыркнул он. – Вот он, ваш добродетельный язычник! Нет, вы поняли? Поняли? Женщины! Познание! Замочная скважина! Ха-ха-ха!
Никколо тоже немного посмеялся. Ученый Ван позволил себе еле заметную улыбочку.
Но Марко мало волновали дискуссии о добродетели Ананды. Он размышлял о том, куда их теперь несет – если вообще куда-то конкретно.
– Мои дьяволы что-то мне напевают, молодой господин, – сообщил татарин Петр, пока они взбирались все выше в безжизненные горы.
– И что же? – поинтересовался Марко.
– Слишком тихо, – ответил Петр. – Не могу разобрать.
– Ну так скажи своим проклятым чертям, чтобы пели погромче, – проворчал дядя Маффео.
Отряд плелся все дальше. Вот уже кончились деревья, а низинные джунгли и лесистые склоны холмов у подножия остались внизу лишь отдаленным намеком. Путники взбирались по крутой и узкой тропке меж гладкими утесами и торчащими ввысь снежными пиками, где их предшественники возвели каменные пирамиды в честь своего успешного восхождения. В конце опасной тропы оказалось пустое и безжизненное плато с любопытными скальными нагромождениями, где в уши вонзались ледяные иголочки пыльного ветра.
– Мои дьяволы поют про рыб… – заявил Петр.
– В этой морозной пустоши нет никаких рыб! – рявкнул Никколо. – И быть не может.
– Наверное, они поют о нежнейших сардинах Венеции, – со вздохом сказал Маффео. – О вкуснейших сардинах, поджаренных с чесноком на оливковом масле и поданных с бутылкой красного вина. Ох, так и чую их аромат… и запах каналов. А у этих проклятых гор никакого запаха! Если и попадается навозная лепешка – так и та суха, как пыль, и ничем не пахнет.
– Мои дьяволы поют, чтобы мы искали рыбовидную скалу, – сообщил Петр.
– Эту дьявольскую песню я уже слышал, когда мы спасались от смертоносных ворон, – стал размышлять Марко. – И тогда еще подумал, что тебя стоило назвать в честь святого Петра, рыболова.
– Так что же нам теперь – искать стоглазую рыбу? Или сторыбью скалу? Слишком я стар для таких загадок, – принялся язвить Маффео. Но когда над ними вдруг нависла громадная рыбовидная скала, увенчанная россыпью мощных валунов, даже насмешливого дядю Маффео охватило крайнее изумление.
Все тут же на эту загадочную скалу взобрались. Изумление еще возросло, когда путники увидели, что груда округлых валунов представляет собой вовсе не беспорядочную россыпь, а целую сеть неглубоких пещер, напоминающую гору черепов – или Стоглазую Голову из свитка великого хана.
– Быть может, мы наконец напали на след… и она спит где-то неподалеку? – спросил Никколо, возбужденно перебирая свои старые хрустальные четки, словно то были самоцветы. Про себя он так и решил: четки розовых рубинов для «Аве Марий» и бриллиантов для «Отче нашей». А цена – столько лет избавления от чистилища, сколько установит его святейшество…
Подойдя поближе к похожим на глаза пещерам, путники узрели нечто необычайное. Ибо стены пещер сплошь были покрыты бесчисленными резными изображениями гневных и безмятежных Будд, а также всевозможных демонов и идолов. Глаза и конечности изящно вытянуты; во множестве рук зажаты загадочные орудия и символы; спокойные и яростные лица размалеваны яркими красками. Поразительное и увлекательное зрелище – хотя и нечистое духовно.
– Это древние пещеры для медитации, – объяснил ученый Ван. – Здесь монахи вырезали образы гневных и мирных сил в таких же клетках разума, а также культивировали внутреннее тепло, что греет без огня.
– Мой разум может умиротворить только одно, – проворчал дядя Маффео. Тепло того сердца, что под щитом с четырьмя скворцами на Палаццо ди Поло в Наисветлейшей Венеции.
А потом, когда путники вошли в просторную, украшенную броской резьбой пещеру, изумление их перешло все границы. Ибо там, под изображением сидящего в позе лотоса и улыбающегося Будды, сидел в позе лотоса и улыбался странствующий катайский рыцарь, порой именуемый Хэ Янем.
Хотя Поло и остальные члены отряда кутались в подбитые мехом халаты, Хэ Янь остался в той же тонкой хлопковой блузе, штанах до колен и пеньковых сандалиях, которые он носил и в жарких и влажных джунглях Чамбы. Должно быть, он как раз культивировал внутреннее тепло. Под руками у рыцаря лежала его верная ржавая алебарда. Увидев вошедших в пещеру людей, Хэ Янь, зевнув, изрек:
– Ну, наконец-то… я уже и ждать устал.
– Хэ Янь! Как ты здесь оказался? – воскликнул Марко.
– Разве я не обещал встретиться с вами в Тибете? И разве порядочный рыцарь не держит своих обещаний?
– Так ты шел один под муссонными ливнями? От самой Чамбы? – спросил Марко.
– Ха! Такая прогулка изорвала бы в клочья мои жалкие сандалии. А денег на новые у меня нет. Нет, не шел я один под дождем. Я ехал на жирном белом муле. Правда, его бока порядком исхудали, пока дожидались тут вас, ленивцев, – ответил Хэ Янь.
– Но как же ты раздобыл мула и еду, если у тебя не было денег? поинтересовался Маффео.
– Разве мои добрые господа не посланники великого хана? – с обиженной миной на скуластом лице спросил Хэ Янь. – Разве мои господа не носят при себе серебряную печать, способную обеспечить их конями и провизией на любой императорской почтовой станции?
– Все это так, – отозвался Маффео, – но тебе-то как удалось раздобыть мула? Надеюсь, ты его не украл?
– Не украл! – Рыцарь возбужденно хлопнул себя по колену. – Разве под силу обычному вору реквизировать и привести своим добрым господам в дикие горы Тибета целый табун коней – с запасом провизии в придачу?
– Это ты о чем? – спросил Никколо, нервно перебирая четки.
– Если благородные господа меня не понимают, пусть взглянут под этот рыбовидный холм с горой валунов, похожих на черепа…
Все Поло и ученый Ван вышли из пещеры и посмотрели вниз. Там оказался целый табун ухоженных и славно навьюченных коней (а среди них – одного белого мула), что стояли на привязи в низенькой рощице у хилого ручейка. Седельные вьюки ломились от продуктов. Животные нетерпеливо ржали и били копытами.
– Ну и как он, по-вашему, это проделал? – спросил Маффео.
– По-моему, лучше не спрашивать, – ответил Марко.
– Мудрец с благодарностью ест предложенный рис, – заметил ученый Ван. И ему вовсе не обязательно знать, где этот рис вырос.
Мудрая восточная поговорка расставила все по своим местам.
29
Сунь: Проникновение.
Беспрестанные ветры дуют сверху и снизу.
Травы никнут под легкими порывами.
Поло со своим отрядом, а также рыцарь, порой именуемый Хэ Янем, разбили на ночь лагерь под стоглазыми валунами, что составляли собой пещеры Гневной и Мирной Памяти. Все радовались новым припасам из седельных вьюков чужих коней и надежде на передышку для своих усталых натертых ног.
– Кони уже совсем застоялись… что же вас так задержало? – спросил Хэ Янь, потягивая рисовое вино, подогретое на хилом высокогорном костерке.
– Наш корабль захватили песьеголовые пираты, – объяснил Марко. – Мы спаслись на гребных шлюпках, но затем к нам подплыл морской дракон и стал спрашивать, где тебя найти. Когда мы отказались открыть твое местонахождение, морской дракон направил нас на остров, где местные духи снов околдовали людей и где плоскохвостые каннибалы похитили Си-шэнь.
– Си-шэнь? – переспросил рыцарь, сжимая алебарду.
– Да. Она сопровождала нас под видом немого пажа Оливера, и… – Пока Марко и Оливер негромко рассказывали о печальной судьбе Си-шэнь, Хэ Янь все крепче и крепче сжимал алебарду, пока костяшки пальцев совсем не побелели в неверном свете потрескивающего костерка.
– Так вы говорите, она нырнула в море, но тела ее не нашли? – спросил Хэ Янь. – И вы высадились на берег этого злосчастного острова только из привязанности ко мне? Сможет ли порядочный рыцарь спасти свою ничтожную репутацию, отплатив за подобное благодеяние?
– Но ты же ничего не знал… и потом, ты уже и так слишком многое для нас сделал, – возразил Марко.
– О Хэ Яне известно, что он пожелал умереть за господина, оказавшего ему почет, – напомнил странствующий рыцарь.
От хилого костерка остались лишь тлеющие угли, разговор превратился в сплошные зевки – и усталые путники стали устраиваться ко сну. Марко свернулся калачиком, накрывшись плащом на меху. И вдруг, в каком-то промежуточном состоянии меж сном и явью, услышал явственное шуршание. Полуоткрыв глаза, Марко увидел смутную тень, очерченную скудным светом звезд и горячей золы. То была крупная фигура мужчины с алебардой, который как раз совал себе в рукав нечто вроде сложенного листка бумаги.
По-прежнему оставаясь меж сном и явью, Марко видел, как скуластый мужчина приостановился; потом снова аккуратно достал из рукава белую бумажку – и развернул ее. Изогнутый листок начал расти – рос и рос, – пока не сделался размером с жирного белого мула. Тогда призрачная фигура с алебардой оседлала сияющее белизной животное. Не веря своим глазам, Марко крепко зажмурился. Когда же он снова открыл глаза, мужчина и мул уже исчезли.
«Приснилось, – решил Марко. – Наверное, я все-таки спал».
Пронизывающий горный ветер свистел у Марко в ушах – и крепкий сон никак не приходил. Но какие-то сновидные образы все же проплывали в голове. То и дело слышались негромкие слова кроткого скопца Вагана: «Кратко познанные радости забываются подобно смутным обрывкам снов…» Были то сновидения или полустертые воспоминания, что засоряли голову и мешали спокойно заснуть? Закутавшись в меховой плащ под пещерами Гневной и Мирной Памяти, надстроенными над рыбовидной скалой, Марко лежал – а ветры воспоминаний беспрестанно продували его сонный разум…
«Марко!» Теперь его позвал женский голос. Но чей? И тут же он вспомнил. Как же он мог забыть? Ведь это его больная матушка зовет его домой, отрывая от шумных забав на пропахших рыбой набережных Словенского канала. Вот она стоит у прогревшихся на солнце железных ворот Палаццо ди Поло там, под гербом с четырьмя скворцами, где небольшая треугольная клумба розовых роз. Землю для этих клумб, удовлетворяя каприз его бабки, слуги специально наносили с Терра-Фирмы.
Но Марко не откликнулся на зов своей недужной матушки. Не хотел он домой, где все навевало скуку – где нужно будет опять долбить с отцом Павлом сухую латынь и греческий. Марко хотелось остаться там, под ярким солнечным светом… ведь его звала труппа бродячих актеров… приглашала посмотреть представление… манила радостными барабанами и флейтами… его звали кувыркающиеся клоуны и шуты в забавных масках и цветастых одеяниях… на представление… И Марко, с монеткой в потной ладошке, припустил вдоль грязных берегов – а дальше через выгнувшийся дугой каменный мост над Словенским каналом. Побежал, так ничего и не ответив матушке. Очень уж хотелось ему посмотреть представление…
Но все же ни один непослушный венецианский паренек и вообразить не мог того представления, что давалось по берегам Великого канала Хубилай-хана, когда Марко с недужным царевичем Чингином плыли на императорской барже из Ханбалыка в богатую южную провинцию Манзи. Сына Неба тогда как раз назначил Марко управителем канцелярии по сбору солевого налога в Янчжоу, а царевич искал случая избегнуть одра болезни, отправившись вместе с венецианцем в плавание по восстановленному Великому каналу. Заново углубленный канал был главной артерией для торговли Южной Манзи и Северного Катая, пересекаясь вдобавок в Янчжоу с текущей с запада на восток полноводной рекой Янцзыцзян. Чингин сидел на низенькой парчовой кушетке, поставленной прямо на палубу золоченой императорской баржи. Обратив бледное лицо с глубоко запавшими глазами, прикрытое от солнца белыми шелковыми зонтами, к водруженной на носу баржи голове дракона, царевич играл на своей заунывной трехструнной лютне. Временами он посматривал на разворачивающееся вдоль берега представление…
Великий канал был куда шире, глубже и длиннее любого канала Венеции. Мощная водная магистраль соединяла между собой множество рек и озер. Вдоль берегов бежали дороги – так что всевозможный транспорт двигался тут как по воде, так и по суше. Длинные вереницы сампанов перевозили зерно с рисовых полей на юге в засушливые столичные земли на севере. А черные угольные камни направлялись от желтых северо-западных песков в горячие южные печи. Плавучие дома с яркими горшечными садиками везли целые горы нежной капусты. Оборванные пешие крестьяне тащили свои товары в плетеных корзинах, свисающих с бамбуковых наплечных шестов. Расфуфыренные господа и их дамы с крошечными спеленатыми ножками наслаждались пирами, радостной музыкой и прочими увеселениями на прогулочных баржах с фениксами на носах. Длинные похоронные лодки перевозили плакальщиков в белых халатах, чьи унылые причитания словно повисали во влажном воздухе.
Марко и царевич, в переливающихся халатах летнего шелка, плыли мимо пропахших нечистотами деревушек и городских сторожевых пагод. Нанесли они царский визит и в восхитительный Сичжоу, чьи красоты особенно впечатлили Марко, ибо то был город узких каналов и дуговых каменных мостов – город, так напоминавший Венецию. За множество величественных особняков Сичжоу также называли «Земным городом». А неподалеку, у полноводного Западного озера, располагался Хансай, иначе называемый «Небесным городом». Хансай воистину был величайшим (не считая, разумеется, Наивеличайшей и Наисветлейшей Венеции) городом, какой Марко когда-либо доводилось видеть. Так венецианец и недужный царевич Чингин плыли по Великому каналу Хубилай-хана, наблюдая за происходящим на берегу фантастическим представлением…
Однажды, с печальным вздохом отложив свою лютню, Чингин сказал Марко:
– В такие волшебные дни я особенно сожалею о скором конце своей краткой жизни.
– В империи вашего отца множество разных лекарей, – возразил Марко. Великий хан еще далеко не исчерпал все их познания.
– Зато я уже исчерпался, – отозвался царевич. И продолжил грустную мелодию своей лютни, ибо музыкантом он и впрямь был незаурядным.
Но вдруг фигура принца заколыхалась, будто рябь на воде, – и превратилась в фигуру грустного скопца Вагана.
– Кратко познанные радости забываются подобно смутным обрывкам снов… – сказал скопец.
– Марко… Марко… домой!.. – позвал голос больной матушки.
– Нет, мама. Мне надо увидеть это странное представление… – ответил Марко.
Сновидные ветры воспоминаний продували и голову Никколо Поло, закутавшегося в заплесневелый меховой халат под пещерами Гневной и Мирной Памяти…
– Какой у вас здоровенький, пухленький сынишка, мессир Никколо, лучилась улыбкой не менее здоровенькая и пухленькая повивальная бабка за массивной деревянной дверью его спальни в Палаццо ди Поло. – Вам следует воздать благодарения благословенному Сан-Марко за то, что ваш ребенок и ваша жена – хоть она и слаба – в добром здравии.
– Я не просто воздам ему благодарения, – сказал Никколо. – Мальчик будет тезкой Сан-Марко, чьи мощи покоятся на высоком алтаре Священной Базилики нашей любимой республики Венеции.
И в лето Господне 1254-е мессир Никколо Поло, преуспевающий венецианский купец, отправился в базилику ди Сан-Марко воздать благодарения за благополучное рождение сына. Просачивающийся сквозь дымку солнечный свет поблескивал на водах Большого канала – и на мраморной мостовой громадной площади перед величественным куполом собора, что был выстроен в форме греческого креста, поддерживаемого сотнями мраморных колонн. Внутри базилики всегда царил призрачный сумрак – даже несмотря на поблескивание золотистых мозаик в византийском стиле на верху стен и сводчатом потолке, несмотря на мерцание богато украшенных самоцветами эмалей высокого алтаря, где покоились мощи Сан-Марко. Тишину нарушало только приглушенное эхо молитв. Мессир Никколо Поло присоединился к молящимся, перебирая свои хрустальные четки…
«Нитка жемчуга с лучших жемчужных плантаций, где Африканский океан смешивает свои пряные, как гвоздика, воды с пахнущими сандаловым деревом волнами Индусского моря. Соответственно оплодотворяя лучшим морским песком лучистые перламутровые раковины с мягчайшей плотью, куда до той поры не попадало ни песчинки. В те томные ночи под Южным Крестом, когда нежный моллюск ощущает радостное падение медленного-медленного дождя… Двойная нитка таких жемчужин, где каждая размером с молочный зуб невинной девочки, каких подводят к первому причастию. Сказанная нитка легко обматывается дважды вокруг спрятанной в кружевах шейки той самой девочки из Великих Фамилий, вписанных в Золотую Книгу.
Ценою же каждая нитка (с застежками наподобие крошечных акульих пастей из позолоченного серебра) в одного лучшего белого мула, пригодного для езды князя церкви на любые конклавы и в святые места…»
Но что это за четки? Это же совсем не те четки! Сияющие арки собора замерцали, заколыхались – и превратились в заросшие лишайником валуны его укрытия от гигантского барса, что беспрестанно расхаживал снаружи туда-сюда, туда-сюда. Рычал, шлепал огромными лапами – пока Никколо утешения ради читал свою самоцветную литанию…
«Винная чаша великого хана; по меньшей мере вдвое крупнее большого кубка дожей и из лучшего золота. Украшенная серебряной филигранью со вставленными в нее двумя десятками звездчатых сапфиров, каждый размером с глаз кефали (самой крупной, каких кардиналы любят отведать в Великий пост, – с приправой из чеснока, розмарина и фиг). Ценою же каждый из сказанных сапфиров в кольцо с большого пальца главного повара – из халцедона и гагата с тремя бриллиантами в честь Святой Троицы, а каждый из бриллиантов размером с зерно отборной пшеницы…»
Опять мерцание, колыхание – и каменная клетка, а с ней и гигантский барс, исчезла. Теперь было лето Господне 1270-е, и каштановые волосы мессира Никколо Поло уже тронула седина. Только-только они с младшим братом Маффео вернулись в Венецию из первого триумфального путешествия в Катай, – вернулись поначалу лишь ради насмешливых приветствий кичливых венецианцев, скалившихся над их чужеземными отрепьями.
Но стоило им только разорвать свои одеяния по швам, стоило только высыпаться на землю целой груде самоцветов, как все насмешки тут же сменились уважительным изумлением. Все поняли, что братья Поло славно пожили при монгольском дворе. А вот болезненная супруга Никколо Поло пожила не очень славно, и радость возвращения домой обернулась скорбью, когда Никколо узнал о ее смерти. От их брака остался единственный сын, Марко, – тогда еще пятнадцатилетний подросток с каштановыми кудрями…
«Также: шестнадцать армилов, сработанные из наилучшего красного золота, инкрустированного розочками из яшмы и халцедона, усеянного бриллиантами размером с сустав среднего пальца только-только отнятого от груди младенца. Ценою же каждый армил: в доход меж праздником Крещения и днем святого Иоанна, считая за два года, от портового города, способного принимать суда не более шести футов осадкой…»
Воистину славное утешение находил мессир Никколо в самоцветах. Ибо свое состояние можно носить при себе – и, в отличие от волос или бороды, краски его не пропадут никогда…
Пронизывающие ветры воспоминаний свистели и в голове мессира Маффео Поло, седобородого брата Никколо и дяди Марко. Маффео также снилось то, в чем он находил наибольшее отдохновение, – еда. Снился ему свежевыпеченный пшеничный хлеб и нежнейшие голуби, поджаренные в растопленной деревянными поленьями печи Палаццо ди Поло; поданные, как полагается, с добрым красным вином и гарниром из изюма и диких грибов с ароматными восточными пряностями.
А ведь как раз дьявольский соблазн нажиться на этих проклятых пряностях и занес их в языческие земли! Но рис здесь по вкусу походил на песок, из пшеничной муки выпекали каких-то червей, а мясо поливали омерзительным черным соусом из соленых соевых бобов…
– Вы уже откушали? – приветствовал их во время путешествия по очередному повелению великого хана кланяющийся хозяин постоялого двора с улыбкой до ушей. – Надеюсь сегодня вечером порадовать вас молочным супом из козьего желудка. Поверьте, благородные господа, – мы его не каждый вечер готовим.
– Марон! Сегодня, стало быть, такая баранина! – проворчал Маффео, чувствуя, как по мере исчезновения снов о жареных голубях с хрустящей корочкой, горячем пшеничном хлебе и добром красном вине Терра-Фирмы к горлу его подступает тошнота…
Любезнейший хозяин постоялого двора, несколько растерявшись, сказал, что, если благородные господа пожелают, можно приготовить суп из овечьего рубца. Хотя многие благородные господа, несомненно, предпочли бы козий желудок.
– Что-то ты, братец, становишься больно разборчив, – заметил Никколо. А ведь совсем недавно ты с аппетитом сожрал бы своего собственного жареного пони!
Марко же напомнил дяде, что – не считая, быть может, сезона пахоты – и «там, дома», никто не стал бы воротить нос от козлятины. Суп они, впрочем, все-таки пропустили. Рубец порой бывал нежен, но порой так тверд, что зубы сломаешь.
Оживленная болтовня под висячим фонарем душной чайной резко оборвалась при входе иноземцев – и тут же возобновилась, причем еще оживленнее. Ибо в доброй компании катайцы вовсе не слыли людьми особо молчаливыми или сдержанными. Как, впрочем, и венецианцы.
В углу тихо стоял мальчуган с бритой головой и узлом на макушке. Для быстрейшего удовлетворения природных потребностей на штанах его сзади имелся вырез. Парнишка был почти незаметен – не считая тех мгновений, когда он делал шаг вперед и похлопывал ручонкой чайник, проверяя, достаточно ли он теплый. Если чайник остывал, мальчуган стремглав бросался на кухню за новым. А мессир Маффео Поло тем временем хмуро поедал песчаный рис, пшеничных червей и соленую требуху. Мечталось же ему о жареных голубях и свежевыпеченном пшеничном хлебе.
Придворному мудрецу ученому Вану, молодому татарскому рабу Петру, странствующему варягу Оливеру, крылатому сфинксу жарких пустынь, монгольским и татарским конникам – всем, всем им продували головы ветры воспоминаний. Путники спали под пещерами Гневной и Мирной Памяти, что увенчивали рыбовидную скалу, – и видели сны о своих языческих землях, кричали на своих языческих языках. Спокойного сна не удостоился ни один…