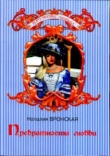Текст книги "Павел II. Книга 3. Пригоршня власти"
Автор книги: Евгений Витковский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Взвыла сирена. Лепилчасть еще относительно далеко располагалась от эшафота, так что Имант всего лишь сглотнул от неожиданности. Казаки подняли нагайки и вытолкнули на эшафот первую порцию «гаишников», основательно ударив их под коленки, чтоб не думали по старому советскому рецепту умирать стоя. Кто-то вырывался, кто-то просто рухнул на кумач. Медленно, стараясь придать моменту значимость, на помост вышел Днепр. Имант отвернулся, видал он еще и не такое, а слышно, как он предполагал, не будет ничего: и далеко, и заморыши в десятом живут. Живут? Пожалуй, этот синий людоед с этим вопросом сейчас разберется, никого там живого очень скоро не останется. Краем глаза латыш все-таки на эшафот глянул. С помощью казаков Днепр устраивал там кровавую баню. Григорий Иванович явно не нуждался в заметной помощи, – ну, разве что остатки его трудов нужно было убирать, да новые партии выталкивать. Главный лепила протянул латышу мензурку, – как-никак в лагере они оба были чем-то вроде патриархов. Лепила в сторону эшафота не смотрел.
– Голем… Ну, сущий голем… – пробормотал лепила, и свою мензурку выпил. Что такое голем, Имант не знал. Но ясно, что ничего хорошего врач иметь в виду не мог.
Сирена продолжала выть, понемногу светало. Лепила уселся на подоконник, чтобы и самому не видеть, и другие не смотрели. Взгляд лепилы вдруг осмыслился:
– А тебя что же не укумили?
Алеша Щаповатый, к которому слова были обращены, выполз из-под стола с расчлененными останками кума. Имант вспомнил, что именно этот жалкий мент-щенок мог бы и должен бы за смерть кума ответить. Но не идти же с доносом теперь, когда синий людоед отомстил уже за все, за что только можно придумать. К тому же Алеша вряд ли после всех подобных событий мог остаться в своем уме.
– Ну, я и сам управлюсь… – пробормотал лепила, набирая в шприц лиловатую жидкость. Имант резко ударил его по руке: еще не хватало психа убивать. Вон, псих лютует посредине лагеря, так за ним небось никто со шприцем не гоняется. Шприц отлетел в сторону, но лепила достал из автоклава другой.
– У меня их пока много, выбить не пытайся, дай, психу-то глюкозу введу. Не гляди, что лиловая, я все в непонятные цвета крашу, не то спасу нет от бакланья мусорского.
Имант в душе покраснел и помог лепиле закатать щаповатский рукав. Покуда медленные десять кубиков втекали в вену к Алеше, радист вгляделся в лицо лепилы. Был тот очень стар, но крепок, по неоспоримому врачебному праву носил жидковатую бороду. Сколько помнил Имант, за четверть века главлепила не переменился ничуть. И никуда его из Тувлага на пересуд не гоняли, – сколько ж он тут просидел?
– Федор Кузьмич, – спросил Имант, – что ж это срок у тебя такой длинный?
– Это не срок, – ответил лепила, – это жизнь такая. Длинная. Какую Бог послал, такая есть. И жить ее надо так, чтобы не было от нее противно. Тогда она длинная получается. Идею, самое главное, в душе беречь не надо, насчет счастья для внуков, или там внуков этих внуков. Сейчас жить надо, и не брать от жизни, а просто жить. Вот и будет не срок, а жизнь.
Для Иманта, сына латышских стрелков, философия лепилы была слишком сложной, но и в его радиодетальную голову пришло, что и сам-то он тоже уже давно не сидит, а живет в лагере, так по документам выходит. Алеша приоткрыл глаза.
– Никого ты не убивал, – тихо и строго сказал лепила, – когда ты на кума с шилом полез, он уже холодный был. Отравление эфиром. Ты себя не грызи, скоро буран, покемарь пока. – Лепила прикрыл Алешу краем чьей-то забытой, то ли собственной своей телогрейки.
И вправду, лютый вой ветра стал заглушать даже барабанные грохоты, долетавшие с эшафота, где, похоже, все шло к концу. Снег повалил невиданными, с ладонь размером, хлопьями, словно пытаясь прикрыть собою все то позорище, которое учинил посреди Тувлага разбушевавшийся Днепр. Но, хотя барабаны все грохотали, что-то, видимо, было неладно на эшафоте, вопли оттуда доноситься перестали; Имант подумал, какой же нынче снег плотный, вот, даже синего людоеда за ним не слыхать.
Дверь лепилчасти распахнулась, на пороге стояли казаки, их обмороженные до синевы лица служили неким цветовым переходом к синеве того ярко-лазурного предмета, который они тащили. Главлепила на этот предмет уставился с большим интересом.
– Это кто ж его, болезного?
Казаки смутились, потом из-за их спин вышел урядник, протянул руку. Лепила, видимо, на этот жест в жизни насмотрелся: в лапе урядника немедленно оказалась мензурка с лиловатым спиртом. Урядник дернул головой, – видать, выражал благодарность, – и одним глотком мензурку опрокинул в горло.
– Это десятый кончился. Начальник все кумил, кумил, да барак-то не бездонный, кончился барак. А другие, не из десятого которые, не годятся ему. Он и рухнул.
Лепила с интересом щупал пульс Днепра, разглядывал зрачки. Григорий Иванович Днепр лежал на растянутой казаками плащ-палатке, и был тих, как его омоним, описанный литератором Гоголем в замечательной повести «Страшная месть».
Лепила размашисто перекрестился и указал казакам на пустой стол.
– Все, ребятки. Этот – все. И никто в его смерти не виноват, и разводите прочих по баракам. Скажите – и куму песец, и надкумку синему тоже песец, пусть спать ложатся, завтра минус сорок девять, в зачет воскресенья пойдет. – Видя, что урядник сомневается, лепила выпрямился, оказавшись на полголовы выше любого из казаков. – Быстр-ра! Па-ба-ракам! Шагом м-марш!
Эхо в прозекторской было необычное, оно повторило не конец команды, а середку: «…Ра-кам!..» Казаки послушно уложили утихшего Днепра на стол и, пятясь, вышли из санчасти. Главлепила с интересом подошел к Днепру. В окостеневшей правой руке бывший спецпредст держал измочаленную и окровавленную «гаишницу».
– Вот и кончился у него срок, – сказал старец, обращаясь и к Иманту, и к полуожившему Алеше, – он не жизнь жил, а срок отбывал. А неправильно это. Очень вредно для здоровья.
Снег валил и валил, и никакие прожекторы с ним уже не справлялись. Который идет час – было не понять, все циферблаты в хозяйстве главного лепилы раз и навсегда, похоже, остановились на одиннадцати с чем-то, кто хочет, пусть смотрит и верит, а ему, главному, на время уже давно и навсегда плевать. «А как же радио? – подумал Имант. – Не ровен час опять антенну порвет…»
На подобный вопрос лепила только ухмыльнулся. Потом вытащил из-под стола с Днепром три пары валенок, две телогрейки; придирчиво оглядел своих мелковатых гостей, третью пару швырнул обратно. Потом стал деловито осматривать содержимое Днепровых карманов. В рюкзаки перекочевали два «макарова», один складной «толстопятов», полдюжины гранат «Ф-1». Из очередного кармана старик-лепила вывернул пачку документов, глянул на верхний – и замер. Имант заинтересовался – чем бы это таким покойник мог врача удивить, а увидев, удивился сам: в руках старец держал всего лишь черно-белую открытку с фотографией бюста императора Павла Первого. Но спрашивать латыш ничего не стал, что надо, то и так скажут, это он знал по лагерному опыту.
Главлепила тем временем закончил сборы.
– Все! Переодевайтесь. Мне еще это синее дерьмо вскрывать.
Алеша от ужаса попытался уползти обратно под стол, Имант только вздохнул. Кто сейчас в лагере главное начальство? Лепила. И.о. кума, так сказать. Из собственного кармана тот уже выловил потрепанный бумажник, из него извлек карту местности и развернул ее на подоконнике.
– Так вот: сюда, а потом сюда. Здесь десять верст по реке, встала уже, Чулвин река называется. Может, и двадцать верст, неважно. Дойдете до скалы по левую руку, рогатая такая, будто кто из земли два пальца высунул джеттатурой… ну, улиточьими рожками. Между них тропка, по ней уйдете. Ночевать, дурни, только вместе, не то выкопают вас через миллион лет как мороженого мамонта и в императорский музей…
Старик говорил, говорил, ясно было, что Алеша не в силах не только ничего запомнить, но даже и понять, о чем идет речь. А сын латышских стрелков аккуратно все запоминал. Зима еще в полной силе, а царь уже настоящий. Самое время с лагеря рвать валенки, накочумался уж.
– Здесь вам нельзя больше. Здесь вон пахан из его барака, – старик кивнул на Алешу, – Гэбэ, теперь хозяйничает. Ему-то что, накромсаю ему с этих двух придурков съедобных, как говорится, частей, дня четыре спокойный будет. А потом пойдет такая ас-са-мбле-я… – врач замер, глядя в быстро темнеющее окно, – снег за ним валил так, словно небеса кто-то чистил широкой лопатой и той же лопатой этот снег сбрасывал прямо на Тувлаг.
– А про меня не думайте, – ответил лепила на незаданный вопрос, – я не такое видывал. Я пятьсотчетвертошников друг другу скормлю, последнего доской приморожу, накрою, вот пусть их в музее и выставляют. Словом, бери стебанутого, и – ходу!
Чтобы не мудрить, Имант выбрал старую дорогу: ту, по которой неизвестно кто из Тувлага уже дал деру в вечер последнего в Мишиной жизни упоя. Лагерь он знал наощупь, вышел к тому самому месту, где накануне чинил периметр. Все тут было опять порвано, но не людьми: на проволоке, разомкнув колючую цепь, висела мертвая овчарка – лишь она одна в ночь побега пыталась исполнить свой долг, но никто ей не объяснил, что внухрить – это совсем не то что вохрить, а, стало быть, беглых народонаселение должно само ловить, ему за то империалы золотые платят – а к чему собаке империалы? Имант аккуратно снял тело собаки с проволоки и зарыл в снег: все как-то аккуратней. Потом, следуя совету лепилы, дошел до первой сосны и вынул из неприметного дупла моток грубой бечевки, обвязал ее вокруг пояса совершенно ничего не соображающего Алеши и повел его, как поводырь слепого, не спотыкаясь.
Основательно, прямо в снег лицом, споткнулся он только метров через восемьсот. Высказав по поводу валяющегося под ногами предмета все то, что знал от отца по-латышски, радист разгреб сугроб, хотя вообще-то и сразу понял, обо что именно споткнулся.
«Десять империалов пропадают», – подумал Имант равнодушно, глядя на безымянного милиционера в форме, из-за которого так недавно чинил лагерную антенну, чтобы тогдашний кум свои Би-Би-Си мог слушать. Алеша все равно шел с закрытыми глазами, а снег все падал и падал, завалив беглого за считанные минуты. Но в эти минуты Имант вместе с придурковатым своим спутником уже спускался к реке, чтобы топать и топать по льду, пока на берегу скала не покажется, та, что в форме улиточьих рогов. Тувлаг, в котором прожил Имант больше четверти века, уже исчезал из его памяти, словно и в мыслях у радиста нынче тоже был снегопад.
3
Нет смысла гладить по голове, когда надо дать по жопе.
АРКАДИЙ ЛЬВОВ. ДВОР
Ноябрьские снежинки аккуратно, по одной, редко по две, садились на оконное стекло, быстро превращались в водяные капельки и стекали вниз. Павел глядел на них, нимало не жалея об ухудшении видимости: смотреть за окном было совершенно не на что. Противоположная сторона улицы уже несколько дней пустовала, синие гвардейцы перерезали как Староконюшенный, так и примыкавший к нему Мертвый переулок. Никакой милиционер более не маячил напротив, канадское посольство переехало, к тому же отношения с Канадой портились прямо на глазах из-за яростной дружбы, которую Россия по инициативе царской семьи затеяла с агрессивной Гренландской Империей. Кажется, гвардейцы опустошили дома в радиусе полуверсты, а дальше понаставили «жимолости», таманских солдат на каких-то огромных солдатовозах, огневых точек понатыкали, – словом, даже давешнего премьера-маразматика так не охраняли. При желании Павел теперь мог бы выходить из особняка и гулять под окнами. Но в такую погоду и в условиях полного безлюдья среди неродного города не было у Павла желания гулять никакого. Коронация была на носу, смерть нынешнего премьера Шелковников откладывал с огромным трудом, для него персонально шили несколько мундиров, и ни один не был дошит окончательно. Плохо сидел на нем мундир генсека, вообще-то он в Политбюро не хотел бы, но простоты и законности ради полагалось этих маразматиков уломать, убедить в неизбежности поворота к социалистической монархии. Не очень хотелось уходить из армии, но без этого чин канцлера не получишь, – Шелковников торжественно выходил в отставку в чине «генерал-фельдмаршал в отставке». Вот уже три мундира, а еще нужен мундир московского дворянства, специальный коронационный – короче говоря, не меньше дюжины. Седьмое ноября было упущено, все пришлось переносить на второй четверг, но Шелковников утешал себя тем, что праздники как были октябрьскими, так и будут именоваться… ну, ноябрьскими, вводить старый стиль, как и старую орфографию ни Шелковников, ни Павел Второй Романов не захотели: первое неудобно, второе неудобно, по-старому ни канцлер, ни император писать не умели. В районе Октябрьского поля, которое уже переименовали в Ноябрьское, были сооружены временные склады, битком забитые дорогой импортной рыбой, из которой бравый мулат в недалеком будущем собирался сварить суп для всенародного пированьица. Сам Павел пребывал пока что почти в прострации, занимаясь, как казалось ему, делами несущественными: не получив еще в руки все бразды управления страной, он пока что любое дело, из числа тех, что случалось делать, считал безделкой. Так вот и сейчас, холодным ноябрьским утром слушая монотонный голос незаменимого Сухоплещенко, на чьих плечах со вчерашнего дня сверкало по три коньячных звездочки, император откровенно скучал.
– Седьмыми в коронационной процессии проследуют выборные представители вашего императорского величества верноподданнейших сект!
«Сект – шампанское…» – подумал Павел и перевел глаза на потолок, расписанный очень противными амурами. Сейчас он изучал французский язык, оказывается, Казимировна на этом наречии бойко болтала, и Тоня занятия иностранными языками весьма одобряла, хотя не любила Казимировну, – но Белла Яновна перед Тоней за ту замолвила слово, старухи стали последнее время буквально не разлей вода. «Сект». До Павла дошло, наконец, настоящее значение слова, и он подал свой монарший голос.
– По названиям, полковник. И в чем сущность.
– Есть. Первыми проследуют делегаты скопцов-субботников, они с некоторых пор проявляют редкостную добрую волю к сотрудничеству, например, к коронации, как сообщили из их кругов, они приготовились подарить вашему величеству сто пудов восковых фруктов. Никаких неприятных намеков, ваше величество… Восковые фрукты, по их верованиям, символизируют будущее райское блаженство. Они полагают, что рай на земле должен установиться в ваше царствование.
– Пусть полагают… Положите фрукты в музей подарков. Дальше!
Музей подарков к коронации уже существовал – под него оборудовали какой-то из бывших больших павильонов нынешней Выставки Достижений Его Императорского Величества Народнопользуемого Хозяйства. Много там уже лежало неожиданных вещей, ну, пусть и восковые фрукты там полежат, авось, не выгниют.
– Вторыми среди сект проследуют тантра-баптисты. Люди мирные, всех-то у них верований, что Будда на самом деле Христос, ну, и наоборот, почитают ваше величество воплощением какого-то бодхисатвы… – Сухоплещенко помялся, женского начала.
– Прикажите им, чтобы почитали как бодхисатву мужского начала, и пусть идут. Дальше.
– Затем делегация курдов-езидов, у каждого в руках по живому павлину, хан Корягин осматривал, говорит, с точки зрения орнитозов все чисто. Мы проследим, чтобы со всех прочих сторон тоже было чисто.
– Да уж, проследите, чтоб не гадили, впереди поедут все-таки, а так пусть едут. Дальше!
– Русские мандеи. Ничего особенного, почитают Иоанна Крестителя Христом, ничего больше. В обычных костюмах, без атрибутов. Дальше – братцы-трезвенники, эти еще тише. Голубчики. Это следующие. Тоже тихие. Подгорновцы. Проверим, но как будто тоже. Жидовствующие. Этих две семьи на всю империю, остальные уже уехали.
– А эти что не едут?
– Визы пока не дают…
– Дать визу, пусть едут, потом могут вернуться как туристы и на коронацию посмотреть. Или на юбилей коронации. В общем, не нужно жидовствующих.
– Есть! Скакуны. Взял подписку, что скакать не будут, а так люди как люди. Ползуны. Взял подписку. Воздыханцы. Подписки не брал, пусть воздыхают. Никому не заметно. Мормоны.
– Это с гаремами? Откуда они в России?
– Это русские мормоны, без гаремов… Они как раз ждали вашего пришествия. Их очень мало.
– Сколько?
– Девять душ на империю…
– Всех включить! Как жалко, что без гаремов… Дальше!
– Есть! Дунькино упование.
– А?
– Мощная кавказская секта. Собственно, сама Дунька давно уже в могиле, была такая Евдокия Парфенова. Откололись от уклеинцев.
– А эти где?
– Давно перешли в блудоборы, ваше величество, и вымерли сами собой. Панияшковцы. Очень неудобная секта, ваше величество, осмелюсь обратить внимание.
– В чем дело? – задремывавший Павел мигом очнулся, как только Сухоплещенко зачитал справку о символе веры панияшковцев.
– …следует возможно дольше воздерживаться от пищи и питья, не умываться, не скидывать с себя грязного белья, не чесать голову, не мыть посуду, – с каменным лицом декламировал новоиспеченный полковник. – Целью жизни ставят изгнание беса из собственного тела, в чем родственны западноевропейским мельхиоритам. Согласно учению Алексея Гавришова, он же Панияшка, считается, что громкое испускание газов из желудка есть именно удаление беса из человеческого тела. После еды каждый панияшковец производит нескромный звук, потом плюет на пол, растирает плевок ногой и говорит: «Вот, прикорил проклятого беса!» То же самое они должны делать во время молитвы и после нее. Неисполнение этого требования влечет за собою бичевание… – Сухоплещенко сделал паузу и добавил убитым голосом, он не любил, когда что-либо срывалось. – Увы, дать подписку о неизгнании из себя бесов отказались.
«Это ж не продохнуть будет!» – Павел окончательно вышел из полудремы и гаркнул:
– Всех гнать в шею! Словом, полковник, хватит с сектами, довольно и этих, если других важных нет. Если есть – полагаюсь на вас, но за испорченный воздух и прочее дерьмо типа навоза ответите собственной шкурой!
– Есть! Тогда с сектами все. Восьмыми в процессии проследуют лица, члены КПРИ – полковник четко выговорил новое, еще официально не утвержденное сокращение от «Коммунистической Партии Российской Империи», – давшие партийные рекомендации вашему величеству. Это сотрудники ликероводочного… ликероконьячного магазина номер двести тридцать один города Екатериносвердловска.
– Дальше!
– Девятой имеет проследовать депутация екатериносвердловского обкома… Десятой проследует объединенная депутация брянского обкома и старогрешенского райкома… Одиннадцатыми проследуют представители особо родовитого дворянства…
«Наплодились», – подумал Павел и вспомнил свои не столь уж давние сомнения на тот счет, откуда взять дворянство. На поверку получалось, что дворянскими и боярскими родами на Руси просто пруд пруди, и большинство готово свое дворянское достоинство доказать документально. «Где вы были до пятьдесят третьего года?» – Тогда это бы очень много кого заинтересовало. Сухоплещенко между тем галопом несся дальше вдоль процессии.
– Затем проследует депутация вашего императорского величества законопослушнейших и верноподданнейших иудеев. Следующим номером значится лично обер-шенк вашего императорского величества, кок-адмирал кулинарной службы Аракелян. Затем, в силу обстоятельств, снова следует размещение группы из шестидесяти вооруженных лакеев. Затем проследует делегация вашего императорского величества верноподданнейших придворных палестинских арапов. За ними – ансамбль скрипачей вашего императорского величества Большого театра, ансамбль русских народных инструментов и прочие музыкальные роты, они проследуют с исполнением излюбленных маршей царствующего императорского дома. Программа музыкальной части здесь. – Сухоплещенко протянул что-то вроде ресторанного меню на глянцевой бумаге, но Павел догадался, что там опять одно сплошное «Прощание славянки», махнул рукой и смотреть не стал. – Далее предполагаются два коронационных обер-церемониймейстера с жезлами…
Номером тридцать вторым в процессии размещался, как выяснилось, обер-гофмаршал высочайшего двора, маршал от воздушной кавалерии, генеральный секретарь КПРИ Георгий Давыдович Шелковников. «Во званий нахапал! – подумал Павел, – это при живом-то генсеке уже генсек!» Ему представился Шелковников в ночном пеньюаре, разметавшийся на пуховой перине, изменяющий еще живому мужу с новым своим избранником, – и царя затошнило. Сухоплещенко быстро подал ему разрезанный лимон.
– …Затем следует эскадрон лейб-гвардии конного полка, следом же – ваше императорское величество на белом коне.
– Я? На коне? – искренне удивился Павел. – А нельзя без коня? Все люди как люди, а я, значит, на коне.
Сухоплещенко молчал, давая понять, что он, конечно, человек маленький, но императору на коронацию полагается в Кремль въезжать на коне, и уж непременно на белом.
– Канцлер, – Павел осекся, вспомнив, что этого звания пока Шелковникову решил не давать, пусть сперва из армии уйдет, – то есть, я сказать хотел, обер-гофмаршал Шелковников, он тоже на коне? – Теперь Шелковников примерещился Павлу все в той же пеньюарной оболочке, но верхом на владимирском тяжеловозе. Это было менее противно, но все так же странно.
Сухоплещенко смутился. Царь не хотел садиться на лошадь, но он, полковник, еще менее хотел садиться в галошу.
– Осмелюсь доложить, вес обер-гофмаршала не позволяет ему сесть на лошадь, предполагается, что его высокопревосходительство проследует на коронацию в открытом фаэтоне…
«Запряженном четверкой слонов», – докончил Павел про себя, удовлетворенно эту картину себе представляя. Зрелище получалось внушительное, но, увы, совершенно недопустимое на коронации.
– Фаэтоном вы называете открытый ЗИП?
– Разумеется, ваше величество, только ЗИП.
– Вот и мне ЗИП. И великий князь Никита Алексеевич тоже на лошадь наверняка садиться не захочет. Охрана ему не позволит. Вот и мне мои подданные, – Павел глянул на стену, за которой Тоня что-то шила на ручной машинке, – не разрешат. Быть по сему.
Сухоплещенко твердой рукой поставил на чем-то в своих записях косой крест. Он продолжал чтение порядка процессии, но Павел явно перестал его слушать, лишь на пункте сороковом, когда была упомянута «следующая в открытом фаэтоне распорядитель главной императорской квартиры, обер-церемониймейстер Антонина Барыкова-Штан», Павел как бы «поднял ухо», да и то ничего не сказал, а когда, под номером семидесятым, прозвучали долгожданные – ибо последние – слова «вашего императорского величества Таманская ордена князя Кантемира дивизия», царь уже перестал считать полковника предметом, реально существующим в его родном салоне-приемной с пальмой-латанией у окна. Сухоплещенко закрыл досье, встал и откланялся.
Неслышно вошла Тоня. Павел, не глядя, ухватил ее ногу и притянул к себе. «Поймал», – сказал он одними губами, но Тоня сверкнула глазами на одну дверь, потом на другую: обе были полуоткрыты.
– Посетители, Павлик. Просители. Примешь или как? Абдулла и Клюль их уже перещупали, оружия нет. На рентген отправлять?
«Должен, в конце концов, монарх иметь кроху смелости или не должен?» подумал Павел, а вслух сказал:
– Проси так. По одному. Много не приму – двоих, от силы троих. День занятой, и кушать хочется, Тонечка.
Тоня мигом испарилась на кухню. У нее тоже были заботы, причем свои. С тех пор, как очутилась она в нынешнем своем положении, слухи о ее повышении в обществе необъяснимым образом стали просачиваться в самые неожиданные, порою нежеланные места. Никаких родственников у Тони никогда не было, отец ее погиб в сорок третьем, а она, сиротинушка, родилась в сорок пятом: тут-то и были все корни нелюбви к ней со стороны старших братьев. Теперь, по распоряжению канцелярии, ведавшей кадрами, – в ней хозяйничал неприятный пухлый человечек со старинной боярской фамилией Половецкий, – оба брата были объявлены к всеимперскому розыску. Старший, Владимир, скоро был пойман в родном Ростове Великом, привезен в Москву, закован в железа, помещен в изолятор, в Лефортово; средний, Дмитрий, разыскан, напротив, не был вовсе, вообще пропал начисто, но тем не менее был заочно тоже приговорен к чему-то столь же неприятному. Сестра Тони нашлась сама, очень рвалась к Тоне в Москву, но Тоня помнила, сколько она от этой гадины в детстве натерпелась и чего наслушалась. Тоня приказала ни под каким видом сестру в Москву не допускать, переоформить документы о ее рождении так, чтобы она уж точно падалицей подзаборной, а не дочерью родного отца получилась. Еще Тоня злобно послала сестре двадцать рублей.
Под сердцем у Тони уже третий месяц билась новая жизнь, и Тоне стоило немалых усилий скрыть этот факт и от Павла, и от прочего окружения: беременность есть беременность. Скрыть это явление невозможно оказалось лишь от наметанного на такие вещи взора Яновны, но та, когда было нужно, умела молчать как могила; даже неразлучной Казимировне, вместе с которой не меньше стопки опрокидывала ежедневно, сказала бы Яновна про что угодно, даже про собственную беременность – но не про Тонькину. А чтобы не проболтаться, на всякий случай открыла она Казимировне тайну-другую из числа тех, что выдавали советским властям с потрохами ее зятя-испанца, бывшего, как следовало из прямых и косвенных улик, доверенным лицом сразу трех разведок. Донос явно подействовал, зять-испанец через неделю получил прибавку к пенсии и орден «Знак Почета».
Тоня полезла в морозильную камеру за осетриной, подумав уже который с утра раз, что скоро отсюда уезжать, что тесно тут. Мысль эта сверлила ее голову десятки раз на дню, Тонька знала, что Павел твердо решил жить в Кремле, хотя там и нет пристойного помещения для жизни; знала, что на коронации будет присутствовать гражданская жена Павла, Екатерина, но царь велел в один автомобиль с ней – напоказ всей России – посадить шпиона Рому, того самого. Тоня уже не припоминала, было ли у нее самой с этим Ромой что-нибудь, или не было, какая, в общем-то разница. Само собою, венчаться на царство будет пока что один Павел, без императрицы: по разработанному плану первую часть венчания проводило Политбюро, вторую – коллегия митрополитов во главе с митрополитом Опоньским и Китежским Фотием. С патриаршим престолом отношения у новой власти определенно не складывались: всего и был-то на Руси какой-то десяток патриархов, а как помер в тысяча семисотом Адриан, только тем и занимавшийся, что мешал государю Петру Великому, то государь это лишнее мероприятие, то бишь патриаршество, для России упразднил. Стефан Яворский потом походил-походил в местоблюстителях, но и он так себе оказался. Тогда устроил государь Петр Алексеевич, прямой предок Павлиньки, Святейший Синод, и двести лет всем хорошо было. В общем, пока что все эти вопросы решили не поднимать, но Павел ясно дал знать, что Старшие Романовы никакого патриархата-матриархата при себе держать не будут. Пусть будет Синод, или там Митрополитбюро, как им название лучше глянется, но никакой советской власти у церкви не будет, хватит того, что патриарх есть в Константинополе.
Тоня прекрасно знала, что всю эту свару с церковниками пришлось затевать из-за нее, из-за Тони. Павел объявил, что хочет жениться на ней, и только на ней, и ломает голову над тем, как это сделать без глупых скандалов с заточениями прежних жен в монастыри, или, еще хуже, с гражданским разводом, и так далее, и чем далее, тем позорнее. Похоже было, что дожидается император от Кати «доброй воли», иначе говоря, чтобы она сама развода попросила. Но Катя, видимо, сама ничего понять не могла, с Павлом не виделась, вот и приходилось временно терпеть ее в качестве… как это? – фатаморганной? – нет, не так… во! – маргинальной жены Павлиньки. Места в Тониных мыслях Катя не занимала почти никакого, думалось ей только о себе и о будущем ребенке, для которого она хотела нормального человеческого счастья, обыкновенной жизни, а совсем не борьбы за власть.
Видела она тут старшего сына Павла, Ванечку. Пришла в ужас от того, что этот придурок может оказаться врагом ее будущему сыну. Видела она и кошмарного племянника Гелия. Хотелось ей взять Павлиньку в охапку и убежать в темный лес, чтоб не нашел никто. Ни к чему были ей все эти фокусы с престолонаследованием: про него только и разговоров в последнее время, даром, что императора еще и не короновали, и лет ему, слава Богу, немного – а уже только и трепа, что насчет того, кто следующий. Даже Клюль, и тот уже анекдоты про чукчей травить не хочет, а все насчет престолонаследия. Вот ведь жизнь у заложницы… тьфу, наложницы русского царя! – думала Тоня, отбирая звенья осетрины. По многим признакам Тоня знала, что будет у нее мальчик. Если отказаться от престола для него, так Павел и ей голову оторвет, и сына отнимет. А если не отказываться, так другие царевичи подрастут и как пить дать маленького изведут. Делать-то тебе чего, Тоня, коза ты недоенная, дурища?
Неуютные мысли наползали одна на другую, и почему-то все время вставало в памяти видение татарского лица, лица той самой женщины, которая без спросу пришла в особняк, когда про смерть Юры Сапрыкина стало известно и Павлику все никак не давали нормально поужинать. Женщину ту Сухоплещенко сразу тогда поселил на какую-то дачу вместе с ее ручной свиньей. Ничего про эту женщину точно известно не было, но Сухоплещенко навел справки и объявил, что, по имеющимся сведениям, ее беречь надо на будущее. Свинью или женщину – никто не понял, но с Сухоплещенко по мелочам не спорили, решил он кого-то «задачить», а не «держать особняком» – ну, так тому и быть, ему виднее, кондитеру начинку не диктуют. Только почему все время вспоминалось лицо татарки Тоне, стоило ей хоть чуть-чуть отвлечься от многочисленных забот по хозяйству? Впрочем, лицо так же быстро исчезало. Ничего плохого в этом Тоня не чуяла, и никому об этом не рассказывала.
Павел получил, наконец, вожделенную осетрину, сжевал ее с тем самым лимоном, который ему Сухоплещенко от тошноты сунул, и решил, что можно принять сколько-нибудь посетителей. Никого из непосвященных к императору не допускали, но порой приходили люди с просьбами столь фантастическими, что Павел от ворот поворот велел давать не всем, а только скучным. Дежуривший нынче по аудиенциям Половецкий знал, что первым лучше запускать к царю такого посетителя, которому он не откажет. Милада дождался, чтобы царь откушал, чтобы гостиную очистили посторонние натуралки, и очень церемонным тоном доложил:
– Военно-вдовьего звания, Российской Советской Социалистической Империи гражданка, госпожа Булдышева Маргарита Степановна!




![Книга Софья Палеолог [с переделанными заголовками] автора Юний Горбунов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)