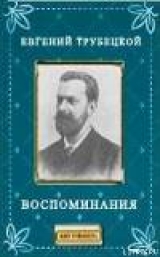
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Евгений Трубецкой
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
С первых же слов нам стало ясно, что директор заподозрил в этом столкновении «политическую подкладку». Он объявил нам, что обо всем этом случае он «доложит педагогическому совету». Мы с трудом удерживали улыбку, зная, что «педагогический совет» сводится к воле директора. К счастью нашему инцидент совпал с «диктатурою сердца» Лорис-Меликова и с управлением либерального министра А. А. Сабурова в нашем министерстве. Директор счел нужным показать «гуманное обращение».
На другой день к великой нашей радости урок физики был отменен. Директор объявил: «Совет всем вам сбавил по баллу за поведение» и начал длинное увещание не верить тому, что пишут газеты: «ведь это же», говорил он, «чисто денежная спекуляция, рассчитанная на легковерие молодежи. Вот вы, теперь на школьной скамье, какого требуете себе почтения, как щепетильны насчет вежливого с вами обращения. А кончите курс, поступите на службу, какими будете почтительными чиновниками». Потом он взял тон сердечного о нас попечения. Так прошел час; мы молчали, не зная, чего он от нас хочет. Вдруг кто-то догадался. Раздался голос: «Благодарим Вас, Петр Сергеевич». [40] Директор просиял и сказал, что он со своей стороны «будет ходатайствовать перед Советом о смягчении нам кары». С этими словами он выбежал из класса и ровно через пять минуть вернулся с известием: «Совет решил не сбавлять вам балла за поведение». Мы опять благодарили; и когда он ушел, последовал единодушный взрыв веселого настроения по поводу внезапного изменения настроения совета.
Особенно остро с полицейской точки зрения стоял вопрос о русских сочинениях. Русское сочинение гимназиста в то время было пробным камнем благонадежности не только для, него самого, но и для его учителя. Не у нас в гимназии, а в округе, по словам учителей, неоднократно повторялись случаи увольнения или перевода учителя за признак «вольного духа» в сочинениях его учеников. Опасность была велика, в особенности в виду неопределенности таких понятий, как «вольный дух» и «благонадежность». Помнится, в это самое время калужский директор народных училищ нашел в одной школе раскрашенные картины с изображением зверей и на этом основании заподозрил учителя в «дарвинизме». Неудивительно, что учителя относились к нашим сочинениям с некоторым трепетом! Гимназисты, любившие щеголять ученостью, охотно ссылались на Бокля, Спенсера и иных более или менее заподозренных писателей. Они не решались ссылаться на Добролюбова и Писарева, которые были запрещены цензурою, из опасения, что за это можно вылетать из гимназии. Еще опаснее цитат были «мысли». И вот, учителя жили в вечном опасении, что приедет окружной инспектор, потребует ученические тетрадки на прочтение и взыщет за «мысли» не с авторов, а с их наставников. Мы – гимназисты – прекрасно это понимали и издевались над нелюбимыми учителями.
Как раз после удаления любимого всеми [41] Яковлева, преподавание русского языка перешло в руки неспособному, неумному и вдобавок несимпатичному преподавателю из семинаров, А. Н. Троицкому, который раздражал нас тем, что задавал темы, частью прописные, вроде «Не все то золото, что блестит», частью глупые (»Был ли Гомер слеп»? и «Почему греки представляли его слепым»?), частью фарисейские, напр. «О вреде готовых переводов при приготовлении уроков по древним языкам». Особенно возмутила нас последняя тема, вынуждавшая кривить душой. Между нами почти не было таких, которые бы не воспользовались готовым переводом при возможности это сделать. Я пробовал объясниться с учителем, но только вызвал этим резкости с его стороны. Тогда я и некоторые другие товарищи стали мстить и издеваться. Одни задавались вопросом, как можно решить, был ли Гомер слеп, когда неизвестно, существовал ли он в действительности. Другие по вопросу о готовых переводах доказывали, что они «вредны для глаз», так как обыкновенно напечатаны мелким шрифтом, третьи, и я в том числе, работая на тему «не ропщите», доказывали, что ропот полезен, ибо он служить «фактором прогресса». Для вразумления я ссылался на Сабурова и Лорис-Меликова, которые дают простор «свободному выражению общественного мнения».
Учитель не на шутку испугался. Когда пришло время раздавать сочинения и разбирать их – мое сочинение не было выдано мне обратно. Я был очень разочарован, т. к. ждал разбора, как случая поглумиться, На мой вопрос, где сочинение, я получил ответ: «спросите директора». До этого дело не дошло, потому что сам директор вызвал меня в свой кабинет и распушил, как следует. Как умный человек, он, впрочем, понял, в чем дело. Но в последующее время он опасался моих выходок. Перед экзаменом зрелости он специально прислал мне сказать, чтобы я ничего «эдакого» в [42] сочинении не писал, а то попадет мне за это в округе. А по окончании экзамена, когда мы с братом уже студентами были у директора с визитом, он разоткровенничался. – «Вот вам ваше сочинение на память. А Сабуров-то, Сабуров то ваш в отставку вылетел. Признайтесь, пустой был человек. Вот, Александр Николаевич Троицкий, когда вы, бывало, напишете такое сочинение, прибежит ко мне расстроенный и спрашивает: «что мне делать? Что мне теперь делать?» А я ему в ответ: «отдайте его мне». – Ну вот, получите Ваше произведение обратно.
Надо сказать, что в эпоху Сабурова и Лорис-Меликова задача нашей школьной администрации была специально трудная. Она не могла поверить, что «критерии благонадежности» для оценки учителей и учеников больше не существует, но чувствовала, что этот критерий в чем-то изменился. Как, в каком направлении, на долго ли, – все это было неясно, и гимназическое начальство в тревоге заметалось. Ранее того, при Толстом, все было просто и ясно. Латинская грамматика, например, признавалась предметом «благонадежным». Один из классных наставников Калужской гимназии в исполнение возложенной на него по должности обязанности – составлять характеристики своих учеников. писал между прочим: «ученик VII-го класса Л. держится либерального образа мыслей, что видно из того, что он явно пренебрегает латинской грамматикой». И вдруг, при Сабурове начальство стало требовать, чтобы при чтении классиков обращали внимание более на смысл, чем на букву. Тут было отчего растеряться бедному учителю, тем более, что будущее было неясно. Вот теперь при Сабуровe – либеральное направление. А что будет дальше при следующем министре? Поблагодарит ли он нас, если мы теперь запустим грамматику? Для среднего, рутинного педагога отставка Сабурова была большим облегчением. Но окончательно успокоился он только [43] по назначении в министры Делянова. Тогда всем стало ясно, что теперь – «все пойдет по старому».
V. Нигилистический период. Калуга в семидесятых годах.
Фальшь толстовской гимназии давала себя определенно чувствовать в Калуге, как и в Москве. И чем лучше были отдельные лица из педагогического персонала, с которыми мы соприкасались, тем яснее становилось для нас учеников старших классов – зло той системы, которой должны были так или иначе подчиняться даже лучшие лица. Ее полицейский дух, которому приносились в жертву интересы преподавания, был для нас совершенно очевиден. Такой факт, как увольнение лучшего преподавателя – Яковлева – именно за то, что он был живой человек, а не чиновник, не мог не произвести на нас сильного впечатления. Да что говорить об отдельном учителе, когда в то время вся русская литература была под подозрением. С одной стороны, изучение этой литературы доводилось только до Гоголя! Даже на изучение Лермонтова при восьмилетнем гимназическом курсе не хватало времени. А с другой стороны, целая уйма времени убивалась на совершенно бесплодное и бессмысленное чтение классиков. Почему и зачем? В VII-м и VIII-м классе мы были убеждены, что это делалось нарочно, чтобы отвлечь нас от окружающей жизни, от политики, от модных в то время естественных наук. Мы видели ясно, что не сами по себе классики дороги высшему начальству, что они в его руках – только орудие полицейских целей.
Нужно ли удивляться, что при этих условиях от нас ускользнуло и то доброе, что было в классицизме? Мы относились к нему огульно [44] отрицательно; мы перенесли на него все то недоверие и ненависть, который внушала нам толстовская система.
Презрение к гимназии, господствовавшее среди наиболее развитых учеников, поддерживалось фактами, повседневно наблюдаемыми. Прежде всего, нас не мог не поразить необыкновенно низкий уровень развития первых учеников гимназии – тех, что попадали на «золотую доску». Многие из них были круглыми невеждами: при умении безукоризненно правильно писать mensam по-латыни и по-гречески, они часто не имели понятия о Лермонтове, Тургеневе, Гончарове, не говоря уже о Толстом и Достоевском: встречались между ними совершенные тупицы, которые и о Пушкине, и о Гоголе имели понятие лишь в пределах требований гимназического курса. Нас не мог не поразить тот факт, что. переходя из гимназии в университет, товарищи наши подвергались полной переоценке: первые оказывались последними, а последние первыми. Окончившие с золотою медалью гимназию к величайшему своему изумлению потом проваливались на университетских экзаменах и горько жаловались на «несправедливость профессора».
Все это не могло не укрепить нас в убеждении, что гимназическое учение – бесплодное толчение воды, что преподается нам наука неподлинная, ненастоящая, и что истинное знание есть именно то, которое в гимназии или не преподается вовсе или является в ней запретным плодом. Результаты толстовской гимназии были прямо противоположны тем, коих она добивалась. Если бы естественные науки не подвергались гонению в средней школе, они, разумеется, не пользовались бы там и малой долей той популярности, какою они пользовались.
Будучи гимназистами VI-ro класса, мы были убеждены, что истинная наука – только естествознание.
Разумеется, тут происходило полное смешение положительной науки с философией; мыслящие ученики старших классов гимназии думали, что только путем [45] изучения естественных наук можно составить ceбе научное миросозерцание.
Помню, как мы с братом увлекались попыткой Бокля преобразовать историю путем внесения в нее методов естественнонаучного исследования. Мы зачитывались Дарвином и Спенсером, пытались ознакомиться с анатомией человеческого тела по купленному братом анатомическому атласу. Помнится, моя мать, с тревогою следившая за нашими умствованиями, внушала нам мысль, что нехорошо жить одним умом, надо жить больше сердцем, на что мой брат отвечал: «что такое сердце, мама: это полый мускул, разгоняющий кровь вниз и вверх по телу».
Предшествовавшее нам поколение увлекалось материализмом Бюхнера, а из отечественных «авторитетов» зачитывалось запрещенными в то время произведениями Добролюбова и Писарева. Я застал только остатки этого увлечения, коего ни я, ни брат мой совершенно не переживали. В то время вульгарный материализм был вытеснен позитивизмом Конта и Милля, с которыми мы познакомились по изложению Милля и Льюиса уже в VI-м классе. Но различие это было в сущности шатко. Помнится, я с одной стороны усвоил себе Кантовское учение о непознаваемой «сущности вещей», а с другой стороны увлекался учением Спенсера, у которого «позитивизм» совмещался с полуматериалистическим учением о сущности существующего и, в частности, с материалистическим учением о превращении физической энергии в мысль. В VI классе мальчиками пятнадцати-шестнадцати лет мы определенно исповедовали позитивизм спенсеровского типа.
Это был, разумеется, полный разрыв со всем, что считалось у нас «казенщиной» и, стало быть, не с одной только гимназической наукой. Гимназия подготовила этот кризис, воспитав в нас систематически недоверие ко всему, что преподавалось нам с малолетства. Ее пустая [46] отвлеченность, обрекавшая мысль на полную бессодержательность, и в особенности ее полицейский дух подготовили почву для этого «нигилистического» настроения. Но, одной гимназией его, разумеется, объяснить нельзя. В эпидемическом безверии тогдашней мыслящей молодежи отражалось действие не только общерусских, но, и общемировых причин.
Помнится, первые сомнения в вере возникли у меня очень рано, уже четырнадцати лет, под влиянием чтения Белинского, коим, я увлекался уже в V-м классе гимназии. В ту пору сомнения меня волновали особенно в бессонные ночи, когда мысль о том, что нет Бога, повергала меня, в трепет и заставляла дрожать в моей постели. Потом уже в VI классе, когда я напал на Бокля, Милля, Спенсера, переход к безверию совершился, внезапно и в ту минуту, казалось, необыкновенно, легко. Разумеется, эта кажущаяся легкость объясняется тем, что болезненные ощущения были испытаны гораздо раньше, и на самом деле вера была подточена уже давно! Помнится, в последнюю минуту особенно сильное впечатление произвел на меня, тон увлекавших меня писателей, которые рассматривали религию, как что-то давно поконченное, близкое к суеверию или как пережиток отсталого способа мышления «теологического периода».
Боязнь «быть отсталым» и преувеличенное преклонение перед «последним словом науки» вообще характерное свойство очень юных некритических умов. Под этой маской скрывается, в действительности, рабская зависимость молодого ума от того авторитета, чье слово признается «последним». В мое время юный студент, писавший реферат о Конте, обрушивался против своего оппонента и взывал к профессору: «господин профессор, уймите этого господина, что он против Конта мне говорит». А будучи уже профессором, когда мне приходилось на семинариях возражать против высшего в то время студенческого авторитета Карла Маркса, мне [47] приходилось встречаться с юными первокурсниками, которые со снисходительной улыбкой замечали: «ведь Маркс, г. профессор, последнее слово науки». «Почему вы знаете, что не предпоследнее», спрашивал я обыкновенно в этих случаях.
В юном возрасте, сколько я замечал, этот последний довод сильно действует. Кто пережил не одно, а хотя бы два-три «последних слова», для того уже нет незыблемых авторитетов: он утрачивает веру в «последние слова» вообще и начинает оценивать человеческие мысли по существу, независимо от того хронологического порядка, в каком они были высказаны. Для меня и брата моего Сергея эта грань наступила очень рано, еще в гимназии, когда мы принялись за серьезное изучение философии и в особенности – истории философии.
Собственно позитивный период наш продолжался только в VI-м и лишь частью в VII-м классе, где мы окончательно в нем разочаровались. Но об этом я расскажу в дальнейшем. Необходимо сначала остановиться на обстановке, в которой происходило все это философствование. Я сохранил весьма благодарное воспоминание о Калуге, где мне пришлось провести мои юные годы – четыре года в гимназии и каникулярные месяцы за все университетские годы. Это один из небольших, но за то один из самых очаровательных русских губернских городов, какие я знаю. Трудно себе представить более подходящее место для спокойной, сосредоточенной умственной работы. В Москве уже в отроческие годы в наш умственный мир врывалась пестрая масса внешних впечатлений и были среди этих внешних впечатлений такие, которые оплодотворяли и окрыляли душу, например, музыкальные восприятия, о которых я уже говорил. Но зато в московской жизни было чрезвычайно много такого, что рассеивало ум; там куда труднее сосредоточивать свои мысли. Из калужской гимназии мы, оба брата, вышли с [48] продуманным, вполне определенным миросозерцанием. В главном и основном оно с тех пор не менялось. Я сильно сомневаюсь, чтобы в Москве этот процесс самоопределения мысли мог завершиться так быстро.
При обилии московских развлечений трудно было бы найти, время и для тех значительных познаний по истории философии, которые мы приобрели а Калуге за гимназические годы. В Калуге все располагало ко внутренней работе мысли: с одной стороны – скудость внешних развлечений жизни городской, а с другой стороны, те дивные красоты русской природы, которыми мы были окружены.
Калуга – город настолько маленький, что в ней есть места, откуда деревня видна со всех четырех концов. Плохенький театр, в котором мы почти не бывали, потому что после Московского Малого театра чувствовали, насколько в нем неважно играют, – вот почти все, что давал этот город по части «художественных наслаждений». Раза три за наше пребывание приезжал концертировать Рубинштейн – по приглашению моего отца, с которым он был дружен. Редко, редко, тоже по приглашению отца, приезжали давать концерты профессора Московской Консерваторш, – Гржимали, Пабст, Фитценгаген. Приезды эти были для нас сущими праздниками и оставляли впечатление тем более глубокое, что они были редки. Зато в остальное будничное время умственная жизнь должна была питаться изнутри, а не извне. Тут не было выбора: или самоуглубление, полный уход из окружающего миpa в мысль, или мертвящая скука, от которой деваться некуда.
В таком маленьком городе знаешь почти всякого жителя, почти всякого прохожего на улице; знаешь кого, где и в какой час встретишь и кто что скажет.
Дни тянутся серой, однообразной чередой, почти не отличаясь друг от друга. Поэтому на [49] расстоянии многих лет отдельные годы как-то сливаются в одну серую неразличимую массу, так что порой трудно бывает вспомнить, что случилось раньше и что позже: точная хронология возможна лишь по отношению к сравнительно немногим ярким событиям внешней и в особенности внутренней жизни.
Есть в провинции лица, которые как бы всем существом своим олицетворяют этот беспросветный серый фон губернской жизни. Вот, например, старичок Владимир Степанович, наш друг, часто посещавший нас по вечерам, от которого так и веет добротой и скукой. Для меня он остается на всю жизнь классическим образцом жизни без событий. Весь разговор его либо осуждение настоящего с его нигилизмом, дарвинизмом и прочими «измами», либо напряженная, с трудом дающаяся попытка вспомнить прошлое, в котором вспомнить нечего. Рассказывает он, например, без конца, как однажды у него в горле першило: «случается эдак, иногда в горле чешется и от этого кашель бывает. – Позвольте, в каком это было году – в семидесятом, нет, виноват, в шестьдесят девятом», – старик начинает старательно припоминать, в котором именно году по пути в Калугу его продул ветер, и у него стало першить в горле. Молодежь, его слушая, бывало, кусает губы, чтобы не расхохотаться, и начинает самый изводящий для него разговор о Дарвине. «А вот, Владимир Степанович, Дарвин то говорит, что кот произошел от медведя». Владимир Степанович оживляется, начинает поносить Дарвина, вскакивает и бегает по комнате, комически подражая плавательным движениям белого медведя, чтобы доказать всю невозможность превращена медведя в кота. А мы погашаемся и дразнении ради пугаем старика нашими познаниями в области учения «о происхождении человека от обезьяны». Владимир Степанович начинает раздражаться, но через день-другой опять [50] заходит вечером, чтобы опять начать разговор о том, что было в семидесятом, нет, позвольте, в семьдесят первом году, а мы опять шпигуем его Дарвином. При всем том мы любим старика и чувствуем, что он также нас любит.
Поразительная черта, общая большинству наших калужских старых друзей, это – отсутствие настоящего и связанная с этим наклонность жить в прошлом. В прошлом жила посещавшая нас старая дева Софья Семеновна, которая мечтала о тех днях, когда она была молода, красива и выезжала один год в Петербурге в свет, чтобы потом на всю жизнь окунуться в беспредельную скуку провинции с неудовлетворенной мечтой о любви и счастьи. «Сорок пять лет огонь неугасимый горит в груди», говорила она о себе. «Да, вам, мужчинам. хорошо, оттого что сам Бог был мужчина». Когда, однажды, кто то во время великого поста вспомнил при ней известную великопостную молитву: «дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми», Софья Семеновна вдруг вскипела: «ах, не напоминайте мне про целомудрие, сорок пять лет этим страдаю». И вокруг Софьи Семеновны все напоминало о каком-то широком размахе жизни в прошлом. Жила она в старинном барском доме, где был великолепный зал с хорами для музыки – остаток той крепостной эпохи, когда дворянство в Калуге задавало пиры и балы. В этом великолепном доме Софья Семеновна коротала дни с разорившимся стариком-отцом и с необыкновенно глупой теткой, которую она стихийно ненавидела.
Прошлым жил и стареющий седой красавец Тургеневского типа, Николай Сергеевич, когда-то блестящей кавалер и сердцеед, либерал сороковых годов с воспоминанием о том, кажется, единственном моменте в его жизни, когда он в качестве петрашевца «пострадал за убеждения», был приговорен к смертной казни, но помилован и [51] отдан в солдаты, после чего выслужил Георгия и получил полное прощение. Помню девяностолетнего старика Семена Яковлевича, олицетворенное воспоминание о двенадцатом и четырнадцатом годе, о походе в Париж и об Александре Первом.
Помню двух древних старух, к коим нас посылали дважды в год с визитами на Рождество и Пасху. Oни тоже «вспоминали» про двенадцатый год, явно путая лица и поколения: «Помните ли вы, мой дорогой, как мы с вами в двенадцатом году от французов в телеге спасались», говорила старуха посетителю на Новый Год. – «Извините, Вы смешиваете» – отвечал он, – «это было с моим дедом!» Калуга в мои юные годы была каким то живым архивом, точнее говоря, собранием людей, сданных в архив. Центром воспоминаний этих людей было ушедшее, канувшее в вечность довольство барско-дворянской жизни.
Теперь уже почти нет в Калуге этих вспоминающих людей, живущих блестящим дворянским прошлым. О былом говорят уже не люди, а только камни и стены – уютные дома в прекрасном стиле Empire, с хорами, колоннами и чудно раскрашенными потолками. Не знаю, все ли эти красоты уцелели после пронесшегося над Калугой вихря революции. К счастью, лучшее из художественных красот калужских домов было увековечено журналом «Старые годы». Мне же пришлось застать в Калуге кое-какие остатки той эпохи, когда стены еще гармонировали с лицами. В дополнение к сказанному об этой эпохе вспоминаю, что у нас был исключительно старомодный губернатор. Испуганный «духом времени», он в каждой мысли подозревал тот «дух критики, который ведет к нигилизму и социализму». Всего нового он боялся, как огня. Даже в произведениях Чайковского, в частности о «Франческо да Римини», он при мне однажды воскликнул: «да это – нигилизм в музыке». [52] Был у нас и архиерей, каких теперь нет – подвижник-монах святой жизни человек совершенно древний по воззрениям. Однажды архимандрит, читавший публичную лекцию о религии, подверг ее цензуре владыки. Когда дошли до фразы – «а без религии человек – скотина», владыка сказал коротко и ясно: «еще хуже скотины».
Раньше в детстве мне приходилось сталкиваться со стариною в Москве. Но в Москве рядом с этим чувствовалось могучее биение пульса недавно народившейся новой жизни. Такого сгущенного впечатления старины, замороженной и консервированной, как в Калуге, я в Москве никогда не испытывал. Нельзя сказать, чтобы и в Калуге эта старина была нетронута современностью. Нет, она была не только тронута, но сломлена и разбита жизнью. Но это были не мертвые обломки старины, а живописные развалины, которые еще жили в лицах.
Был еще в Калуге в то время один последний остаток старого размаха старинной барской жизни. За городом, в соседстве с чудной Лавреньевской рощей из вековых сосен стоит очаровательная усадьба Empire «Железники», где жила тогда старушка Делянова с двумя девицами – дочерьми, радушно принимавшая весь город и устраивавшая в своем живописном доме любительские спектакли и балы, причем на хорах ее зала действительно гремела военная музыка. У меня от этих вечеров осталось воспоминание о безмятежно весело проведенных часах, о танцах до поздней ночи и о возвращении домой после ужина уже утром в санях, на тройках, под радостный звук бубенчиков!
В общем же от калужской окружающей жизни у меня осталось впечатление не живого действия, а какого-то сна, частью приятного и благодушного, но подчас томительно скучного. Скукой были пропитаны насквозь в особенности места общественных увеселений – городской бульвар и загородный сад. [53] Сами по себе оба эти места были прелестны – как бульвар с террасой и очаровательным видом на Оку, так и загородный сад с его вековыми елями, расположенный на высоких холмах, откуда открывался вид еще более широкий, с рекой Ячейкой и дивным сосновым бором. Скуку наводила не эта родная и бесконечно милая природа, а гуляющая публика, являвшаяся в нарядах «на музыку» и чинно маршировавшая под звуки бесконечно надоевшего марша: за десять лет моего пребывания в Калуге никогда, не меняли этот марш, исполнявшийся жиденьким струнным оркестром. Почти не менялись и номера «блестящего фейерверка», который сжигался в конце: римские свечи назывались почему-то «дамский каприз или мемфеферы». За «капризом» следовал «огненный рыцарь или орлеанская дева». Иногда летел нагретый спиртом аэростат со слоном. Дама притворно-наивно спрашивала у устроителя, настоящий ли будет слон, и получала ответ: «нет-с, но очень похож-с». Иногда же, когда публика выражала неудовольствие, в афише следующего гулянья объявлялось: «все будет представлено в наилучшем виде, чтобы оправдаться перед почтеннейшей публикой, а также господ пиротехников».
И лица, посещавшие эти гулянья, были всегда одни и те же: одна и та же влюбленная парочка; одна и та же гимназистка, которая, проходя мимо меня, бросала короткую фразу: «парле, же ву зем», обиженный прежний антрепренер гуляний, собирающий клику гимназистов, чтобы освистать нового антрепренера, и наконец – офицер, целый вечер пьющий ягодные воды, ухаживая за продавщицей, все это в конце концов настолько придается от повторения из года в год, что перестает смешить и развлекать. Все вместе взятое, публика, марш, фейерверк – сливается в впечатление бесконечной пустоты, щемящей душу тоски, от которой деться некуда. И, однако, когда устанешь от занятий, волей не волей пойдешь на [54] бульвар или в сад – искать человеческого общества и встречаешь там почти всех гимназических товарищей, которые появлялись там в xopoшие весенние, летние и осенние дни. Бульвар в провинции является, в особенности весною, настоящим местом духовного общения учащихся, в особенности старших возрастов. И это до некоторой степени скрашивает его скуку, особенно в будни, когда нет гуляний. Во время экзаменов на бульвар идут вечером узнавать, кто выдержал и кто провалился на письменном экзамене, в полной уверенности, что там точно все известно; на бульваре каждый узнает последнюю интересующую его городскую сплетню, в частности сплетню, касающуюся гимназических учителей и начальства. Но зато на бульваре же завязываются и «умные разговоры» между гимназистами. Там поднимаются все вопросы миросозерцания; там решается вопрос, – есть ли Бог; там рассуждают и о том, есть ли цели в жизни и для чего нужно жить. Один говорит – для искусства, другой, прочитавший «утилитаризм» Милля, говорит – «для счастья». Завязывается оживленный спор на эту тему между шестиклассниками. Вдруг раздается рядом протяжный зевок восьмиклассника Василия Ивановича, -нигилиста, который называет себя «человеком Базаровского типа» и пользуется большим авторитетом среди товарищей. «Ну, опять о целях заговорили». И Василий Иванович, грузно поднявшись, уходит. А шестиклассники сконфуженно умолкают: они почувствовали, что разговор «о целях жизни» доказывает большую отсталость.
Разговор этот у нас имел целую историю. Собираясь на бульваре, гимназисты трех старших классов вздумали издавать журнал «Гимназист», который вышел всего в двух нумерах и затем остановился за недостатком содержания, потому что «писатели» в одной – двух маленьких статьях успели высказать все, что надумали, кто чем был [55] умен. Помню в этом журнале особенно две характерные статьи: одну -фельетон, где автор жаловался, что кругом царит «какой то застой общественной жизни»; другую – Василия Ивановича о том, что вопрос «о целях» – пустой разговор. Нелепо спрашивать, для чего я живу, говорил он, – уместно спрашивать только, почему я живу. Живу я потому, что моему папеньке захотелось побаловаться с моей маменькой и, взаимно услаждаясь, они и не думали обо мне. Стало быть вопрос «для чего» я родился – явно нелеп и не заслуживает внимания.
Василий Иванович был старше меня годами и двумя классами. Он получал французский журнал Revue philosophique и был в восьмом классе начитаннее, чем я в VI-ом. Поэтому он был для меня большим авторитетом. «Умные разговоры» с ним меня занимали, волновали, раззадоривали мое юношеское самолюбие. Встречи с Василием Ивановичем были одним из тех привлечений, которые заставляли меня ходить на бульвар. Но продолжалось это всего один год. Василий Иванович кончил гимназию и поступил в университет, а я перешел в VII класс, где начал серьезно заниматься историей философии и перерос нигилизм настолько, что разговоры Василия Ивановича «о целях» стали казаться мне детскими. Я очень скоро окончательно ушел из сферы его влияния.
Все это вместе взятое – и гимназия, с ее ненавистной «казенщиной», и «бывшие люди», живущие воспоминаниями, и бульвар, и наивные юношеские разговоры, и навеянный всею окружающей обстановкой нигилизм – оставляло в душе ощущение глубокого неудовлетворения. Куда уйти от этого давящего чувства пустоты? Только во внутрь, только в мир мысли. [56]






