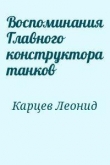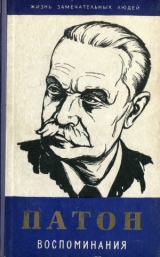
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Евгений Патон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Под впечатлением письма я невольно стал вспоминать историю каждого из этих мостов. Над проектами двух шоссейных мостов через Зушу и проектом Петинского путепровода в Харькове вместе со мной работал Петр Яковлевич Каменцев. Теперь он уже покинул стены училища и в содружестве с нашим общим учителем Проскуряковым создавал два арочных моста для Московской окружной железной дороги – Николаевский и Сергиевский. Я подумал, что пройдет еще несколько лет, и Каменцев сам, наверное, станет профессором и, быть может, заменит меня на московской кафедре… Эти предположения со временем сбылись полностью, а через сорок четыре года я получил в подарок два тома научного труда профессора А. И. Отрешко «Строительные конструкции». Автор книги был учеником Каменцева и писал о том, что рад посильно продолжать большое дело, которым занимался еще учитель его учителя.
Соавтором в моем проекте железнодорожного моста через Матиру был Иван Александров. Этот талантливый молодой человек, сын фельдшерицы из московской больницы, уже широко шагал по жизни. Я не сомневался в том, что его ждет большое будущее. А другой выпускник, один из самых способных моих учеников, Прокофьев, тоже сумел громко заявить о себе. Как раз в то время он с успехом заканчивал постройку большого многопролетного железнодорожного моста через Аму-Дарью. Брянский завод доверил ему руководство всеми работами. А еще только два года назад Прокофьев штудировал мои учебники и то бледнел, то краснел перед столом экзаменаторов. Да, и за этого своего питомца я мог быть спокоен.
Вспомнился мне и мой мост через Горный Тикич, и мост через Обшу в Белом, и проект перекрытий зала гостиницы «Метрополь», и многое, многое другое. И как-то сами по себе в одно целое сливались в моем представлении и собственный труд над всеми этими проектами, и труд моих учеников и помощников, ставших теперь самостоятельными, талантливыми и честными инженерами, и благодарные письма от вчерашних студентов, которые и сегодня не расстаются с моими учебниками. И сердцу стало хорошо и тепло от сознания того, что московские годы были такими полными и плодотворными.
И вот надо решать: оставаться ли здесь, или порвать с Московским училищем ради новой и большой работы, которой придется отдать все силы без остатка? Разумеется, я был взволнован и польщен письмом из Киева. Это ли не признание, завоеванное к тридцати четырем годам? Но в то же время смущал и даже немного пугал размах новой работы. Создать кафедру мостов в крупнейшем учебном заведении и заведовать ею? Не простая, не легкая задача. Будет, наверное, трудно, очень трудно. Но зато какие возможности!
Жаль было расставаться с училищем, многими его преподавателями, студентами и прежде всего с доброй душой Максименко, с учителем своим Проскуряковым. Не сочтет ли Максименко, что я отплатил неблагодарностью за всю заботу обо мне и поддержку? С волнением ждал я решающего разговора с ним. Но Филипп Емельянович понял, что влечет меня в Киев, и не стал корить или удерживать. Мы расстались сердечно, расстались друзьями. Максименко пожелал мне не забывать на новом месте добрых московских традиций.
А я, готовясь к переезду, думал: «Молод институт, молод и я. Доброе предзнаменование!»
И все же было немного тревожно и смутно на сердце, как всегда бывает при крутых поворотах в жизни.
7. В КИЕВЕ
Летом 1904 года я начал работать в Киевском политехническом институте. С этим крупнейшим учебным заведением в дальнейшем были связаны тридцать лет моей жизни.
С первых же дней меня поразили нравы, установившиеся на инженерно-строительном отделении. Слишком уж они были не похожи на то, к чему я привык в Москве.
В учебных делах отделения царил большой беспорядок, вернее, настоящий хаос. Здесь была принята так называемая предметная система. Это приводило к тому, что нередко студенты, заканчивая институт, имели не-сданные зачеты по предметам первого курса. Нелепость и вредность такой системы были для меня целиком очевидными, и я сразу же восстал против нее. Однако мои возражения оставляли, как говорится, без последствий.
Вскоре меня избрали деканом отделения. Это давало мне определенную власть, и я решил воспользоваться ею. Но как только я попытался перестроить программу и порядок сдачи зачетов, меня тотчас же осадили. Предметную систему трогать не дали. Я начал настаивать, меня по-прежнему не слушали. Тогда я попытался явочным порядком добиться своего, круто повел дело. Это уже совсем пришлось не по вкусу. На меня стали посматривать косо, а кое-кто из профессоров намекнул, что, дескать, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Так, мол, недолго и врагов себе нажить…
Мне пришлось временно отступить, власть моя оказалась недостаточной, а убедить дирекцию не удалось. Я стал замечать, что чрезмерной энергией и напористостью начинаю раздражать многих коллег.
Мой предшественник на посту декана был человеком иного склада, видимо, более удобного и для профессоров и для дирекции. Безвольный и ленивый, он предпочитал ни во что особенно не вмешиваться и, главное, ни с кем не ссориться, не портить отношений. Студенты открыто говорили, что всеми делами управляла предприимчивая супруга декана, а он был просто пешкой в ее руках. Чтобы добиться от него поблажек, студенты часто отправлялись за содействием прямо к этой всесильной даме.
Не меньше, чем хаос в проведении зачетов, удивляла меня умозрительность преподавания. Инженерное отделение было настолько бедно учебными пособиями, что студентам все преподносилось на словах, без предметного показа. Я принялся за создание инженерного музея и кабинета мостов со своей специальной библиотекой. Работа эта длилась несколько лет, но уже в первом учебном году сказались ее первые плоды. Начинал я один, но вскоре появились добровольные помощники из преподавателей и студентов. Мы вместе, где только могли, добывали модели, заказывали приборы, собирали книги. Немало томов перекочевало в институт из моей личной библиотеки. Впервые отделение имело теперь приборы для испытания ферм, модели мостовых деталей и приличные коллекции фотографий и диапозитивов. Я стал широко пользоваться ими на своих лекциях. Вместо заучивания отвлеченных понятий студент мог теперь проделать довольно сложные опыты, зримо, наглядно представить себе то, что недавно было для него туманной абстракцией.
Сейчас все это кажется не только нормальным, но и само собой разумеющимся, но тогда на подобные новшества многие мои коллеги смотрели, как на ненужные, надуманные затеи. В моих действиях усматривали желание чем-то выделиться среди других, выпятить свою персону. Мною же руководило одно желание: дать студентам прочные знания, подготовить из них полноценных инженеров. Поэтому я и здесь, в Киеве, как и в Москве, был внимателен к каждому студенту на занятиях и беспощаден на зачетах. Я ничего не прощал лентяям и ловкачам. Зато людей честных и серьезных не упускал из виду и, заметив в них «искру», старался ее раздуть. Одним из таких студентов был способный, можно сказать, талантливый человек Алексей Толчин. Его отличали также редкая правдивость, прямота в отстаивании своих взглядов и идеальная честность. Все эти черты очень импонировали мне, и мы близко сошлись с Толчиным. Он стал моим другом и помощником, и когда я впоследствии приступил к работе над третьим и четвертым томами курса «Железных мостов», Алексей Толчин во многом помог мне в подготовке их к печати. Преждевременная смерть Толчина, который умер совсем молодым человеком, была для меня большим ударом.
Через год после избрания меня деканом я попросил освободить меня от этой должности. Что мог, я за этот короткий срок сделал, а в дальнейшем предпочитал в свободные от преподавания часы полностью отдаться составлению учебников и проектированию мостов. Просьба моя об освобождении не встретила особых возражений. Видимо, моя независимость и неуступчивость начали надоедать и дирекции и наиболее консервативным коллегам.
Это был 1905 год, год революционных потрясений в стране. Грозные студенческие волнения, прокатившиеся по всей России, захватили и Киевский политехнический институт. На митингах и сходках бурлило, клокотало. Я избегал их. Моим правилом было держаться в стороне. Я твердо решил для себя, что политика и вообще всякая общественная жизнь меня «просто не касаются», и старался не вылезать из узкой скорлупы служебных и домашних интересов. Мое дело – лекции, учебники, мосты… А все эти ожесточенные политические споры, студенческие забастовки и демонстрации, революционные требования, так же как и циничные призывы иных черносотенных профессоров «проучить бунтовщиков», ко мне не имеют отношения. Во всех этих страстях мне трудно было разобраться, да и не очень хотелось: пусть и «левые» и «правые» оставят меня в покое. Я вел уединенную жизнь типичного дореволюционного профессора, знал только свои мосты и убежден был, что ничто и никто никогда не выведет меня из круга сугубо технических проблем. Свое равнодушие к политике я считал незыблемым и, конечно, не поверил бы тогда, что Могут настать времена и события, которые заставят меня отказаться от этой искусственной, надуманной позиции, от «нейтралитета» в общественной жизни.
Итак, лекции, проектирование мостов, составление учебников… В этом проходили для меня годы.
В Тифлисе по моему проекту был построен городской шоссейный мост через Куру. Выполнял я эту работу по договору с Тифлисской городской управой. Когда проект был готов, он не понравился ни мне, ни заказчику. Тогда я предложил такое решение вопроса. Не заключая никакого договора, я составлю другой проект моста с тем, что он будет иметь не три пролета, как намечалось раньше, а только один, то есть без двух промежуточных опор. Эта идея сулила изрядную экономию при строительстве моста. Я заявил, что выполню эту работу на свой риск и управа оплатит ее только в том случае, если новый проект ей понравится. Так мы и договорились на словах. После этого я вместе с одним из дипломантов института составил проект, в котором три пролета с консольными фермами заменил одним, применив при этом оригинальные арки. Проект был одобрен, и нам выплатили после этого гонорар.
На реке Рось в Корсуни и Звенигородке появились два моих шоссейных моста. Они интересны своей проезжей частью, состоящей из железобетонной плиты с тремя продольными ребрами, которые поддерживаются железными поперечными балками со сквозной стенкой.
Много творческой радости принесло мне создание киевского пешеходного моста в конце Петровской аллеи, моста, хорошо известного всем киевлянам. Продлению Петровской аллеи мешал еще не успевший сползти остаток откоса на гористом берегу Днепра. Вначале выдвигался проект пройти этот земляной массив тоннелем. Такое решение показалось мне неинтересным, скучным. Этот чудесный уголок Киева можно было украсить легким, красивым мостом. Необычайно привлекательно он выглядел бы на фоне безграничных днепровских далей и великолепных киевских парков. Я предложил сделать в откосе глубокую выемку и перекрыть ее легким пешеходным мостом с серповидными ажурными фермами.
Эта мысль понравилась и была одобрена. Необычно проходила и постройка моста: она производилась до удаления земляного массива. Его поверхность была срезана параллельно очертанию нижнего пояса ферм, и на земле уложили небольшие клетки. На них и проводилась сборка нижних поясов и остальных элементов моста. Когда фермы были склепаны и опущены на заранее построенные опоры из бетонных свай, приступили к разработке земляной выемки под мостом. Это был редкий случай сборки моста.
Почти каждый год выходили в свет мои новые учебники: третий и четвертый тома курса «Железных мостов», обстоятельный курс «Деревянных мостов» и другие учебники и пособия. Я был так же требователен к себе, как и при составлении первой своей книги. Когда, например, нужно было осветить вопрос о сложных врубках в сопряжении круглых бревен при постройке деревянных мостов, то сначала я вместе с несколькими студентами изготовил модели узлов с такими врубками, сфотографировал их и заказал клише для помещения в учебник деревянных мостов. Я стремился к тому, чтобы каждый раздел книги отличался наглядностью, конкретностью и ясностью. Наборщики из типографии Кушнарева уже привыкли к моему трудному почерку и научились набирать прямо с рукописи, но и они нередко поругивали меня за корректуру, испещренную многими поправками.
Внешне все в моей жизни обстояло благополучно. Жаловаться как будто было не на что. Я имел кафедру, мосты по моим проектам строились, книги печатались и приобретали все большую популярность, материально я был вполне обеспечен. Петербургское начальство время от времени повышало меня в чине, и к сорока годам я уже был статским советником. Происхождение и положение в обществе открывали мне доступ в «лучшие, избранные дома» Киева… Чего же, казалось бы, желать еще? Покойная мать, наверное, порадовалась бы, глядя на мои успехи. Да, если взглянуть на положение ее глазами, все действительно обстояло превосходно.
Но еще в отроческие годы я привык критически смотреть на жизнь и судить о ней самостоятельно. Теперь, в зрелые годы, я тем более не мог и не хотел обманывать себя. С каждым месяцем, с каждым годом я ощущал все большую усталость. Я много раз проверял себя и чувствовал, что эта усталость не только физическая, накопившаяся от огромного переутомления за все годы, но и усталость душевная. Я стал внимательнее оглядываться вокруг и решил подвести для себя кое-какие итоги. Это была длительная и трудная, глубоко внутренняя и невидимая даже для близких работа, которая и привела меня затем к непонятному и неожиданному для всех решению.
Я заставил себя взглянуть на мое бытие со стороны.
Как я живу? Обывательская, бесцветная жизнь многих коллег – соседей по институтскому дому – мне не по нутру. Все реже и реже ходили мы с женой к ним в гости, все больше и больше избегал я подобных приглашений, все глубже заползал я в свою скорлупу. Мне претили мещанские сплетни и пересуды за карточным или обеденным столом у директора или кого-нибудь из профессоров, пустое времяпрепровождение, перемывание косточек приятелей и приятельниц, зависть к преуспевающим и насмешки над неудачниками. Несмотря на общие служебные интересы, я в таком обществе чувствовал себя чужим по своим стремлениям, мыслям, характеру.
Трудно, медленно сходился я с людьми. Другое дело на лекциях! Там я загорался, увлекался, говорил легко, просто. В гостях же становился иным человеком, уходил в себя, хмурился, отмалчивался. Я знал, что это объясняют нелюдимым и замкнутым характером, знал, что за глаза меня уже называют «белой вороной», чудаком, которого не интересуют ни выпивки, ни карты. Эта отчужденность с годами не исчезала, а, наоборот, все росла, и я не мог, да и не хотел чем-нибудь ее разрядить, ослабить. Происходило это помимо моей воли, и я об этом не очень горевал.
Двойственное впечатление производили на меня традиционные банкеты в дни годовщины основания Петербургского института инженеров путей сообщения. На эти вечера собирались его питомцы, живущие в Киеве и в близлежащих городах. Сидя за столом, я внимательно прислушивался к шумной беседе.
Когда вино развязывало языки, те, кто имел для этого основания, с упоением хвастали внушительным счетом в банке, собственным выездом, выгодной женитьбой, удачной покупкой ценных бумаг… Карьера, комфорт, деньги, новые ступени на служебной лестнице – вот в чем состояли идеалы таких людей. Все вокруг прививало им эти убогие и корыстные интересы.
Конечно, я знал, что не все таковы. Иные рассказывали о своих смелых технических замыслах, о новых проектах мостов и вокзалов, о муках и радостях дерзаний, о своем труде, радовались за товарищей-однокашников, которые работали горячо, жили увлеченно. Но, увы, не они делают погоду, не они на поверхности жизни, не они обласканы «власть предержащими».
«Значит, проходят годы и ничто не изменяется? – с грустью думал я. – Значит, жизнь стоит на месте? Мосты начинают строить по-другому, а мыслят по-прежнему?» Мне казалось, что время остановилось, застыло навсегда…
И я пришел к печальному выводу: кое-чего я своим упорным трудом добился к сорока трем годам, может быть, больше, чем многие другие, но жил я не среди людей, а как затворник, жил среди мертвых металлических конструкций мостов. Отдавал любимому делу всю душу, а взамен получал от жизни только материальные блага. Я оказался чужим не только среди большинства своих коллег, но и среди самых близких родственников. Братья мои к тому времени стали помещиками, состоятельными людьми, крупными чиновниками, мои устремления были им и непонятны и чужды. И с ними мои дороги разошлись давно.
В сорок три года, в расцвете сил, я почувствовал себя безмерно одиноким и уставшим, почти стариком. Конечно, у меня есть много учеников, они-то, надо надеяться, помянут меня добрым словом, думал я. Но и у них уже своя жизнь, свои пути-дороги… Да, одиночество и пустота. Стоит ли в таком случае продолжать?
Позже я с изумлением вспоминал свое тогдашнее состояние и настроение: дойдя до середины своего жизненного пути, я потерял вкус к жизни, внутренне надломился.
О старости, о ее обеспечении беспокоиться не приходилось. От продажи учебников скопился небольшой капитал, и его вместе с процентами и пенсией должно было хватить, чтобы дожить остаток лет. Нужно, думал я, устроиться где-нибудь на юге, на берегу моря, купить дачу, непременно с садом.
И вот во время рождественских каникул 1913 года я отправился в Крым. Там я облюбовал у моря небольшую дачу, именно такую, о какой мечтал. Вернувшись в Киев, я представлял себе свой уголок летом, ласковый плеск волны в тихие дни и рокот прибоя в непогоду, спокойную, кропотливую работу в своем саду и на огороде, дальние прогулки в горы, покой, тишину и южное яркое небо над головой. Невольно мелькала озорная мысль: вот будет сюрприз для господ коллег! Профессор-мостовик – в роли садовника… Я невольно засмеялся, представляя себе их вытянувшиеся лица. Пусть говорят, что хотят, пусть строят любые догадки, – с меня хватит!
В этот вечер, когда я окончательно утвердился в этой мысли, я взял со стола бумагу, ручку и приготовился писать. Взгляд мой невольно задержался на ручке. Да это же та самая, та, с которой связано столько дорогих воспоминаний! Диплом… Первые печатные труды… Диссертация… И вот – финал, финал, который я сам избрал. Резкая ломка всего, жирная итоговая черта под всей предыдущей жизнью, полной труда, волнений, исканий, обид, успехов, удач и неудач, надежд, разочарований, борьбы. Все это отныне безвозвратно отходит в прошлое. И как иронически выглядит сейчас эта некогда милая сердцу реликвия – простенькая березовая ручка. И она и я уходим на покой.
Я обмакнул перо в чернила и начал писать.
Это был мой рапорт директору Киевского политехнического института. Рапорт об отставке.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВЫХОД НА ПРОСТОР
1. ГРОЗОВЫЕ ДНИ
Начало первой мировой войны застало меня в Ницце, где я лечился и отдыхал после тяжелой болезни – острого воспаления легких и осложнения на нервной почве. В течение зимы я полностью поправился, чувствовал себя совсем здоровым и сильно тосковал по родине. Сестра, приехавшая вместе со мной во Францию, очень любила Ниццу, где мы родились, ее красивую природу, мягкий морской климат и уговаривала меня остаться здесь навсегда. Я и раньше не поддавался на ее уговоры, а теперь, когда Россия участвовала в войне, пребывание вдали от родных мест становилось для меня совсем невыносимым.
Я всей душой рвался домой, но прямой путь в Россию через Германию был отрезан войной.
Только в феврале 1915 года я отправился в далекую дорогу через Италию, Болгарию и Румынию. В Риме пришлось задержаться на несколько дней. Я бродил по древнему городу, осматривал развалины Колизея, стоял зачарованный под знаменитым куполом собора Петра и Павла. Высота купола, громадные внутренние размеры собора, освещение – все это произвело на меня сильное впечатление.
Я любовался прекрасной итальянской столицей, ее древними памятниками, но мысли и чувства мои были далеко отсюда… Скорей, скорей попасть в Россию и стать полезным ей в тяжелую годину!
В Неаполе я осмотрел раскопки Геркуланума и Помпеи, побывал в опере и подивился тому азарту и горячности, с какими итальянцы воспринимают музыку. Отсюда на пароходе отправился в Сорренто. Там меня поразили тепличный воздух, удивительная тишина и дикая красота обрывистого, скалистого берега моря. Наконец остались позади и Адриатическое море и Коринфский канал, затем Салоники, София, Бухарест. Отсюда, из Румынии, было уже совсем близко к дому.
Я вернулся в Киев, в тот же Киевский политехнический институт, и постарался забыть неприятный, горький осадок, оставшийся от моей добровольной отставки. Регулярные учебные занятия были нарушены войной, и пришлось заниматься главным образом со студентами двух последних курсов, которые ускоренными темпами заканчивали институт.
В кругу моих коллег и знакомых на том, первом, этапе войны царило приподнятое настроение. Что касается меня, то я тогда еще плохо разбирался в действительных причинах возникновения современных войн. Рассуждал я довольно примитивно: «Вильгельм напал на нас – надо защищаться».
Конечно, я хорошо помнил войну с японцами в 1904–1905 годах и чувство боли, пережитое тогда. Война эта шла где-то страшно далеко, через всю страну гнали поезда с солдатами на Дальний Восток, с фронта приходили победные реляции генерала Куропаткина, и мы первое время принимали их с доверием. Когда же стало невозможно скрывать дурные вести, генералы и правительство призывали к терпению и к вере в победу. А потом неожиданно выяснилось, что воевать правительство не умеет, страна к войне не подготовлена, а солдаты наши идут на японские пулеметы чуть ли не с голыми руками. Слишком разителен был контраст между лживыми и хвастливыми газетными статьями и страшной правдой действительности!
Прошло с тех пор десять лет, но все еще трудно было забыть позор Цусимы, мерзкое предательство генералов в Порт-Артуре, измену и продажность военных верхушек. Солдаты и честные рядовые офицеры, простые русские люди-патриоты в 1904–1905 годах героически сражались за Россию, а наверху – в штабах и министерствах – торговали их жизнью и кровью. Стыдно и больно было за свою могучую и в то же время бессильную родину. Обидно, тяжело было.
«Нет, – думал я в 1915 году, – все это не может повториться. Печальный опыт русско-японской войны должен был многому научить наших правителей. Не мог не научить! Во всяком случае, – считал я, – каждый русский человек должен сейчас помочь своей родине». И я стал искать применения своим знаниям.
До тех пор у нас в стране никто всерьез не занимался проектированием стальных разборных мостов, которые обычно применяются вместо взорванных. Нужда же в них была самая крайняя. А мы тогда располагали лишь несколькими устаревшими типами таких мостов системы французского инженера Эйфеля, известного своей знаменитой башней в Париже, несколькими разборными строениями небольшого пролета около 12 метров для узкой колеи, спроектированными одним русским инженером, и небольшим количеством ширококолейных пролетных строений системы Рот Вагнера, попавших к нам в виде военных трофеев.
Положение, как видно из сказанного, было бедственным.
С этой областью мостостроения я был совершенно не знаком, предшественников в отечественной практике у меня почти не было. Начинать приходилось буквально с азов. Я принялся за изучение иностранной литературы на эту тему. Она оказалась более чем скудной, и я нашел в ней очень мало полезного.
Выход был один: не смущаться тем, что начинать придется почти на голом месте, самому взяться за проектирование и, по моему старому правилу, прибегнуть к помощи своих излюбленных сотрудников – студентов-выпускников. Не беда, что многое придется находить и создавать впервые, тем почетнее наша задача!
Уже в 1916 году с дипломантом Сейделем мы приступили к проекту двадцатисаженного ширококолейного железнодорожного разборного пролетного строения с ездой понизу. Фермы его имели пролет в 44,5 метра. Проект этот мы выполнили в самый короткий срок и, не требуя никакого вознаграждения, передали его управлению Юго-Западных железных дорог. Первенец наш оказался настолько удачным, что управление сразу же заказало семь пролетных строений и вскоре установило их при восстановлении мостов на нескольких железных дорогах.
В 1917 году Киевский округ путей сообщения приступил к постройке семи деревянных стратегических мостов через Днепр. Я узнал, что для перекрытия судоходных пролетов этих мостов мой бывший ученик инженер Прокофьев по заказу округа проектирует деревянные фермы системы Гау. С моей точки зрения, стальные фермы были и надежнее и дешевле. Я предложил начальнику округа свои услуги, но не требовал, чтобы он отказался от услуг Прокофьева, а изъявил готовность составить свой проект на конкурс в порядке творческого соревнования. То, что я включился в это соревнование с опозданием, сильно подстегивало меня, и я в содружестве с дипломантом Дамским выполнил свое обещание в невиданно короткий срок – в две недели. И хотя проект Прокофьева еще разрабатывался им, преимущества стального пролетного строения оказались настолько очевидными, что округ решил остановиться на нашем проекте.
Мне же было поручено разместить заказы на изготовление этих семи пролетных строений. Я отправился с этой целью сначала в Екатеринослав на Брянский завод, а затем в Донбасс, на Юзовский завод.
Все эти годы – годы первой мировой войны – я не раз привлекал студентов-дипломантов к созданию проектов деревянных мостов, в том числе большой эстакады на левом берегу Днепра у Киева, представлявшей подход к железнодорожному Подольскому мосту. Вместе со мной над ее проектом, а затем и над проведением испытаний эстакады работали мои студенты. Большой успех имели наши копры «Пионер» для забивки свай. Свои чертежи, записки и «спецификации веса» мы рассылали непосредственно строителям прифронтовых дорог. Для осмотра строящихся мостов и консультаций я неоднократно сам выезжал на линию.
Я с головой ушел в работу, она поглощала меня целиком, но я не мог не замечать того, что происходило вокруг. Мучительно было сознавать, что наша промышленность так слабо развита, что многие проекты стальных мостов оставались на бумаге. Россия выплавляла мало металла, и наши дороги часто вынуждены были отказываться от изготовления металлоконструкций. А от приезжавших с фронта приходилось слышать, что на передовых позициях батареи часто молчат из-за нехватки снарядов, что в солдатских подсумках не густо, и немало случаев, когда одна винтовка приходится на двоих, на троих.
Как-то сами по себе возникали неприятные мысли:
«Недалеко, однако, мы ушли от 1905 года… О чем же раньше думали наши правители?»
Этот вопрос все чаще всплывал передо мной.
Для размещения одного из заказов на мосты мне пришлось поехать в Донбасс, в тогдашнюю Юзовку. Тамошний металлургический завод принадлежал англичанину Юзу, а остальные предприятия и шахты вокруг – либо его соотечественникам, либо французам и бельгийцам. Проезжая через Юзовку, я видел всюду ужасную нищету. Рабочие ютились в каких-то подземных норах, в хижинах, сбитых из ящиков и досок. Зато в шикарном доме директора завода – англичанина – била в глаза отменная роскошь. Стоимость обеда, которым нас потчевали, наверное, превышала месячный заработок нескольких рабочих.
Мне становилось понятнее настроение фронтовиков, проклинавших войну и тех, кто наживается на ней, а солдат оставляет без патронов и снарядов.
Не только в Донбассе – всюду я видел засилие иностранцев в промышленности. У нас в Киеве один крупный машиностроительный завод принадлежал Криванеку и Гретеру, другой – бельгийцам, святошинский трамвай – немцам и т. д.
С тех пор и до самого окончания войны я ощущал, как во мне и во многих близких мне людях постепенно нарастает разочарование: мы старались отдать все свои силы для победы, а на фронте развал, частые неудачи, и не видно было, чтобы царь и правительство могли исправить положение.
Повторяю, даже в нашем кругу к концу войны настроение становилось подавленным, патриотический угар рассеивался. Многим уже хорошо известно было, что оружия в армии не хватает, что в окружении царя немало тупиц, казнокрадов, немецких ставленников и шпионов, что сам царь – бездарность и чуждый народу человек. Стоит вспомнить хотя бы измену царского военного министра. Сухомлинова! Промышленность, отданная в значительной мере на откуп иностранцам, была настолько слаба, что не могла как следует снабжать армию. Моя вера в правительство еще более заколебалась.
К чему же тогда мои усилия и усилия многих других честных людей, если все вокруг разваливается?
Февральскую и в еще большей степени Октябрьскую революции я встретил растерянно. Мне казалось, что теперь неизбежно наступит хаос, полный развал, и в нем окончательно погибнет Россия, окруженная врагами. Ожесточенность начавшейся затем гражданской войны, свирепый террор интервентов всех мастей еще больше смутили меня. Мерещилось, что России пришел конец, что враги растащат ее по кускам. Но, к счастью, я ошибся. Я видел, что народы бывшей царской России во главе с коммунистами сумели прогнать всех, кто пытался снова посадить им на шею власть капиталистов и помещиков. Уже одно это заставило меня больше поверить в силы народа, который до сих пор я так плохо знал.
Шестнадцать раз в Киеве менялись власти, но ни я, ни моя семья не покидали город. Я ждал, пока смогу снова начать работать.
Я не очень верил тогда в то, что у большевиков в дальнейшем выйдет что-нибудь дельное, но с врагами России они справлялись прекрасно. В моих глазах это было огромным успехом.
Я не сомневался, что народу скоро понадобятся мои знания для восстановления мостов после страшной разрухи. А целью всей моей предыдущей жизни была работа для родины. Правда, я хорошо видел, что представители победившей советской власти на местах подозрительно присматриваются к таким людям, как я. Это было естественно. Но надо прямо сказать, что и я тоже присматривался к новой власти. В целях и политике большевиков для меня многое оставалось непонятным. Мне ясно было, что буржуазная Европа враждебна советской власти и не даст ей ни кредитов, ни займов.
«Где же большевики возьмут средства, чтобы вытащить Россию из разрухи? Откуда появятся у них для этого силы?» – думал я тогда и не находил ответа.