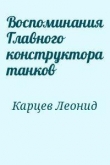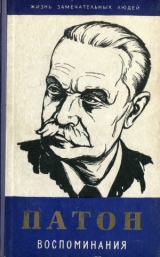
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Евгений Патон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
7. НОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Сварочные автоматы начали входить в быт, в повседневную жизнь цехов. Рабочие запросто подходили прикуривать от раскаленной флюсовой корки, а все работавшие неподалеку от автоматов считали себя знатоками скоростной сварки.
Скептиков становилось все меньше. Был в цехе один старик мастер, который причинял нам вначале много хлопот. Автосварку он признавал «условно», считал, что ничего лучше и надежнее ручной сварки нет на свете и что он лично, с его знаниями и опытом, шутя справится с установками на своем участке. С молодыми инженерами и инструкторами он не ладил, все старался делать сам, без помощи работников института.
Но вот как-то ночью у него на участке испортился автомат. Упрямый старик никого не хотел звать на выручку и без толку провозился с ремонтом шесть часов. Потом все же сдался и послал за инструктором. Через десять минут установка снова заработала к радости молодых сварщиков, поднявших мастера на смех.
Старик насупился, покряхтел, потом пересилил себя и сказал инструктору:
– «Патоны» (так называли на заводе наши автоматы) – дело серьезное, внимания требует. Им не скажешь: знать ничего не знаю, давай план! Не прав я был, без них теперь в нашем сварочном деле нет движения вперед. А назад к ручному держателю тоже хода нет. Учи меня. А директору своему скажи: понял я – за машинами правда!
Когда мне передали этот разговор, я подумал о том, что старик мастер, хоть и долго упирался, а все же понял самое главное.
Скоростная сварка принимала на заводе настоящие производственные формы. Я предложил дирекции завода выделить человека, который полностью отвечал бы за ее дальнейшее внедрение. Начальником автосварки назначили Портнова, молодого инженера, неугомонного и горячего человека. У нас в институте он изучил все, что требовалось для освоения сварки, быстро вошел в свою роль и начал «давать команды». Прежде чем распорядиться в цехе, он обычно советовался с нашими сотрудниками, и это избавляло его от многих ошибок.
Завод до приезда на Урал имел уже две сварочные установки. К их рождению мы имели самое прямое отношение.
В начале 1941 года, во время одной из встреч, Никита Сергеевич Хрущев посоветовал мне побывать на этом заводе, познакомиться с производством, помочь товарищам, привить им вкус к скоростной сварке.
Отправившись на завод, я увидел, что нам тут есть где приложить руки. По заказу завода мы спроектировали установку для сварки важного узла. Завод незамедлительно изготовил станок и пустил его. Приехав в этот город вторично, я встретился в обкоме партии с Никитой Сергеевичем.
– Очень хорошо, что не забыли моего совета и быстро оказали помощь заводу. Не упускайте его и дальше из виду. Сами знаете, как его продукция важна для страны.
Два таких станка завод привез с собою на Урал. Мы выговорили себе право подготовить их к пуску и ввести в строй. Начальник автосварки тоже с энтузиазмом взялся за дело.
В очень короткий срок станки были смонтированы и начали работать. Они походили на громадную букву «Г» и поэтому именовались в просторечии «глаголами». На них сваривались носы танков. Это была новая победа скоростной сварки.
Люди, работавшие на этих установках, доставляли нам немало веселых минут, которыми мы тогда особенно дорожили. Один из сварщиков в мирное время учился петь и свою страсть к вокалу сохранил и в тяжелых условиях военных лет. Отличался он тем, что, когда на его «глаголе» дела шли хорошо, он во весь голос распевал арию Тореадора из «Кармен» или арию герцога из «Риголетто». Если же в установке что-нибудь портилось, он менял свой репертуар, и тогда на весь цех неслось:
– Евгений, ты больше мне не друг! (Под Евгением, конечно, следовало разуметь меня…)
Поэтому, приближаясь к музыкальному «глаголу», наши конструкторы всегда прислушивались. Если звучат «Риголетто» или «Кармен», можно пройти мимо, если гремит гневное обращение к «Евгению», – нужно спешить на помощь.
После войны этот голосистый сварщик поступил в хоровой ансамбль.
Второй автоматчик в прошлом работал портным, а сейчас обрел свое место на оборонном заводе. Он питал особое пристрастие к знакомым профессиональным словечкам, и вначале его нелегко было понимать. Например, он прибегал к дежурному наладчику и взволнованно сообщал, что у него «рвется нитка» или «морщит шов». Это означало, что наблюдаются частые обрывы дуги или что шов формируется неравномерно, с перехватами и буграми. Работали эти люди преданно, забывая себя и не оглядываясь на цеховые часы.
Носовой узел с видимыми на готовом танке швами теперь был полностью переведен на скоростную сварку. Швы эти – очень ответственные: носом машина прокладывает себе путь в жарком бою.
Итак, под одной крышей, в одном цехе – четыре автосварочных станка. Такими показателями в мирное время мы похвалиться не могли.
Но над действующими установками нависла серьезная угроза. Аппаратура, безукоризненно работавшая в спокойных условиях лаборатории или в сравнительно неторопливом ритме довоенного периода, теперь начала пошаливать. Горели токоподводящие мундштуки, буксовали электромагнитные муфты. Стало ясным, что в своем стремлении автоматизировать как можно больше операций, мы чрезмерно усложняли установки. Чтобы аппаратура в нынешних условиях не подводила, необходимо было значительно упростить ее электрическую часть. Этот вопрос я выдвигал с первых месяцев нашего приезда на Урал. Теперь больше медлить нельзя было.
История упрощения электросхем, аппаратуры и значительного повышения их надежности показала нам, каким могучим ускорителем является близость к производству, как она подстегивает, подхлестывает мысль, заставляет быстрее работать, поворачиваться. В обычных темпах мирного времени, принятых в солидных научно-исследовательских институтах, эта работа, обрастая планами и методиками, растянулась бы, пожалуй, на полтора-два года, да и то мы бы считали себя молодцами.
По-другому все произошло сейчас на заводе, в годы войны. В короткий срок мы упростили схемы установок. Вместо «комодов с аппаратурой», которые наводили ужас на цеховых электриков, появились небольшие аппаратные ящики, устойчивые в работе, простые в управлении.
Теперь оставалось переделать уже работающие автоматы. Мы договорились с администрацией цеха остановить автоматы на двенадцать часов – срок более чем жесткий.
Аврал назначили на ночь. Еще с вечера я отправился в цех вместе со своими сотрудниками. Подготовительные работы мы проделали в мастерской, но, как всегда в подобных случаях, на рабочих местах возникло много неожиданностей, пуск установок задерживался. В довершение всех бед тележки после переделки не двигались по путям. Конструкторы лихорадочно искали причину.
А варить нужно было без промедления! С соседних участков прибегали взволнованные мастера и комплектовщики. Люди требовали узлов.
– «Патоны» режут нам программу! – кричали они.
Мы изрядно нервничали. Остановка работы на участке лихорадила весь отдел. Наконец силами авральной бригады причину остановки тележек удалось устранить. Тележки снова установили в начале шва, и переделанные автоматы начали благополучно выпускать борты.
Об инциденте скоро забыли, и все в цехе признали, что упрощенные схемы полностью себя оправдали. Станки больше не капризничали, не подводили, и, начиная с июня 1942 года, мы полностью перешли на упрощенные схемы. А у двух «глаголов» появился третий собрат на сварке бортов – пятый автомат в цехе.
Наши инструкторы, внедрявшие автосварку на Уралмаше, рапортовали о запуске двух новых установок.
Настроение поднималось!
Теперь у нас появился филиал на одном из самых больших машиностроительных гигантов страны.
Совсем еще недавно в изготовлении танков господствовала ручная сварка. И вот начали энергично вытеснять ее всюду, где только можно. Первый напор в этом направлении уже сказывался на производительности корпусного отдела. Нужно было сделать следующий шаг – перевести сварку на поток. Но подобного опыта тогда не было ни у нас, ни тем более за границей.
Предложение о постройке оригинального и единственного в то время конвейера для ручной сварки корпусов танков внес директор завода. Он предложил использовать для конвейера часть пульмановских тележек, оставшихся от прежнего завода.
Мы горячо подхватили это начинание.
– Конвейер задуман для ручной сварки, но я ни на минуту не сомневаюсь, что на нем найдут себе место и автоматы, – сказал я нашим конструкторам.
Они впряглись в общую упряжку и вместе с заводскими товарищами принялись за разработку эскизных проектов.
Вскоре мы увидели конвейер в действии.
Нужно ли говорить о том, насколько это нововведение ускорило темп выпуска танковых корпусов! Четкий, железный ритм установил строгую дисциплину, заставил всех подтянуться. Опоздать или выйти из темпа – значило подвести товарища, цех, завод, фронт, страну. Все нам нравилось в этом конвейере, кроме одного: где сказано, что он предназначен только для ручной сварки? Разве автоматы не могут и здесь показать свои преимущества?
Прошло немного времени, и они появились на потоке, на многих его рабочих местах. Автоматы варили наружные швы, а ручники перебрались внутрь корпусов. Часто эти работы велись одновременно.
Красивое это было, почти феерическое зрелище, дух захватывало от картины танкового конвейера! В сумерках, в зеленоватых вспышках ручной сварки видны были могучие очертания движущихся тележек с корпусами. Они обрастали все новыми частями, становились все величественнее и внушительнее. Смотришь, бывало, и думаешь:
– А ведь с чего мы начинали!
Мы все, и заводские люди, и работники института, гордились общим детищем. И наши инструкторы, когда к нам приезжали гости из Москвы и с других заводов, всегда норовили попасть в «экскурсоводы», чтобы показать приезжим конвейер. Это считалось большой честью.
8. ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ФЛЮСА
В начале 1942 года с заводов, применявших автосварку, начали поступать в адрес института тревожные письма. Товарищи сообщали, что иссякают запасы черного флюса «АН-1».
Все настойчиво спрашивали:
– Где достать флюс? Чем варить?
Я говорил Дятлову:
– Понимаете ли вы, Владимир Иванович, что такое неопределенное положение с флюсом расхолаживает заводы? От рвения, с которым они взялись за освоение автосварки, может ничего не остаться.
– Конечно, понимаю, – ответил Дятлов, – для заводов это реальная угроза остановки станков и возврата к ручной сварке. Но где же взять для них флюс? Где?
Достать его было негде.
До войны флюс для всей страны выпускал стекольный завод «Пролетарий» в Донбассе, имевший специальную плавильную печь. С этого завода в особых ящиках и бумажных мешках готовый флюс рассылался заводам-потребителям. Теперь «Пролетарий» эвакуировался в глубь страны и выпуск флюса прекратил.
Один из сотрудников дал мне такой совет:
– Что же мы можем поделать, Евгений Оскарович? Надо написать заводам, что флюса сейчас никто не выпускает.
Этот «совет» меня возмутил.
– Так ответить – значит просто умыть руки, поступить по-чиновничьи! Кому нужна вся наша работа, если на заводах наступит флюсовый голод? Это сразу же почувствует фронт!
Постепенно у меня созрела одна идея, Я собрал наших технологов.
– Мы с вами, товарищи, должны вывести заводы из тупика. Надо срочно разработать неплавленые флюсы из местных уральских материалов. Что может быть лучше, чем простой флюс, полученный без постройки печей и другого оборудования? Вести работу поручаю Владимиру Ивановичу Дятлову. Помогать ему должны все.
Дятлов увлекся этим замыслом.
Мы знали, что где-то в районе Свердловска имеются залежи розового камня – родонита, до войны его добывали здесь для облицовки станций Московского метро.
Мы отправились в Свердловск в геологический комитет и с его помощью нашли карьер, где еще недавно велись разработки. Сейчас он был заброшен.
Захватив с собой куски родонита, мы у себя дома раздробили, просеяли и испытали его на лабораторной установке. Вначале Владимир Иванович попробовал варить под чистым измельченным порошком. Увы, швы получились пористыми, это было последствием выделения влаги. После прокалки родонита поры исчезли, но теперь плохо формировался шов, шлак отделялся от него с трудом. Час от часу не легче…
Поиски продолжались. К родониту прибавили плавиковый и полевой шпат, и результаты сразу же улучшились.
Но вот мы занялись арифметикой, прикинули, во что обойдется производство этого на первый взгляд дешевого заменителя. В лаборатории все выходило просто: ударами молотка раскрошили куски камня и после просева получали готовый флюс.
– Ну, а для массового производства? – допытывался я у Дятлова.
Стали подсчитывать.
– Нужно восстановить карьер, набрать штат людей, достать камнедробилки и другие машины и т. д. Кто этим займется, кто будет финансировать?
К тому же оказалось, что родонитовый флюс имеет существенные производственные минусы.
Мы не сдавались, перепробовали и другие варианты неплавленого флюса – шамотный и карпичный. Они привлекали безусловной простотой изготовления, но сулили много эксплуатационных неприятностей, да и качество швов было невысоким.
Но сложить оружие институт не имел права. Сигналы из других городов продолжали поступать и будоражили нас. На нашем заводе также истощались запасы флюса «АН-1».
Я снова собрал технологов института.
– Итак, мы создали три марки новых флюсов, а положение остается острым, критическим. Нужны не рецепты и отчеты с перечнем компонентов, а надежный, проверенный флюс в достаточном количестве, по дешевой цене и с гарантией, что заводы будут получать его бесперебойно. Неудачи не должны нас расхолаживать. Нужно настойчиво продолжать поиски, подумать о других возможностях и направлениях. И не медлить с этим. Что вы можете предложить?
Увы, никто пока ничего не мог предложить. Я отпустил товарищей, еще раз наказав им «настойчиво думать».
Первым нашел выход из положения Дятлов. Он предложил состав флюса из местных компонентов на основе нашего первого черного флюса «АН-1». Опытные плавки мы вели сначала в заводской металлургической печи, потом перенесли их в институтскую лабораторию, где имелась своя небольшая электропечь. Однако неудачи следовали за неудачами. Дятлов упорно докапывался, в чем тут причина, повышал температуру в электропечи, добавлял в шихту кокс. От кокса возникал угар, отравлявший дыхание. Печь пришлось перенести в другое место и снабдить более совершенной вентиляцией. Снова и снова продолжались поиски, и, наконец, в тяжелых муках родился усовершенствованный флюс «АН-2».
Он отвечал всем основным требованиям. Но тут же вставал практически неразрешимый в то время вопрос: как заводы будут производить этот флюс?
Металлургические электропечи нужны для выплавки стали, и на них нельзя рассчитывать. Для настоящего производственного выпуска флюса каждому предприятию пришлось бы строить для себя капитальную электропечь. Большинству заводов это сейчас не под силу. Наш завод обзавелся двумя небольшими печами по лабораторному образцу, создал свою флюсовую мастерскую, кое-что давали и мы, но все это казалось каплей в море. Флюс «АН-2» отпускался у нас только для сварки особо ответственных швов, нечего и говорить, что обеспечить другие заводы мы не могли.
Итак, новый и очень неплохой флюс создан, а все же флюса для промышленности нет…
В те дни я все чаще вспоминал наши довоенные попытки использовать в качестве флюса доменные шлаки. Эта мысль всегда казалась мне заманчивой: просто, дешево, доступно, шлаковые отходы имеются в избытке. Но еще тогда мы установили, что для этой цели пригодны только шлаки доменных печей, работающих на древесном угле: в них отсутствует сера.
В начале 1941 года я обратился к нашему известному металлургу академику Ивану Павловичу Бардину и попросил его помочь нам достать шлак на одном из таких уральских металлургических заводов. Бардин охотно согласился, и вскоре наш институт в Киеве получил посылку. Но первые же анализы вызвали у нас полное недоумение: во всех образцах шлака оказалось много серы. Мы ничего не могли понять.
И только в военные годы, когда мы сами находились на Урале, выяснилось, что завод, приславший в Киев шлак, имел две доменные печи, из которых одна работала на древесном угле, а другая на каменном, и что по ошибке нам отправили не тот шлак, что нужно было.
Теперь вернуться к заброшенной идее помог нам счастливый случай.
В один из редких выходных дней наш инструктор Александр Коренной возвращался с индивидуального огорода, где высаживал картофельные верхушки по методу академика Лысенко.
В заводском поселке, у пересечения железнодорожных путей и шоссе, Коренной наткнулся на кучу строительного шлака. Опытный глаз сварщика по светло-зеленому цвету и грануляции сразу уловил сходство с плавленым флюсом «АН-2». Инструктор немедленно набрал немного шлака в бумагу и отнес домой.
На другой день он отважился попытать счастья. Опасаясь, что в цехе его могут осмеять, Коренной решил дождаться перерыва между двумя сменами, когда все отправятся в столовую. Насыпав на стальную пластину свой загадочный шлак, инструктор включил автомат, и электрическая дуга благополучно наплавила шов.
Не помня себя от радости, Коренной повторил опыт. Снова удача! Он не верил своим глазам.
– Неужели спасение в этом зеленоватом песке?
Назавтра, чуть свет, Коренной примчался ко мне.
– Вот так история, Евгений Оскарович! Шлак, а варит! Вчера пробовал – получается.
Я помнил киевские неудачные попытки, но обрадовался не меньше Коренного. Может быть, мы тогда слишком поторопились с решением?
– Идите к Дятлову и Слуцкой, – напутствовал я сотрудника, – они же столько шлаков перепробовали в Киеве. И проверьте хорошенько химический состав металла шва, сделайте шлифы.
Первые же анализы получились обнадеживающими, механические свойства шва были также вполне удовлетворительными. Это окрыляло. Я сразу же потребовал форсировать работу. На железнодорожную ветку отправили грузовую машину, и она доставила гору шлака в нашу лабораторию.
Однако можно ли довольствоваться только тем, что дал нам в руки случай? На Урале много заводов, выплавляющих чугун на древесном угле. Мы решили достать список этих заводов, тщательно обследовать их и таким путем подобрать шлак, наиболее подходящий для замены «настоящего» флюса.
Отправившись в Свердловск, я добыл там адреса двенадцати заводов и некоторые сведения о них. Но бумага – это только бумага. Чтобы по-настоящему разобраться, нужно было самим побывать на заводах, узнать, на каких рудах выплавляется там чугун, каким методом проводится грануляция шлака и т. д.
В те годы ездить было не так просто, но наши товарищи побывали почти на всех двенадцати заводах, названных в списке. Большинство из них по тем или другим причинам пришлось отвергнуть. Нашим требованиям больше всего отвечал завод в Аше недалеко от Уфы. Обе его старенькие печи работали на древесном угле, чугун выплавлялся из отличных бакальских руд, шлак гранулировался в воду.
Новый флюс сулил большие выгоды. Наличие в Аше громадного и постоянного запаса шлаковых отходов, простота изготовления, возможность обойтись без постройки дорогих электропечей – все это говорило за то, что в условиях войны шлаковому флюсу предстоит сыграть большую роль. Нарком танковой промышленности товарищ Малышев активно поддержал это наше начинание.
Мы действовали штурмом и натиском. Вооружившись авторитетными письмами и захватив с собой лабораторную установку для сварки, наша бригада отправилась в Ашу.
Там были немало удивлены, узнав, что отходами их печей заинтересовался научно-исследовательский институт.
– Оказывается, и наша ашинская старушка на что-то пригодилась! – шутил главный инженер завода Бурдаков. – Берите шлак хоть даром, мы еще приплатим вам за его вывозку. Весь двор этим добром завален.
Бурдаков согласился несколько изменить состав шихты и повысить, как это предложили наши технологи Слуцкая и Горлов, процент содержания марганца в шлаке. Мы заключили соглашение, по которому ашинский завод брал на себя поставку флюса всем заводам, осваивающим автосварку. Нарком танковой промышленности помог ашинцам получить в достаточном количестве марганцевую руду и древесный уголь.
Вскоре наркомат объявил благодарность ряду работников завода за выпуск этого нового флюса и премировал их.
Отныне во всех официальных документах этот обогащенный шлак именовался «флюсом АШ». Новый флюс предназначался прежде всего для сварки брони. Отсюда вывод: необходим постоянный и бдительный контроль за его качеством. На заводе создали маленькую ячейку из наших сотрудников, снабдили их походной установкой, и каждая партия шлака, подготовленная к отправке, подвергалась строгой проверке на сварочные качества. Наши представители следили и за тем, чтобы шлак содержался в чистоте, не засорялся глиной и без задержки отправлялся заказчикам на железнодорожных платформах.
У себя на заводе мы приучали людей беречь от загрязнения шлаковый флюс, который выгружался у входа в цех, втолковывали всем, что попадание глины и грязи в ашинский шлак неизбежно приводит к порам в швах, к снижению прочности сварных соединений.
Теперь заводы получали флюс в централизованном порядке и в неограниченном количестве. Угроза остановки автоматов была, наконец, устранена.
Первое время начальник одной из железнодорожных станций никак не мог уразуметь, кому и зачем понадобился никчемный, на его взгляд, «песок», и подолгу задерживал платформы со шлаком. На этого начальника нажали где следует, и вскоре с его станции платформы с флюсом «АШ» стали разбегаться во все концы страны.
В то же время группе наших технологов, во главе с Даниилом Рабкиным, удалось получить разновидность шлакового флюса, названную «АШМА», пригодную для сварки малоуглеродистой стали малоуглеродистой проволокой. Этим решена была еще одна важная задача, ибо флюс «АШ» для этой цели не годился.
Справедливость требует признать, что флюс, «АН-2» для сварки брони был лучше ашинского шлака. У этого флюса были сторонники как в институте, так и на заводе. Но они исходили из «идеала», не считались с реальными условиями, игнорировали тот факт, что массового производства флюса «АН-2» заводы наладить не в состоянии, запугивали нас всякими страхами и отговаривали от применения ашинского флюса. Мы не послушались их, улучшили сварочные свойства шлака и сделали все, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов.
Многие сотни километров швов на советских танках были сварены на шлаке маленькой ашинской «старушки».