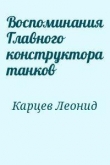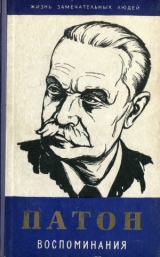
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Евгений Патон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Но эти двадцать заводов лишь тогда смогут пустить установки, когда получат сварочные головки, щиты управления, мощные трансформаторы, флюс, кремнемарганцевую проволоку. И ответственность за изготовление всего этого большого и сложного хозяйства возложена на меня лично.
Через соответствующие наркоматы все заказы уже размещены, и теперь мы снабжаем заводы оборудованием, приборами, материалами. Киевскому заводу «Автомат» поручено изготовить двести сварочных головок по чертежам нашего института. Я помог заводу получить фонды на нужные материалы и моторы, организовал испытание головок на заводе.
Киевский завод «Транссигнал» должен выпустить десятки пультов управления и аппаратных ящиков по нашим чертежам. У этого предприятия трудная миссия: придется применяться к схемам каждой сварочной установки в отдельности по мере их разработки в институте. Остальные заказы получили заводы Ленинграда, Харькова, Донбасса.
Крепко запомнились мне слова Никиты Сергеевича о том, что самое хорошее постановление – это только начало дела. То же самое и с выполнением заказов. Нужно держать все время в поле зрения всю картину в целом, не давать никому отставать, ибо срыв одного заказа может поставить под угрозу выполнение всего постановления.
20 марта 1941 года
Мне присуждена Сталинская премия первой степени «За разработку метода и аппаратуры скоростной автоматической сварки»! Об этом объявлено в газетах. Это для меня не только огромная радость, но и полная неожиданность. Насколько я знаю, Украинская Академия наук не выдвигала моей кандидатуры…
Позавчера в «Правде» напечатана моя подвальная статья «Скоростная сварка». В ней я рассказал не только об истории рождения нашего метода и его преимуществах, но и о том, как он прокладывает себе путь в промышленность, о пионерах этого дела на передовых заводах. Надеюсь, статья вызовет интерес к скоростной сварке и у других. Столичные сварщики уже загорелись. После моего недавнего доклада на их совещании москвичи наметили много конкретных мероприятий.
Так же горячо отозвалась на мой доклад и всесоюзная конференция инженеров и ученых, работающих в области сварки. Теперь, после лестных и приятных слов, будем ждать от них совместной с нами реальной, живой борьбы за новое дело.
По нашему предложению все заводы, перечисленные в постановлении, выделили авторитетных представителей, они пишут нам, приезжают в Москву, и мы держим с ними крепкую связь. Стараемся заглядывать вперед, думаем о будущих хозяевах установок, на курсах при институте в Киеве учатся заводские руководители скоростной автосварки. Со всеми ими я познакомился лично.
Из разных концов страны на заводы поступает и монтируется оборудование. На днях директор завода «Автомат» Топорков привез Малышеву образцы головки и получил солидную премию. Но ему преподнесли не только поощрение, а заодно и подекадный график выпуска и отправки двухсот головок.
На заводах нас стали немного побаиваться: мы не позволяем проявлять даже малейшего пренебрежения к качеству сварочного оборудования. Приходится добиваться точного соблюдения сроков, ведь каждый завод имеет свой основной план, и наш заказ для него «дополнительная нагрузка». Кряхтят, но справляются и делают в общем все на совесть.
Вначале я задумывался над таким вопросом: должен ли всем этим заниматься ученый, должен ли он воевать с теми, кто смотрит на все только со своей ведомственной колокольни? Или, может быть, наше дело дать народу то или другое открытие и затем перейти к новым исследованиям? Ведь наше прямое призвание в этом. Теперь, после нескольких месяцев работы в Москве, сама эта мысль кажется мне дикой. Что может быть в наших советских условиях нелепее фигуры жреца «чистой науки»?
Вот, например, Наркомчермет долго канителил, уклонялся от того, чтобы уменьшить диаметр и вес бухт электродной проволоки, выпускаемой для сварочных автоматов. Заказ долго не передавали заводам. Большие, тяжелые бухты, оказывается, «выгоднее» для них. Какому-то чиновнику лень было возиться с такими «мелочами», и из-за его упрямства могло пострадать все дело внедрения сварки под флюсом.
В «Главстекло» без конца толковали об изготовлении сварочного флюса, но не давали ни одного килограмма.
Какой же прок, спрашивается, был бы от всех наших открытий и самых распрекрасных лабораторных установок, если бы заводы остались без проволоки и флюса? Может ли тут ученый умывать руки, если ему дорога его наука? И как должен поступить я?
И память снова подсказала сказанные Никитой Сергеевичем слова о том, что за каждым новым делом должны стоять и бороться за него люди, влюбленные в свою идею, в свое открытие.
Я написал докладную записку товарищу Малышеву. Составлена она была в колючих и сердитых выражениях, невзирая на то, что касалась весьма ответственных товарищей.
Малышев тотчас назначил генеральную проверку выполнения всего постановления. Наш доклад об итогах этой проверки был немедленно поставлен на заседании совета машиностроения. И всем, кто имел за душой грехи или грешки, пришлось в тот день несладко.
Правда, один из членов коллегии Наркомчермета попытался выгородить своего подчиненного, виновного в срыве выпуска кремнемарганцевой проволоки.
– Какие-то изобретатели сочиняют новые «ОСТы», а отдуваться должны мы, – высокомерно заявил этот оратор.
Я не вытерпел и вскочил с места:
– Вот как! Правительство оценило скоростную сварку, а для вас это одна обуза, «какое-то изобретательство»? Сколько же это еще будет продолжаться?!
Вслед за мной поднялся Малышев. Он кратко, но весьма вразумительно дал понять, что правительство не потерпит такой разболтанности в выполнении его директив. Столь же решительное внушение было сделано товарищам из «Главстекло».
Ох, не хотел бы я в ту минуту быть на их месте!
Результаты крутого вмешательства правительства сказались с разительной быстротой. Завод им. Дзержинского в Днепродзержинске и Белорецкий завод на Урале незамедлительно получили заказ на изготовление двух тысяч тонн электродной проволоки, стекольный завод «Пролетарий» в Лисичанске энергично взялся за выпуск флюса.
30 марта 1941 года
Мы стремимся не к успехам на отдельных участках, а к тому, чтобы решать все вопросы комплексно, двигать дело вперед сразу всем фронтом.
Наряду с применением специальной кремнемарганцевой проволоки велись исследования по сварке обычной малоуглеродистой проволокой в ЦНИИТ-МАШе в Москве, и у нас в институте в Киеве, и на заводе «Электрик» в Ленинграде. Совместные усилия принесли успех. В таком же творческом соревновании-содружестве рождались новые, более совершенные типы флюсов, рассчитанные на применение доступной всем малоуглеродистой проволоки.
Жесткие сроки, предельная конкретность заданий, необходимость проектировать не вообще, а для конкретных заказчиков-заводов, определяли весь характер научной работы в институте.
В 1941 году у нас появилась новая модель сварочной головки «А-66». В сравнении с прежними образцами она обладала бесспорными достоинствами, прежде всего большей надежностью в работе. Мы увеличили скорости подачи электродной проволоки, обеспечили подвод больших токов, устроили надежное копирное приспособление для направления электрода по шву, закрытому слоем флюса.
Такая сварочная головка подвесного типа требует сооружения станка для ее перемещения вдоль свариваемого изделия. Эти станки обычно громоздки и довольно сложны в изготовлении и эксплуатации.
Еще в позапрошлом году мы начали думать над тем, как бы преодолеть это неудобство, ведь оно в значительной мере задерживало дальнейшее развитие автоматической сварки. Особенно нас подхлестывали своими требованиями судостроители. Они нуждались в компактном, удобном и небольшом по весу сварочном аппарате, который перемещался бы вдоль шва собственным ходом, без специального станка. В том же 1939 году в институте родился такой самоходный автомат, который мы назвали сварочным трактором. (Подсказано это название было внешним сходством и тем, что наш автомат двигался по стальным листам, как сельскохозяйственный трактор по полю.) Первые наши тракторы предназначались для сварки обшивки плоскостных секций судовых корпусов и для приварки палубы и днищ.
Когда появилась сварка под флюсом, мы вернулись к этому своему трактору-первенцу. После переработки его конструкции от старой модели осталось немногое. Теперь он был оснащен головкой образца 1941 года, появился бункер для флюса, ходовые бегунки перемещались по разделке шва, а скорость сварки можно было регулировать в пределах от 5 до 70 метров в час.
Но, конечно, этот трактор имел весьма ограниченное применение, пока преобладали станки. Над их проектированием наши конструкторы работали с полной нагрузкой. Это были станки для сварки балок с прямыми швами, для сварки продольных и круговых швов котлов и труб и карусельные станки для сварки круговых швов в горизонтальной и наклонной плоскостях, были также и универсальные установки для всех видов швов.
Никогда еще институт не жил такой полной, насыщенной жизнью, никогда еще наши люди не чувствовали такого удовлетворения. Правда, первые же опыты наглядно показали нам (пусть это даже звучит парадоксом, но это так), что чем больше мы продвигаемся вперед, тем больше встречаем трудностей.
Но зато это были трудности не застоя и болотного прозябания, а стремительного движения к большой цели.
Еще недавно, создав в лаборатории наш отечественный советский флюс, мы чувствовали себя победителями. Но вот завод «Пролетарий» выпустил первую большую партию флюса в 200 тонн… и мы пережили крупный конфуз. Этот флюс, сваренный в пламенной печи завода, оказался негодным. (В институте все опытные сварки производили под флюсом, выплавленным в электропечи.) Для завода дело это было совершенно новым, но и мы, специалисты, не могли объяснить, в чем же загвоздка, где причина неудачи.
Товарищи в институте терялись в догадках, глубоко переживали то, что поиски ничего не дают, бомбардировали меня тревожными письмами и звонками. Я потребовал продолжения опытов, дал некоторые советы, но сам волновался не меньше моих сотрудников. Дело ведь не шуточное, не будет флюса – не будет и скоростной сварки.
А время не ждало. На заводе «Пролетарий» вопрос ставили остро:
– Или вы нас выручите, или мы остановим печь!
В Лисичанск выехал наш научный сотрудник. Заводские товарищи сидели в институте. Результаты опытов они сообщали друг другу и мне по телефону.
И в конце концов настойчивость привела нас к успеху. Догадка о том, что флюс, выплавленный в заводской пламенной печи, недостаточно раскислен, оказалась правильной. Мы предложили внести некоторые поправки в технологию производства, завод принял их, и флюс сразу улучшился, «вошел в анализ».
Теперь мешки с долгожданным флюсом можно было смело отсылать на десятки заводов, которые с нетерпением ожидали, чем же кончатся эксперименты.
Еще раз одержал победу наш девиз:
«Не считай свою научную работу законченной, пока ее не проверила жизнь, практика».
25 мая 1941 года
Теперь можно признаться: сроки, установленные в постановлении, иногда и мне самому казались слишком сжатыми:
– В полгода провернуть столько дел?
Но оказалось, что жизнь в нашей стране опережает самые смелые планы. Сейчас только май, а на многих заводах уже не только смонтировали установки, но и пустили их в ход.
Я последнее время живу «на колесах», не сидится сейчас на месте в удобном кресле.
Побывал в Калинине, Брянске, Подольске, Горьком, Ленинграде – на крупнейших заводах страны. Нигде не упускаю возможности прочесть лекцию для инженеров, показать наш фильм о скоростной сварке (круглая коробка с кинолентой всюду кочует со мной), провести совещание сварщиков-скоростников, причем непременно в кабинете у самого директора завода и с его личным участием.
Устаю я основательно, но зато собственными глазами вижу, как наши головки варят под флюсом огромные котлы, железнодорожные вагоны, крупные балки.
Прямая задача моих поездок на заводы – проверка выполнения постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) о внедрении скоростной автосварки на этих предприятиях.
Интересной была поездка в Ленинград. Один из его крупнейших кораблестроительных заводов сделал уже для себя по нашим чертежам автосварочную установку портального типа и сваривает на ней балки судового набора и другие элементы корпусов.
Балтийский завод производственной автосварочной установки еще не имеет и сварку под флюсом осваивает пока на небольших станках в лаборатории, там же исследуя первые опытные швы. Видно, заводской народ вошел во вкус нового метода и готовится применить его в цехах. Вместо громоздких установок для сварки секций здесь вполне разумно собираются использовать наш сварочный трактор.
На заводе «Электросила» также действует лишь маленькая лабораторная установка, но чувствуется, что тут еще не представляют себе, какую большую помощь сможет оказать скоростная сварка при изготовлении громадных корпусов гидрогенераторов. Я старался направить их мысль в эту сторону. На «Электросиле» меня интересовал и другой вопрос. Совнарком СССР поручил этому заводу разработать образец электрического пылесоса с коллекторным мотором постоянного тока для отсоса остатков флюса после сварки. Такое же задание имел электромеханический завод в Ярославле. На «Электросиле» я ознакомился с ленинградским пылесосом. Вскоре образцы с двух заводов я передал в наш институт для сравнительного испытания. Дело кончилось тем, что электрические аппараты были признаны ненадежными и мы перешли к более простым приспособлениям – форсункам, которые действовали сжатым воздухом из заводской сети. Это толковое предложение внес наш инструктор И. К. Олейник.
Настоящее удовлетворение принесла мне поездка в г. Калинин на вагоностроительный завод. Еще в 1940 году институт спроектировал ему установку для сварки под флюсом больших балок вагонных рам. Сейчас эта установка уже успешно действовала под руководством того же Олейника. Видя, что тут работают люди энергичные и верящие в электросварку, я предложил им спроектировать многоточечную контактную машину для приварки железной обшивки к каркасам цельнометаллических пассажирских вагонов. Дирекция увлеклась этой идеей, и мы начали переговоры.
С вагонным заводом в Мытищах, недалеко от Москвы, мы связывались еще до 1940 года, когда наша группа вагоностроителей изыскивала оптимальную сварную конструкцию пульмановских тележек для Московского метро. Завод изготовил для нас несколько таких тележек, а аспирант института А. Е. Аснис проводил вибрационные испытания их для выяснения наилучшего типа.
Я слышал, что на мытищинском заводе инженеры Штерлинг и Мумриков испытывают в цехе предложенную ими сварку лежачим обмазанным электродом, что они считают ее полуавтоматическим способом и противопоставляют скоростной сварке под флюсом. Я ехал в Мытищи, чтобы подробно ознакомиться с полученными результатами и выяснить, может ли действительно лежачий электрод конкурировать с нашим методом. Но по приезде я не нашел в лице двух заводских инженеров «противников». К этому времени они сами убедились в превосходстве сварки под флюсом, на заводе единодушно отдали ей предпочтение и начали внедрение в производство.
С заводом им. Орджоникидзе в Подольске нас также связывают старые отношения. Еще в 1939 году этот завод заинтересовался сваркой котлов и цилиндрических сосудов для нефтеперерабатывающих заводов. Завод заключил с институтом договор на проект большого роликового стенда для автосварки под флюсом кольцевых и продольных швов в котлах и подобных им цилиндрических сосудах. Эта установка, построенная на месте по нашим чертежам, в те дни уже осваивалась в цехе. Пускал и отлаживал ее инструктор института. Мне, естественно, было интересно проследить за ее работой, и я на автомашине отправился в Подольск. Наш инструктор и местные инженеры продемонстрировали мне установку на ходу. Она оказалась на редкость удачной и удобной и работникам завода очень нравилась. Я немедленно сообщил об этом в Киев П. И. Севбо и настоятельно рекомендовал ему использовать эту установку в качестве образца.
Общее впечатление от всех этих поездок: заводской народ доволен установками, невиданными скоростями и хорошим качеством швов. Сварка под флюсом прекрасно агитирует сама за себя!
Но мы не только обмениваемся комплиментами с производственниками. Скоростная сварка делает лишь первые самостоятельные шаги, и приходится иногда не слишком вежливо внушать должное уважение к ней.
Иные люди думают, что если перед ними автомат, то с ним можно поступать как угодно. Например, на заводе «Красное Сормово» я натолкнулся на такое возмутившее меня зрелище. Небо обложено тучами, моросит дождик, а люди преспокойно варят себе на открытом дворе. Какая уж тут может быть культура сварки!
Устроил форменный разнос, накричал:
– Не приходит же вам в голову ставить на дворе токарные и другие станки?! А станок для автосварки все стерпит?
Мокрый флюс – это полная гарантия того, что в швах образуются лоры. Надо полагать, вид у меня был довольно разъяренный, потому что сварку тотчас же перенесли под навесы…
– А еще говорят «академическое спокойствие»! – пошутил кто-то тогда за моей спиной.
На многих заводах я встречаю наших институтских инструкторов по внедрению автоматической сварки. И. К. Олейник, А. И. Коренной и другие наши товарищи не покидают цехи, пока не пустят установку и не заставят ее работать без капризов.
Теперь я вижу, какая это была счастливая мысль ввести штат таких инструкторов. Кажется, в других институтах их нет. Но и автосварки под флюсом еще совсем недавно тоже не было.
Когда скоростная сварка шагнула из стен института в широкую жизнь, передо мной сейчас же встал вопрос:
– А кто же ее будет двигать дальше, внедрять на заводах?
– А наше ли это дело? Разве этим на самих заводах некому заниматься? – твердили мне даже у нас в институте некоторые сотрудники.
Я был другого мнения.
– Но как же все-таки поступить? Научных сотрудников у нас маловато, да и вряд ли есть смысл на очень долгие сроки отрывать их от основного дела.
Я стал подбирать в институт инженеров-производственников – преимущественно из своих недавних студентов или даже вчерашних дипломантов. Скажу прямо: специалистов по ручной сварке по возможности избегал. Я опасался, что старый опыт, инерция будут тянуть их назад. Поэтому охотнее зачислял людей прямо с вузовской скамьи, и уже в нашем институте мы учили их скоростной сварке.
Мы искали, нащупывали наиболее удобную форму работы, которая способствовала бы внедрению скоростной сварки в производство.
Сначала планировалась посылка на каждый завод комплексной бригады в составе технолога, конструктора и электрика. Но деятельность наша все расширялась, пускать установки нужно было на двадцати предприятиях, а людей не хватало. Приходилось посылать по одному человеку – в роли инструктора. Ни. одного из них я не выпускал на заводы в «самостоятельное плавание», не учинив допроса с пристрастием. Умышленно ставил им «каверзные» вопросы, с которыми можно столкнуться в цехе. Ведь там на инструктора будут смотреть, как на «бога», и оконфузиться ему не подобает.
Но и потом я не давал инструкторам покоя. Сейчас я заставляю их каждые несколько дней писать мне в Москву, немедленно подавать сигнал о всяких неудачах или сюрпризах, смело жаловаться на тех больших начальников, с которыми нам легче справиться тут, в Москве.
Приезжаю на завод я обычно без предупреждения, чтобы увидеть неприкрашенную картину. Например, в Брянске, на заводе имени Урицкого, я застал нашего инструктора Коренного в превеликом смущении. Уже месяц он варил хребтовые балки шестидесятитонных платформ. Режим сварки у инструктора был отрегулирован по всем правилам, и все же в швах неожиданно стали появляться пресловутые поры.
Инструктор гордился тем, что скрупулезно придерживался инструкции, и недоумевал, почему же автомат гонит брак. А ошибка Коренного как раз в том и состояла, что он обожествлял институтский режим, применял его, не сообразуясь с местными условиями производства.
Я немедленно приказал производственную сварку прекратить, вести ее только на образцах, пока поры не исчезнут окончательно. Разобравшись в причинах возникновения брака, я посоветовал, как их устранить.
Через четыре дня поры исчезли.
Вернувшись в Москву, я узнал, что другой наш инструктор – Олейник самостоятельно решил ту же задачу, и тотчас же сообщил Коренному в Брянск об опыте его товарища. Когда со временем Коренному пришлось заняться сваркой котлов в Пензе, я предварительно направил его в Подольск, где это дело было уже налажено одним из наших инструкторов.
Иногда я сам удивляюсь тому, как широко «раздвинулись» стены нашего института. Мы прокладываем дорогу заводам, они подпирают, поправляют нас своим опытом. А общее движение от этого ускоряется.
Я убедился в том, что только такими объединенными усилиями можно достичь настоящего успеха в науке и технике.
Поэтому мне весьма странно слышать жалобы некоторых ученых, которые часто готовы обвинять практиков в том, что те, дескать, недооценивают, не подхватывают их технические идеи. Хорошая идея – это еще далеко не всё… Мы знаем немало случаев, когда из-за пассивности ученого, неуменья бороться за внедрение своего изобретения в жизнь важные открытия годами лежат под спудом.
Найти что-то и похоронить в своих лабораториях, не довести до конца – кому это нужно? Переведите свое открытие на язык техники, на язык производства, доведите его до заводов, поставьте на ноги, сломайте сопротивление тех, кто цепляется за старое, а потом уже хвалитесь победами.
Думаю, что все-таки прав я, хотя подобные мысли не всем приходятся по вкусу.
5 июня 1941 года
В последние дни я получил два весьма полезных урока.
Недавно я записал, что жизнь опрокинула наши опасения о сроках. Вслед за этим она показала мне, что освоение сварки под флюсом двадцатью заводами в первые же полгода – задача в общем скромная в наших советских условиях.
Не только заводы, перечисленные в постановлении, но и многие другие предприятия начали осаждать нас заявками на сварочное оборудование. От них ничего никто не требовал, они сами прослышали о новом методе и, не испугавшись неизбежных хлопот, торопились подхватить его. И мы охотно отдаем комплекты сварочной аппаратуры из своих резервов тем, кто вместе с нами «заболел» этим делом.
Мы чувствовали себя смельчаками, называя цифру «20», а действительность нас опередила. Это хороший урок жизни. Так сказать, урок снизу.
А вот урок сверху. Он также научил меня многому.
Однажды ко мне приехал начальник Главного управления трудовых резервов товарищ Москатов.
Я не сразу догадался о цели его визита. Ведь к вузам, где мы собирались готовить инженеров по скоростной сварке, Москатов касательства не имеет.
– Скажите, – начал он издалека, – верно я слышал? Вы добиваетесь, чтобы сварочные кафедры пяти индустриальных институтов начали немедленно готовить для вас специалистов?
Я кивнул головой.
– Техников и мастеров вы рассчитываете получить из сварочных техникумов?
– Совершенно верно.
– Отлично. А младший командный состав и бойцов откуда возьмете? Сварщиков, наладчиков?
Вопрос этот мне казался элементарно простым.
– Заводы сами подготовят. Да и сколько того народа поначалу понадобится?
Москатов усмехнулся:
– Н-да… А вот правительство смотрит дальше нас с вами. Сегодня действительно нужно немного таких людей. А завтра, а послезавтра? Ведь у нас скоро будут работать тысячи аппаратов по скоростной сварке. В будущее-то мы с вами не заглянули, Евгений Оскарович? Правительство поручило нам уже в июне этого года начать обучение инструкторов-наладчиков. И не как-нибудь, а сразу в двенадцати училищах. Что вы на это скажете?
Что я мог сказать? Передо мной мгновенно раскрылись такие горизонты, что вся наша большая сегодняшняя работа показалась мне первым скромным приступом к чему-то огромному. Тысячи аппаратов, тысячи сварщиков! А ведь всего лишь год назад только три-четыре человека в стране – мои ближайшие помощники, – волнуясь и нервничая, начинали сваривать под флюсом два куска стальной балки.
19 июня 1941 года
Вышла из печати моя книга-учебник по скоростной сварке.
Я писал ее по утрам, вставая на рассвете, и в выходные дни, забирая с собой рукопись на дачу, облюбованную в свое время Алексеем Максимовичем Горьким, на берегу Москвы-реки. Там, в уединении и тишине, дело подвигалось довольно быстро, писалось, работалось легко. Обычно в субботу с вечера я уезжал туда и оставался там на все воскресенье.
Когда книга была закончена, правительство распорядилось, чтобы она была напечатана в небывало короткий срок: в шесть дней!
Спрос на книгу настолько большой, что уже необходимо готовить к печати новое издание! И я предчувствую, что в него придется внести немало капитальных поправок. То, что вчера казалось незыблемым, жизнь бесцеремонно опрокидывает и заставляет пересматривать.
Недавно я побывал в Киеве, проверил, как идет подготовка к строительству нового здания института. Пришлось кое-что изменить в планах и проектах. Надо уже сейчас создавать лаборатории, которые понадобятся завтра, добывать оборудование для разрешения научных тем, которые сегодня обрисовываются еще смутно, но очень скоро встанут перед нами во весь рост.
Да, только шагать с жизнью в ногу – этого мало для настоящей науки, наука должна опережать сегодняшние потребности народного хозяйства, иначе она очень быстро отстанет и выродится.
Прошло шесть месяцев моего пребывания в Москве, может быть, самых насыщенных и напряженных месяцев всей моей многолетней жизни.
Что же сделано за это так быстро пролетевшее полугодие?
Отвечу кратко: постановление партии и правительства об освоении скоростной сварки полностью выполнено всеми заводами, кроме двух. Это одновременно и характеристика работы института.
Наркоматы по нашему предложению составили планы внедрения скоростной автосварки на второе полугодие, а мы свели его в общесоюзный план и, конечно, с резкими поправками на увеличение. Да, то, что сделано, – уже в прошлом, правда, оно дало нам больше опыта и знаний, но теперь все наши помыслы устремлены в завтрашний день.
Особенно интересуют нас заводы Урала. Я долго обдумывал, кого же из. института послать туда, и напоследок решил, что не грех проехаться и самому директору. Правда, путешествие дальнее и для меня обременительное, но зато я увижу Урал с его богатырской индустрией, своими глазами смогу убедиться, насколько изменили его пятилетки. Ведь Урал я знаю только по романам Мамина-Сибиряка, и представления мои о нем, вероятно, безнадежно устарели.
Послезавтра, 21 июня, двинусь в путь.