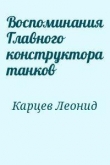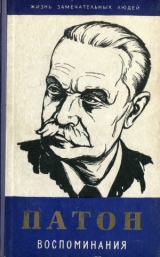
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Евгений Патон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
9. ПОСЛЕ ИСПЫТАНИИ НА ПОЛИГОНЕ
В холодное дождливое лето 1942 года немногие свободные вечера я проводил на огороде.
Поднимая лопатой уральскую глину, я вспоминал чудесную жирную землю на своей даче в Буче под Киевом. Я всегда любил копаться на грядках, окучивать деревья в саду и находил в этом лучший отдых.
Сейчас работа на огороде стала также и необходимостью. Я относился к ней с полной серьезностью. Огороды были у всех сотрудников института, и осенью я вышел победителем в соревновании «за лучший урожай». Моя картошка выросла всем на загляденье, а у некоторых сотрудников – увы! – величиной в орех. Шуток по этому поводу и насмешек было немало, и в последующий год неудачники стали больше налегать на лопату.
В воскресный день в канун Мая, к «картофельно-овощному цеху» подкатил заводской голубой «ЗИС» и, неловко перевалив через кочки, остановился у моего «надела». Из машины выбрался начальник автосварки завода Портнов и быстро подошел ко мне.
– Евгений Оскарович, поздравляю вас от всей души! – торжественно произнес он. – Вы награждены правительством орденом Красной Звезды. Только что получено сообщение.
Я мгновенно забыл о своей картошке и бросил лопату.
Это был мой второй орден, первый я получил до войны – орден Трудового Красного Знамени.
– Скажите, а танкистов награждают Красной Звездой? – спросил я.
– Конечно, – ответил он, – ведь это боевой орден!
Награда обязывала. Чем мы могли ответить на нее? Еще более упорным трудом для приближения победы.
Я критически просмотрел, что сделано нами и заводом для внедрения скоростной сварки.
Установок в цехе становилось все больше, но ведь росла и программа выпуска танков! А цеховым товарищам первые успехи начали кружить голову. Я доказывал им:
– Дело только начато, основная работа – впереди, можно еще многие и многие швы перевести на скоростную сварку.
От начальника корпусного отдела я слышал не раз такие жалобы:
– В цехах острая нехватка квалифицированных ручных сварщиков, от этого страдает качество швов!
И вот тем же летом произошло событие, которому суждено было совершить настоящий переворот в умах заводских инженеров.
Вблизи города на полигоне производились испытания корпуса танка. На одном из его бортов швы были сварены по-старому вручную, на другом – автоматом под флюсом, так же как и все швы на носовой части.
Танк подвергся жестокому обстрелу из орудий с весьма короткой дистанции бронебойными и фугасными снарядами. Первые же попадания снарядов в борт, сваренный вручную, вызвали солидные разрушения шва. После этого танк повернули, и под огонь попал второй борт, сваренный автоматом.
Стрельба велась прямой наводкой с ничтожного расстояния. Семь попаданий подряд!..
Наши швы выдержали, не поддались. Они оказались крепче самой брони и продолжали прочно соединять изуродованные обстрелом броневые плиты. Так же блестяще выдержали проверку огнем швы на носовой части, ни один из них не сдал под шквальным обстрелом. Двенадцать попаданий привели к образованию пробоин на носу, но швы не потерпели никакого ущерба.
Это была полная победа автоматической скоростной сварки! Испытание в условиях, равных самой трудной фронтовой обстановке, подтвердило высокое качество работы автоматов.
Я воспрянул духом. То, во что мы всегда верили, теперь было доказано самым наглядным образом. Результаты обстрела должны убедить всех!
Захватив материалы испытаний, я немедленно отправился к парторгу ЦК ВКП(б) на нашем заводе Скачкову. Прочитав выводы комиссии, проводившей испытания, парторг взволнованно сказал мне:
– Я поражен и еще больше обрадован. Смотрите – здесь прямо записано, что все преимущества на стороне швов, сваренных вашими автоматами, и что необходимо широко применить новый метод скоростной сварки на всех заводах танковой промышленности. Кому-кому, а нам тут и подавно все карты в руки!
Он понимал, что сварка автоматами не только резко увеличивает выпуск танков, но и делает их более стойкими, надежными в бою. А кого это могло не взволновать?
Скачков без промедления созвал у себя совещание коммунистов – командиров производства. Перед этим он долго наставлял меня:
– Вы, товарищ Патон, сделайте короткий доклад, без стеснения отругайте тех, кто успокоился, почил, как говорят, на лаврах, и внесите свои конкретные предложения. – Потом Скачков с улыбкой добавил: – Не смущайтесь своим «беспартийным положением» и не смягчайте критику.
Я, конечно, учел это напутствие в своем выступлении.
Все, кто на совещании попал под огонь, сразу «подняли руки». Интересы ведь у нас у всех были общие, и теперь, после полигонных испытаний, аппетит к автосварке у заводского народа сразу же вырос. Результаты обстрела произвели большое впечатление на начальника корпусного отдела. Тут же на совещании между нами был заключен союз.
– Дружба? – сказал начальник отдела Сойбельман.
– Дружба! – ответил я. – За нами дело не станет.
– Встретимся завтра и вместе разработаем совместный план действий, – предложил он.
Начальник отдела был человек волевой, суровый и очень требовательный. За малейшее невыполнение его приказов он беспощадно спрашивал со своих подчиненных. Хозяйство, которым он руководил, было очень внушительным, под его командой, кроме других цехов, находились два механических цеха. На совещаниях, которые этот инженер созывал у себя, он резко распекал провинившихся и, видимо стесняясь посторонних, меня на эти совещания никогда не приглашал. Отличался он, правда, и изрядным упрямством и не очень охотно шел на всякие новшества. Но если уж загорался чем-нибудь, то проводил намеченное в жизнь со свойственной ему энергией и крутостью характера.
Так оно случилось и на этот раз. Как только начальник отдела полностью уверовал в автосварку, его отношение к ней сразу переменилось. Мы договорились с ним о совместном изготовлении и пуске новых станков и в первую очередь аппаратов «АСС» на конвейере.
В течение августа – сентября мы ввели в строй одиннадцать новых установок для скоростной сварки. Парк действующих автоматов сразу вырос втрое!
Разделение труда у нас было таким: институт проектировал станки, давал сварочную и флюсовую аппаратуру, проводил электромонтаж и пуск станков. Мастерская института к тому времени уже приобрела солидный и современный вид. Отдел готовил несущие конструкции, приспособления и кондукторы.
Наши сотрудники посмеивались:
– Роли переменились! Только и слышишь в цехах: а нельзя ли вот и эту работу передать автоматам? И нажимают: вы нам дайте то, посоветуйте это…
Инструкторов теперь не хватало. Я снова пересмотрел личный состав института и перевел в цех всех, кто подходил по своим знаниям, складу характера, умению работать не только головой, но и руками. Это были вначале Георгий Волошкевич, Лия Гутман, Борис Патон, а затем Даниил Рабкин, Александр Супрун, Борис Медовар. Дополнительная мобилизация «внутренних человеческих ресурсов» сразу же сказалась на положении в цехах.
Завод нуждался уже во многих десятках автосварщиков. В те годы на оборонные заводы приходили и приезжали мужчины и женщины разных профессий, возрастов, биографий, всех их роднило одно чувство – желание отдать свой труд Родине на самом нужном и тяжелом участке.
Среди автосварщиков также были разные люди: студент театрального техникума, учитель математики из сельской школы, колхозный чабан из Дагестана, хлопковод из Бухары, художник из украинского города, захваченного гитлеровцами. Рядом с его установкой всегда стояла банка с краской. Заварив шов на носу танка, он выводил кистью на броне такие лозунги:
«Советские воины! Еще смелее громите врагов, гоните их с советской земли!»
«Вперед на Запад, герои-танкисты!»
Основные кадры «автоматчиков» набирались из молодежи, юношей и девушек шестнадцати-восемнадцати лет, приехавших из ближних и дальних районов страны.
На сварке башни работали девушки из Марийской автономной республики. Помню, как они впервые появились в цехе. Их вел мастер, показывал установки и объяснял, чем мы тут занимаемся, а девушки жались друг к другу, с испугом смотрели на краны, проносившие над головой огромные туши танковых корпусов, затыкали уши от стоявшего в цехе грохота. На глазах у одной из них я видел слезы. Они впервые попали на завод, да еще такой, и основательно перепугались.
Несколько девушек отдали под начало Софьи Островской. Поначалу они всего страшились, медленно привыкали к обстановке цеха, включая автомат, зажмуривали глаза, отдергивали руку, а при вспышке дуги закрывали ладонями лицо.
Сперва им не удавалось сварить больше двух мостов в смену. Но Островская учила их терпеливо и настойчиво, и скоро ее подшефные стали неузнаваемыми, начали работать самостоятельно. Как-то она пришла проведать девушек, и те с гордостью доложили своему первому инструктору:
– Свариваем сейчас в смену по восемь мостов! Разве мы не молодцы, Софья Аркадьевна?!
Работали они добросовестно и тщательно выполняли все указания мастеров.
На автоматическую сварку бортов поставили девушек из Курской области. Очень живые, смышленые и грамотные, они быстро освоились со своей работой, всегда много смеялись и пели. Они завели у себя веники и щетки и содержали рабочие места с чисто женской аккуратностью. Не выполнить план было для них самым большим горем, но это случалось редко.
Как правило, где-нибудь на автомате, в месте, не доступном для постороннего глаза, эти замечательные девушки навешивали замысловатый бантик или вырезанную из журнала картинку. Возраст брал свое…
Юноши работали главным образом на сварке узлов носа, на сварке шахтных труб и на конвейере. Очень много было ребят с Украины, которых война заставила сразу стать взрослыми. Мальчишки подходили к автоматам с солидным видом, сразу же обнаруживали в них сходство с какой-нибудь ранее знакомой машиной, обязательно вносили «рационализаторские предложения» или даже наводили критику. Своей специальностью они гордились чрезвычайно и сверху вниз смотрели на старых, опытных ручных сварщиков:
– У нас техника, а у вас что?
Некоторые из этих наших земляков были очень небольшого роста. Чтобы дотянуться до пульта управления, они подставляли под ноги ящики. Первое время им приходилось очень трудно, но они вели себя храбро и гордо, не хотели отставать от отцов, работавших на том же заводе, и проявляли особое упорство. И они добились того, что им первым доверили самостоятельную работу на сварке шахт двигателя. Задание они всегда значительно перевыполняли. Многие ребята через шесть-десять месяцев перешли в наладчики, а один даже стал мастером смены. Среди этой молодежи, относившейся к своему труду со взрослой серьезностью и юношеским энтузиазмом, знаниями, дисциплиной и культурой поведения выделялись воспитанники ремесленных училищ.
Наши инструкторы горячо любили ребят, а те платили им взаимностью. Дружба эта дала свои большие результаты, – полудетские руки прекрасно справлялись с выпуском грозного оружия для родной Красной Армии. Это стало возможным только при наличии автоматов.
10. ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В семье, в домашней, личной жизни, в своих отношениях с приятелями человек может быть мягким, уступчивым, терпимым к чужим слабостям. Другое дело на работе. Там, где он отвечает за успех дела, доверенного ему народом, названные свойства характера часто могут оказаться вредными. К руководителю это относится вдвойне. Требовательность и умение оперативно контролировать выполнение порученного дела – важнейшее качество.
Но прежде всего нужно условиться, что понимать под этим.
Я считаю, что никакие приказы и требования руководителя не имеют настоящей моральной силы, если он не применяет их к самому себе. Никто никогда не должен иметь основания не то что сказать, но даже подумать: «С меня спрашиваешь, а сам-то каков!»
На Урале я требовал от своих сотрудников полного напряжения всех сил. Самые старшие из них были почти вдвое моложе меня, но я не делал для себя никаких скидок на возраст и здоровье.
В любую погоду, в снежный буран, трескучий уральский мороз, проливной дождь, я появлялся в цехе ровно в девять часов утра. И непременно сначала в цехе, а не в лаборатории или в так называемом кабинете. Кабинетом это помещение можно было назвать только условно. Я сидел в общей комнате, вместе с другими сотрудниками, и хотя это было вызвано теснотой, но такое постоянное соседство имело и свои достоинства – оно помогало никогда не отделяться в то трудное время от людей, всегда, каждую минуту жить в коллективе, в постоянном общении с ним. Правда, в этом «кабинете» мы все проводили очень мало времени. Я никому не позволял засиживаться там и мало считался со званиями и степенями.
Я участвовал в монтаже и освоении каждой сварочной установки. И следил за ними до тех пор, пока не изживались все трудности пускового периода. Там, где все шло хорошо, показывался редко, там, где возникали трудности или намечалось отставание, бывал регулярно.
Никогда не ждал, чтобы пришли и доложили о том, что «все в порядке». Когда испытывалось какое-нибудь нововведение на наших установках, я старался пойти в цех без «автора». Это давало возможность услышать прямое, откровенное мнение заводских людей.
В то время в институте не было ни заместителя директора, ни ученого секретаря, ни начальника отдела внедрения. Приходилось самому руководить разработкой новых тем, планировать работу, вести обширную переписку с заводами и наркоматами, ведать лабораторией, мастерскими, инструкторами в цехах и т. д.
Несмотря на такую загрузку, я никогда не позволял себе «сплавить», переадресовать какое-нибудь дело по. инстанции, а непременно лично поручал его тому или иному работнику, и сам следил за выполнением во всех подробностях, не упуская так называемых мелочей.
Однажды молодой сотрудник шутливо упрекнул меня в том, что я оцениваю силы своих учеников мерой собственной работоспособности. Это, дескать, для них не очень удобно.
Я ответил ему:
– Силы человека зависят от того, насколько он чувствует ответственность за свою работу. Осознайте полной мерой эту ответственность, и вы сразу увидите, на какие большие дела способны!
Я никогда не вырабатывал никакой специальной педагогики или методов воспитания людей. Видимо, эти взгляды и приемы сложились сами собой за долгие десятилетия работы с молодежью. Я всегда стремился прививать ей чувство ответственности, без которой нет настоящей любви к делу.
Однажды произошел такой памятный случай. В сопровождении начальника корпусного отдела я пришел в цех во время обеденного перерыва. Здесь на одной из первых установок по сварке бортов, где еще только осваивалось дело, работал наш инструктор. Сейчас он находился в столовой, но возле станка суетились люди, слышны были нервные возгласы.
Я почувствовал, что случилось что-то скверное, и бросился к установке. Из нее столбом валил дым. Заводской электрик совершенно растерялся и не знал, что предпринять.
Мне сообщили, что инструктор, уходя на обед, разрешил заводскому мастеру продолжать в его отсутствие сварку, а тот натворил каких-то бед.
Через весь цех к автомату уже бежал виновник происшествия. В одно мгновение он рванул рубильник на щите, выключил ток. Мотор был спасен, на нем только сгорел лак. Инструктор повернулся ко мне, вытер мокрый лоб и попытался прочесть в моем взгляде одобрение своим действиям.
– Объявляю вам выговор по приказу за халатное отношение к работе, за оставление без присмотра действующей установки.
Он буквально онемел. Я понимал, что сейчас в нем вспыхнуло чувство обиды, что в эту минуту он, возможно, считает меня несправедливым и вспыльчивым человеком. И все же я был уверен, что поступаю правильно.
Инструктор стоял, прикусив губу. В этом человеке я ценил его практическую хватку, его умение работать на производстве. И именно поэтому не мог простить ему самовольничания.
Через несколько дней мы вместе с этим сотрудником возвращались ночью с заседания заводского партийного комитета, где получили поддержку. Настроение у меня было хорошее, и инструктор это чувствовал. Момент показался ему подходящим. Зная мою нелюбовь к предисловиям, он сразу приступил к делу:
– У меня к вам большая просьба, Евгений Оскарович. Я давно работаю с вами, никогда не имел взысканий. А вот вы на днях… В общем, если можно, не записывайте.
– Э-э, нет, батенька, это не могу. Поговорим о чем-нибудь другом.
– Но ведь я все понял, осознал свою вину. Я ведь не мальчик… И аварию предотвратил сам.
– А ведь она легко могла случиться. Напрасно вы меня просите, напрасно. Хорошо вы сейчас работаете, но… нет, нет, не могу!
Сотрудник опустил голову и молча шагал рядом со мной по разбитым мосткам-тротуарам.
– Вы еще благодарить меня за этот выговор будете.
Через полтора года этот товарищ по моему предложению был среди других сотрудников института награжден орденом «Знак Почета».
Расскажу еще один эпизод. Это было в самом начале работы института на танковом заводе. Наши автоматы тогда действовали на единственном участке – сваривали борты. Задел бортов исчерпался, цех испытывал большие трудности с броней. Две установки, работавшие до этого с полной нагрузкой и в три смены, перешли на «голодный паек». Это легко могло породить у сотрудников института настроение неуверенности. Я не сомневался в том, что заводу не дадут остановиться, что броня скоро начнет прибывать в нужном количестве. Важно было такой же уверенностью заразить всех товарищей. Одними разъяснениями этого добиться нельзя было.
Придя как-то к одному из наших сотрудников на участок бортов, я увидел бездействующие станки.
– Почему стоите?
– Нет брони.
– А что вы предпринимаете?
– Ставил вопрос в цехе, добивался брони у начальства.
Я повысил тон:
– Значит, мало добивались! Надо не жаловаться, а бороться, настаивать, чтобы вас не обходили, не отдавали борты ручникам! А вы, наверное, сидите ждете…
Сотрудник знал, что дело вовсе не в его настойчивости, и отвечал спокойно:
– Брони нет на заводе.
Но и я не сдавался:
– Сегодня нет, завтра будет. Мало интересуетесь, не смотрите вперед, живете сегодняшним моментом. Никуда это не годится!
Конечно, я сгущал краски и делал это намеренно. Я почти наверняка знал, что теперь инструктор потеряет покой.
И в самом деле, уже вечером начальник отдела рассказал мне, что этот сотрудник явился к нему, передал весь наш шумный разговор, настойчиво требовал броню для своего участка и не хотел слушать никаких объяснений.
Через несколько дней мы снова встретились с этим инструктором.
– А брони все нет, – огорченно проговорил он.
– Сегодня нет, завтра будет. Скажите лучше, что вы делаете, как готовитесь к получению брони? – спросил я его.
– Как готовлюсь? – с недоумением повторил он.
– Конечно. Придет броня, а вы тогда начнете приводить установки в порядок, проверять схемы? Смотрите, скоро, очень скоро брони будет в избытке, а мы тогда примемся проверять все и налаживать? Вот если тогда будем стоять, – сраму не оберемся.
Лицо инструктора просветлело. В эту минуту он, наверное, понял, чего я добивался от него все время. Он ответил мне очень кратко:
– Да, готовиться нужно уже сейчас. Разрешите мне идти заняться делом.
Надо сказать, что этот инструктор сделал все, что от него требовалось, и с полной добросовестностью. Вряд ли я добился бы того же результата одним только приказом.
Прививать чувство ответственности нужно, начиная с мелочей, с повседневного контроля. Как-то я передал одному из младших научных сотрудников такую записку:
«Продумайте систему оплаты сварщиков на конвейере, чтобы заинтересовать их в автосварке».
Дело было в том, что я задумал выплачивать сварщикам, освоившим автоматы на конвейере, нечто вроде дополнительной премии от института и решил привлечь своего сотрудника к подготовке этого начинания.
До войны он участвовал в первых опытах по сварке угловых швов, и я, вспомнив об этом, поручил именно ему заняться освоением производственной сварки таких швов в условиях потока. Мысли об угловых швах преследовали теперь инструктора и днем и ночью. И сунув мою записку в карман, он просто-напросто забыл о ней. Рассуждал он, наверное, так: «За день-два все равно ничего не случится, а сейчас есть у меня дела более срочные и важные».
Но я не забыл о своей записке и на третий, день появился на конвейере. Увидев меня, инструктор, очевидно, сразу вспомнил о своем «должке» и, чтобы отвлечь мое внимание, начал поспешно и с преувеличенным оживлением расхваливать «одно интересное приспособление, которое мы сегодня решили применить…»
Я терпеливо выслушал, одобрил приспособление, а затем перешел к цели своего визита:
– Ну, а теперь вы мне свои предложения давайте.
Сотрудник сманеврировал:
– Какие предложения?
– Будет вам, батенька! Ваши предложения по оплате сварщиков.
Инструктор густо покраснел и не пробовал даже оправдываться.
С тех пор я не помню случая, чтобы он подвел меня или проявил неаккуратность.
Требовательность, о которой я говорю, ни в коем случае не должна порождать в руководителе черствости, сухости или шаблонного подхода к человеку. Ведь сколько людей, столько и характеров. Чем глубже узнаешь их особенности, наклонности, тем легче работать с ними. Да и у одного и того же человека может быть сегодня такое психологическое состояние, что к нему необходим другой подход, чем вчера. Если постоянно не учитывать этого, требовательность и строгость могут дать только отрицательные результаты.
Один из наших сотрудников, работавших в цехе, дошел до крайнего утомления, нервы у него основательно развинтились. На беду с ним случилось еще и неприятное происшествие.
Однажды он находился внутри корпуса танка и, увлеченный работой, не заметил, что на обтирочные концы, сунутые в карман халата, попала искра. Перепачканные в масле и бензине концы вспыхнули, и через несколько секунд загорелся халат. Все, к счастью, обошлось благополучно, без серьезных последствий. Но для инструктора это, видимо, была та последняя капля, которая переполнила чашу.
Через несколько дней у меня проходило очередное оперативное совещание. Я обратился к инструктору, о котором идет речь, с каким-то заданием. Он встал и в резком тоне заявил:
– Я там больше работать не буду. Не могу.
Я спокойно спросил его:
– А кто же там будет учить людей?
– Не знаю, – резко ответил сотрудник, – кто угодно, только не я.
Все участники совещания с изумлением уставились на своего товарища. В нашей среде отказ от поручения, да еще в такой вызывающей манере, был неслыханным инцидентом. Все, видимо, ожидали от меня бури. Но я только внимательно посмотрел на сотрудника и, ни слова не ответив ему, обратился к остальным:
– Так, товарищи, перейдем к следующему вопросу…
Герой этого эпизода до конца заседания сидел молча, насупившись, и смотрел под стол или в сторону.
Вечером он явился ко мне. Щеки его пылали.
– Евгений Оскарович! Извините меня, если можете, забудьте мою выходку. Устал. Нервы.
Я быстро встал и пошел навстречу инструктору.
– Что вы, что вы… Я ведь уже забыл. В работе все бывает. Идите трудитесь, желаю вам успеха.
И я поспешно отправил этого человека, чтобы избавить его от дальнейших извинений и того неловкого чувства, которое неизбежно с ними связано.
Конечно, тогда на совещании я мог легко сломить сопротивление этого сотрудника и не посчитаться с его психологическим состоянием. Но кто знает: может быть, одновременно я сломал бы, разрушил бы что-то очень важное в его душе и тяжело травмировал бы человека?
Чувство ответственности в моем понимании – это не просто исполнительность и добросовестность. Такие качества очень ценны сами по себе. Но мне кажется, что неправильно поступают те ученые, которые стремятся сформировать из своих учеников только исправных исполнителей чужих идей, а не самостоятельных, инициативных, творческих исследователей. Часто такие ученые сами прекрасно умеют работать, но вокруг них пустота.
Каждое научное учреждение обязано «творить людей»! Грош цена тому научно-исследовательскому институту, который держится и живет одним лишь именем своего директора, одной лишь его научной репутацией.
Нужно развивать, укреплять у молодежи веру в себя, в свои силы, свои возможности. Это, конечно, не простое дело. Необходимо методично вырабатывать, воспитывать в своем характере настойчивость и упорство, не бояться длительной черновой работы, риска, первых неудач. Поражение означает, в большинстве случаев, только недостаток желания.
Иногда нужно заставить человека пойти против себя, против своей инертности или минутной слабости, заставить его изменить свои старые представления о границах возможного и невозможного. Ему кажется, что он уже все перепробовал, все испытал, и крайне важно поддержать его в такой критический момент, открыть перед ним новые перспективы.
В различных главах этих воспоминаний я привел уже много примеров, которые подтверждают правильность моей мысли.
Очень редко нам удавалось найти удачное решение той или другой важной задачи сразу же, в первом же варианте.
Обычно первый вариант – это то, что приходит в голову вначале, сразу же, то, что лежит на поверхности. Как правило, я требовал от товарищей нескольких вариантов.
Случалось и так, например, что при разработке новой конструкции станка или механизма в отвергнутом варианте нам нравилась какая-то одна находка, частность, деталь. Но она давала толчок правильной мысли, и вокруг этой мысли начиналось обрастание, наращивание…
Я уже рассказывал о том, как работали наши конструкторы в период войны. Сама профессия конструктора как бы уже предопределяет постоянное стремление к исканиям. Но на практике не всегда так бывает. Иногда конструктор, лишенный подлинной творческой жилки, становится на путь перепевов старого, компиляций или одних только мелких улучшений.
Мы отвергли такой путь. Наши конструкторы учились ставить перед собой большие задачи и скоро убедились, что работать над ними куда интереснее. Но для этого нужно суметь мужественно пройти через все ошибки, разочарования, ничего не бросать на полдороге, доводить дело до конца.
Бывали у нас такие случаи. Ставишь задание. Конструктору оно кажется непосильным, даже нереальным. И вот слышишь в ответ:
– Это же не выйдет… Неосуществимо это.
Ясно, что человек испуган необычным поручением, не осмыслил его. Уходит он от тебя со смутным и тяжелым чувством, с уверенностью, что ему навязали неприятную обузу.
В назначенный срок мы рассматриваем чертежи или первую модель.
Сам конструктор весьма низкого мнения о своем детище:
– Ничего у меня не вышло, получилась громоздкая штука. Все это еще очень далеко от замысла и вряд ли к нему приблизится со временем…
В душе он надеется, что мы забракуем его работу, и он сможет обратиться к другому делу, более реальному и перспективному на его взгляд. Но мы безжалостно разрушаем все его «мечты»: критикуем сурово, жестоко, подсказываем все, что можем, и… требуем нового варианта.
Проходит время. Где-то после третьего или четвертого варианта, после всяческих мук и огорчений, настроение нашего конструктора круто меняется. Исчез тусклый взгляд, в глазах – воинственные огоньки, он уже с темпераментом отстаивает свое решение, спорит с нами, требует проверки на опытных образцах.
Теперь все в порядке! Человек загорелся, увлекся, вошел во вкус, задание перестало для него быть «капризом» директора, превратилось в близкую и родную идею, в собственное, личное дело.
Этого-то я и добивался!
Наконец победа, удача, механизм создан, опробован в цехе, хорошо показал себя на работе. Мастерская начала изготовлять его в серийном порядке.
Конструктор торжествует, воодушевленно твердит товарищам:
– А что я вам говорил? Видите – вышло! А вы все критиковали и придирались…
Он уже забыл, как в первые дни приходил ко мне (и не раз) и уговаривал отказаться от заказа, написать на завод, что выдумывать всякие замысловатые объекты для сварки легко, а вот сконструировать для них станки и аппаратуру – дело совсем другое.
Разумеется, я никогда не напоминал об этих просьбах.
До войны считалось, что угловые швы тавровых и нахлесточных соединений можно варить только в положении «лодочки», то есть при вертикальном положении электрода. Я настойчиво добивался от наших технологов, чтобы они научились варить швы без «лодочки» и разработали технологию этого вида сварки для промышленности. Товарищи очень долго тянули дело, считая его вообще мелочью, и не понимали, почему я «увлекаюсь таким второстепенным вопросом».
И только сейчас, встретившись с производством, они увидели свою ошибку. На конвейерной тележке лежал огромный по габаритам и весу танковый корпус, и повернуть его в удобное для автомата положение нельзя было. Ручному сварщику было куда проще. Он мог приспособиться как угодно, а при сварке автоматами возникали всяческие неприятности, жидкий металл вытекал, шов формировался неправильно.
– Что же делать?
Создавать мощные, громоздкие приспособления для поворота многотонных танковых корпусов? На это пойти нельзя.
Теперь мне никого не нужно было убеждать в значении работы, которой товарищи еще не так давно пренебрегали. Наши технологи вели упорные поиски, начали применять многослойную сварку, особый флюс, помогавший правильному формированию шва, и прочее. Особое значение приобретало создание копира – приспособления, направляющего конец электрода по разделке шва. Задача была трудной и в конструктивном и в технологическом отношении. Эту работу я поручил одному из молодых, но знающих и упорных сотрудников.
Не раз у него опускались руки, не раз он отчаивался и готов был сложить оружие. Ободрять и воодушевлять его приходилось часто. Много вариантов мы с ним перепробовали, неоднократно меняли подход к делу и все же добились своего. Копир получился удачным, автомат варил теперь угловые швы наклонным электродом при горизонтальном положении корпуса. Тысячи танков были сварены нами таким образом. Наши технологи, в том числе и создатель копира, получили еще один предметный урок, еще раз осознали, что если по-настоящему «заболеть» идеей, смело вторгнуться в новую область работы, действовать самостоятельно и творчески, то никакие трудности не будут страшны.
В конце 1943 года правительство наградило орденами и медалями большую группу научных сотрудников нашего института. Ордена получили П. И. Севбо, А. М. Сидоренко, А. У. Коренной, И. К. Олейник, Б. Е. Патон; медали – Ф. Е. Сороковский, М. Н. Сидоренко, Г. 3. Волошкевич, А. М. Макара и С. А. Островская. Многие наши товарищи были занесены на заводскую Доску почета, многие отмечены приказом наркома танковой промышленности. Среди них и те, о ком шла речь в этой главе.