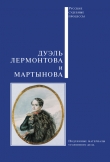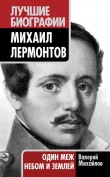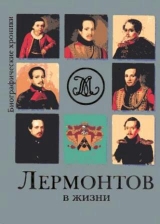
Текст книги "Лермонтов в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств современников."
Автор книги: Евгений Гусляров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
П. А. Висковатов. С. 235
Лермонтов пробыл в Петербурге до мая, с Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками, несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени», начатый еще прежде, но оконченный в последний приезд в Петербург. В публике существует мнение, будто в «Герое нашего времени» Лермонтов хотел изобразить себя, сколько мне известно, ни в характере, ни в обстоятельствах жизни ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым, кроме ссылки на Кавказ. Идеал, к которому стремилась вся праздная молодежь того времени: львы, львенки и проч. коптители неба, как говорит Гоголь, олицетворен был Лермонтовым в Печорине. Высший дендизм состоял тогда в том, чтобы ничему не удивляться, ко всему казаться равнодушным, ставить свое я выше всего, плохо понятая англомания была в полном разгаре, откуда плачевное употребление Богом дарованных способностей. Лермонтов очень удачно собрал эти черты в герое своем, которого сделал интересным, но все-таки выставил пустоту этих людей и вред (хотя и не весь) от них для общества. Не его вина, если вместо сатиры многим угодно было видеть апологию.
А. П. Шан-Гирей.С. 752
Хотя Лермонтов в это время часто видался с Жуковским, но литературное направление и идеалы его не удовлетворяли юного поэта. «Мы в своем журнале, – говорил он, – не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их».
А. А. Краевский.
Цит. по: Висковатов П. А.С. 448
В начале 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. Я не знал еще о его недавнем приезде. Однажды, часу во втором, зашел я в известный ресторан Леграна, в Большой Морской. Я вошел в бильярдную и сел на скамейку. На бильярде играл с маркером небольшого роста офицер, которого я не рассмотрел по своей близорукости. Офицер этот из дальнего угла закричал мне: «Здравствуй, Лонгинов!» – и направился ко мне, тут узнал я Лермонтова в армейских эполетах с цветным на них полем. Он рассказал мне об обстоятельствах своего приезда, разрешенного ему для свидания с «бабушкой». Он был на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский beau monde (большой свет) встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро после бала его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с «бабушкою», а что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздерживаться от посещения таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении: «Я не хочу, чтоб свет узнал...»
М. Н. Лонгинов 2 . С. 292
По возвращении в Петербург Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского.
А. П. Шан-Гирей.С. 752
Во все продолжение времени, которое Михаил Юрьевич прожил в Петербурге, в начале 1841 года, всего около трех месяцев, он был предметом самых заботливых попечений о нем со стороны друзей, которые группировались вокруг него, и он в ответ на это дарил их своим доверием и братской откровенностью.
П. К. Мартьянов 1. Т. 2. С. 93
Не помню, жил ли он у братьев Столыпиных или нет, но мы стали еженощно сходиться. Раз он меня позвал ехать к Карамзиным: «Скучно здесь, поедем освежиться к Карамзиным». Под словом «освежиться», он подразумевал двух сестер княжон О(боленских), тогда еще незамужних.
П. А. Вяземский.Записные книжки (1813—1848).
М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 274
Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочке, в которой сначала было отказано, а потом они были взяты штурмом благодаря высокой протекции.
Е. П. Ростопчина – А. Дюма
...Я слышал следующий анекдот о Лермонтове: пригласил он на вальс графиню Ростопчину. «С вами? – сказала она, – после», но отмщение не заставило себя долго ждать; в мазурке подводят ее к нему с другой дамой. «Мне с вами», – объявила графиня. «С вами – после», – был ответ Лермонтова.
А. Чарыков.К воспоминаниям о М. Ю. Лермонтове //
Исторический вестник. 1892. Т. 48. С. 815
Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было достаточно довольно, чтобы связать нас дружбой... Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром и вечером, что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах, мы вместе над ними вдоволь посмеялись и, таким образом, вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени.
Е. П. Ростопчина – А. Дюма
В самых близких и дружественных отношениях был он с остроумною графинею Ростопчиной, которой поэтому было бы легче всех дать верное представление о его характере.
Фр. Боденштадт.Воспоминания из моей жизни //
М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
М.: Худож. лит., 1964. С. 300
Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружеской обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости.
Е. П. Ростопчина – А. Дюма
Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», то, аллах-керим, что за вещь: пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских.
В. Г. Белинский – В. П. Боткину.
13 марта 1841 г.
...Начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург на половине Масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал.
Лермонтов – Д. С. Бибикову.
Конец февраля 1841 г.
«Как-то вечером, – рассказывает А. А. Краевский, – Лермонтов сидел у меня и полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы для своих будущих сочинений. Мы расстались с ним в самом веселом и мирном настроении. На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он, в буквальном смысле слова, катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» – спрашиваю у Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки – любил школьничать! Раз он потащил в маскарад, в дворянское собрание, взял у кн. Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира, спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. Приезжаем, он сбрасывает шинель, надевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и снова убегает. По прошествии известного времени он снова тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: «Да скажи ты, ради Бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!» Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты! Мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку».
П. А. Висковатов.С. 456
Сначала было приказано выехать из Петербурга через сорок восемь часов, то есть в столько времени, во сколько может быть изготовлена новая форма, да опять спасибо бабушке: перепросила и, кажется, наш Маёшка проведет с нами и Пасху.
В. П. Бурнашев. Стб. 1775
Один из членов царской фамилии пожелал прочесть «Демона», ходившего в то время по рукам в списках, более или менее искаженных. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению. Через несколько дней он получил ее обратно, и это единственный экземпляр полный и после которого «Демон» не переделывался.
А. П. Шан-Гирей.С. 752
Автограф этой поэмы поэт приготовил и привез с собой в Петербург в начале 1841 года для доставления удовольствия бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой, прочитать «Демона» лично, за что она и сделала предупредительному внуку хороший денежный подарок.
П. К. Мартьянов 1. Т. 2. С. 93
Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году: он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. «Однако ж, – сказал он мне, – я чувствую, что во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда вместе давай издавать журнал». Он уехал в ночь. Вскоре он был убит.
В. А. Соллогуб. С. 378
А каковы новые стихи Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути.
В. Г. Белинский – В. П. Боткину.
13 марта 1841 г.
После чаю Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновении срока своего отпуска.
П. А. Плетнев – Я. К. Гроту.
13 апреля 1841 г.
Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце.
Е. П. Ростопчина – А. Дюма
За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у «пяти углов» и предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека», звали ее Александра Филипповна, почему она и носила прозвище «Александра Македонского», после чьей-то неудачной остроты, сопоставившей ее с Александром, сыном Филиппа Македонского. Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, со своей стороны спросил: будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Лермонтов очень этому смеялся, тем более что вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о вероятии отставки. «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят», – говорил он. Но когда неожиданно пришел приказ поэту ехать, он был сильно поражен. Припомнилось ему предсказание. Грустное настроение стало еще заметнее, когда после прощального ужина Лермонтов уронил кольцо, взятое у Соф. Ник. Карамзиной, и, несмотря на поиски всего общества, из которого многие слышали, как оно катилось по паркету, его найти не удалось.
П. А. Висковатов. С. 323—324
Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюдное, многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери (речь идет о вдове Пушкина Наталье Николаевне. – Е. Г.), завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью.
Он точно стремился заглянуть в тайник ее души и, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем не повинных людей.
Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением, она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления... Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.
А. Н. Арапова.Н. Н. Пушкина-Ланская //
Новое время. Иллюстрированное приложение. 1908. № 11432. 9 янв.
Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе перевел мне шесть стихов Гейне: «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в императорской Публичной библиотеке.
П. П. Вяземский.
Собрание сочинений. СПб., 1893. С. 627
Срок отпуска Лермонтова приближался к концу; он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так еще неизданных и составили связку. «Когда, Бог даст, вернусь, – говорил он, – может, еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить». Бумаги эти я оставил у себя, остальное же, как ненужный хлам, мы бросили в ящик. Если бы знал, где упадешь, говорит пословица, соломки бы подостлал, так и в этом случае: никогда не прощу себе, что весь этот хлам отправил тогда же на кухню под плитку.
А. П. Шан-Гирей.С. 753
При последнем своем отъезде на Кавказ 2 мая 1841 года Лермонтов никаких рукописей с собою не взял, но все бумаги, в том числе и поэму «Демон» в 2 экземплярах, собственноручную рукопись и возвращенный А. И. Философовым список, оставил у Акима Павловича Шан-Гирея, сказав ему: «Демона» мы печатать погодим, оставь его пока у себя».
П. К. Мартьянов 3. С. 203—210
Лермонтов был когда-то короткое время моим товарищем по университету. Нынешней весной, перед моим отъездом в деревню за несколько дней я встретился с ним в зале Благородного собрания, – он на другой день ехал на Кавказ. Я не видал его десять лет и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. Он был грустен, и, когда уходил из собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце – так мне жаль его было.
В. И. Красов – А. А. Краевскому.
Июль 1841 г.
Вместе с ним на Кавказ ехал его приятель и общий наш товарищ А. А. С(толыпи)н. Они оба у меня обедали и провели несколько часов. Лермонтов был весел и говорлив, перед вечером он уехал. Это было 15 апреля 1841 года, ровно за три месяца до его кровавой кончины.
А. М. Меринский 3. С. 656
Второго мая к восьми часам утра приехали мы в Почтамт, откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». «Какой ты еще дитя, – отвечал он. – Ничего, все перемелется – мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров».
Это были в жизни его последние слова ко мне, в августе мы получили известие о его смерти.
А. П. Шан-Гирей.С. 753
Итак, я уезжаю вечером. Признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено длиться вечно... Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать.
Лермонтов – С. Карамзиной.
Ставрополь, 1841 г.
...Предсказание цыганки, высказанное юному поэту или его бабушке: «убьют его из-за спорной женки». Михаил Юрьевич рассказывал об этом, говоря, что быть убиту в сражении ему на роду не написано.
П. А. Висковатов.С. 374
Предчувствие Лермонтова сбылось. В Петербург он больше не вернулся, но не от черкесской пули умер гениальный юноша, а на русское имя кровавым пятном легла его смерть.
В. А. Соллогуб 1. С. 378
Москва. Пять лучших дней
В конце 1840 года Лермонтову разрешен был приезд в Петербург на несколько месяцев. Перед окончанием этого отпуска и перед последним своим отъездом на Кавказ весною 1841 года он пробыл некоторое время в Москве и с удовольствием вспоминал о том. «Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве», – сказал он мне, встретясь со мной при проезде через Тулу. Эта встреча моя с ним была последняя. В Туле он пробыл один день, для свидания со своей родною теткой, жившей в этом городе.
А. М. Меринский 3. С. 656
В Москве пробуду несколько дней, остановлюсь у Розена... Еще прибавлю, что от здешнего воздуха я потолстел в два дня, решительно Петербург мне вреден, может быть, я также поздоровел от того, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна.
Лермонтов – Е. А. Арсеньевой.
Москва, апрель 1841 г.
Зимой 1840/41 года в Москве, незадолго до отъезда Лермонтова на Кавказ, в один пасмурный воскресный или праздничный день мне случилось обедать с Павлом Олсуфьевым, очень умным молодым человеком, во французском ресторане, который в то время усердно посещался знатной московской молодежью.
Во время обеда к нам присоединилось еще несколько знакомых и, между прочим, один молодой князь замечательно красивой наружности и довольно ограниченного ума, но большой добряк. Он добродушно сносил все остроты, которые отпускали на его счет... Мы пили уже шампанское... «А, Михаил Юрьевич!» – вдруг вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Олсуфьева, приветствовал молодого князя словами: «Ну, как поживаешь, умник!», – а остальное общество коротким: «Здравствуйте!» У вошедшего была гордая непринужденная осанка, средний рост и необычайная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на паркет бумажник или сигаретницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто он был вовсе без костей, хотя, судя по плечам и груди, у него должны были быть довольно широкие кости.
Гладкие белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера.
Очевидно, он одет был не в парадную форму. У него на шее был небрежно повязан черный платок, военный сюртук без эполет был не нов и не доверху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое белье.
Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев, говоря по-французски, представил меня вошедшему. Обменявшись со мною несколькими беглыми фразами, он сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах этого гостя – это был Михаил Лермонтов – неприятно поразили меня. Эти выражения иностранец прежде всего научается понимать в России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно, но ни один порядочный человек – за исключением грека или турка, у которых в ходу точь-в-точь такие выражения, – не решится написать их в переводе на свой родной язык.
Фр. Боденштадт 2. С. 319—320
...Лермонтов снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена. Мы долго разговаривали. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где был ранен Трубецкой... Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь.
Ю. Ф. Самарин – И. С. Гагарину.
3 августа 1841 г.
(Здесь и далее цит. по: Новое слово. 1894. № 2. С. 58—59)
Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота ближе сойтись с ним. Весь разговор, с самого его прихода, звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу.
Фр. Боденштадт 2. С. 320
Вечером, часов в девять, я занимался один в своей комнате. Совершенно неожиданно входит Лермонтов. Он принес мне свои стихи для «Москвитянина» – «Спор». Не знаю почему, мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним. Прежде того какая-то робость связывала мне язык в его присутствии.
Ю. Ф. Самарин – И. С. Гагарину.
3 августа 1841 г.
Садовский говорил мне, что раз за кулисы Малого театра пришел офицер и спросил, где уборная Щепкина. П. М. указал ему ход и узнал после, что это был Лермонтов. Садовский его больше никогда не видел.
А. А. Стахович.Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 112
С Лермонтовым Михаил Семенович (Щепкин) сблизился во время недолгого пребывания его в Москве перед смертью.
А. И. Урусов.Кончина Щепкина //
Библиотека для чтения. 1863. № 7. С. 77
Я никогда не мог, может быть, ко вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе, никогда не мог простить шалости знаменитых и талантливых людей только во имя их знаменитости и таланта. Я часто убеждался, что можно быть основательным ученым, сносным музыкантом, поэтом или писателем и в то же время невыносимым человеком в обществе. У меня правило основывать мнение о людях на первом впечатлении, но в отношении Лермонтова мое первое неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным.
Не далее как на следующий вечер я встретил его в гостиной г-жи Мамоновой, где он предстал передо мной в самом привлекательном свете, так как он вполне умел быть любезным.
Фр. Боденштадт 2. С. 320—321
Простившись с Владикавказом, я (...) приехал жить в Москву (...), тратя время на обеды, поездки к цыганам и загородные гуляния и почти ежедневные посещения Английского клуба, где играл в лото по 50 руб. асс. ставку и почти постоянно выигрывал. Грустно вспоминать об этом времени, тем более что меня постоянно преследовала скука и бессознательная тоска. Товарищами этого беспутного прожигания жизни и мотовства были молодые люди лучшего общества и так же скучавшие, как я. Между ними назову: князя А. Б(арятинского), барона Д. Р(озена), М(онго-Столыпина) и некоторых других. И вот в их-то компании, я не помню, где-то в 1840 году встретил М. Ю. Лермонтова, возвращавшегося с Кавказа или вновь туда переведенного, – не помню. Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня взора Михаила Юрьевича я до сих пор забыть не могу: так и виделись в этом взоре впоследствии читанные мною слова:
Печально я гляжу на наше поколенье, —
Грядущее его иль пусто, иль темно...
...Не скрою, что глубокий, проникающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел не малое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем.
В. В. Боборыкин.С. 80—81
Я видел руссомана Лермонтова в последний его проезд через Москву. «Ах, если б мне позволено было оставить службу, – сказал он мне, – с каким удовольствием поселился бы я здесь навсегда». «Не надолго, мой любезнейший», – отвечал я ему.
Ф. Ф. Вигель.
Цит. по: Щеголев П. Е.Книга о Лермонтове. Вып. 2. С. 70
Он говорил мне о своем будущем, о своих литературных проектах, и между прочим бросил несколько слов о своем близком конце, к которым я отнесся, как к обычной шутке. Я был последним, кто пожал ему руку в Москве.
Ю. Ф. Самарин – И. С. Гагарину.
3 августа 1841 г.
Лермонтов провел пять дней в Москве, он поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением.
Е. А. Свербеева – А. И. Тургеневу.
10 мая 1841 г. //
Литературное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 45—46. С. 700
В то время был в продаже лишь небольшой томик его стихотворений, а другими стихотворениями, ходившими по рукам в списках, снабдил меня Павел Олсуфьев. Этот небольшой томик, изданный очень скромно, был вскоре раскуплен, и прошло продолжительное время, как появилось новое издание.
Фр. Боденштадт 2. С. 321
Пятигорск. «Водяное» общество
Областной Ставрополь был менее населен и далеко хуже обстроен настоящего губернского. Каменные двух– или трехэтажные дома, даже на большой улице, были на счету. Мощеных или шоссированных улиц не было. Тротуары были до того узки и неровны, что нужно было быть ловким ходоком и эквилибристом, чтобы в ночное время, а в особенности после дождя, не попасть в глубокую канаву, наполненную разными нечистотами, или не помять себе бока после падения.
В областном Ставрополе не было существующего ныне длинного бульвара, обсаженного высокими тополями, акациями и липами, в то время только верхняя часть бульвара до фонтана была засажена небольшими деревцами. Бабина же роща, нынешний красивый городской сад, была не местом приятного препровождения времени, а скорее притоном беглых и мошенников... Огромное пространство между домом командующего войсками и госпиталем, на котором теперь возвышаются красивые каменные казенные и частные здания, в то время было пусто, и на нем осенью и зимою не раз случалось слышать вой волков и даже встречаться с ними, или по часам блуждать по этой огромной площади в туман и метель.
М. Я. Ольшевский.С. 356—357
Я... познакомился с Лермонтовым и в продолжение всего пребывания в Ставрополе всего чаще виделся с ним и Пушкиным (Львом). Они бывали у меня, но с первого раза своими резкими манерами, не всегда приличными остротами и в особенности своею страстью к вину не понравились жене моей.
А. И. Дельвиг.Мои воспоминания. М., 1913. Т. 1. С. 297
Первую ночь по приезде из Петербурга они ночевали в гостинице Найтаки.
В. И. Чиляев.
Цит. по: Мартьянов П. К.Дела и люди века. СПб., 1893. Т. 2. С. 43
...Более всех извлекал для себя пользы от... посещения Ставрополя военною молодежью грек Найтаки, содержатель гостиницы, хотя не единственной, но бесспорно самой лучшей в городе.
Музыка, пение, говор, стукотня бильярдных шаров, хлопанье пробок из шампанских бутылок, чоканье бокалами и крики «ура!» внутри гостиницы, езда биржевых дрожек и других экипажей снаружи почти не умолкали ни днем ни ночью. Подчас случались и скандальчики вроде того, что понтеры набросятся на шулера-банкомета и спровадят его подобру-поздорову за двери, или, в минуты вакхического увлечения, перебьют посуду и зеркала и переломают мебель. А это и на руку содержателю гостиницы, потому что он рассчитается с виновными не только по-русски втридорога, но и по-гречески вдесятерицу.
М. Я. Ольшевский.С. 357
Решено было, что с поэтом поедет на Кавказ Монго-Столыпин. Ему поручалось друзьями и родными оберегать поэта от опасных выходок.
П. А. Висковатов. С. 333
Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб– и обер-офицеры, тоже большею частью раненые. Два офицера в сюртуках без эполет, одного и того же полка играли на бильярде. Один из них, по ту сторону бильярда, с левой моей руки, первый обратил на меня свое внимание. Он был среднего роста, с некрасивым, но невольно поражавшим каждого симпатичными чертами широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкою костью всего остова, немного сутуловат – словом, то, что называется «сбитой человек». Такие люди бывают одарены более или менее почтенною физической силой. В партнере его, на которого я обратил затем свое внимание, узнал я бывшего своего товарища Нагорничевского, поступившего в Тенгинский полк, стоявший на Кавказе. Мы сейчас узнали друг друга. Он передал кий другому офицеру и вышел со мною в другую комнату.
– Знаешь ли, с кем я играл? – спросил он меня.
– Нет! Где ж мне знать – я впервые здесь.
– С Лермонтовым, он был из лейб-гусар за разные проказы переведен по высочайшему повелению в наш полк и едет теперь по окончании отпуска из С.-Петербурга к нам за Лабу.
П. И. Магденко.Воспоминания о Лермонтове //
Русская старина. 1879. Март. С. 525
Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье и я смогу выйти в отставку.
Лермонтов – Е. А. Арсеньевой.
Май 1841 г.
Лермонтов в последнем письме к Мартынову писал сюда, что он кидал вверх гривенник, загадывал, куда ему ехать. Он упал решетом. Сие означало в Пятигорск, и от того там погиб.
А. А. Кикин – М. А. Бабиной.
2 августа 1841 г.
(Здесь и далее цит. по: Лермонтов М. Ю.Полн. собр. соч /
Под ред. Д. И. Абрамовича. СПб., 1913. Т. 5)
На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен), поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему? – быстро спросил Лермонтов, – там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему ничего, ничего нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо сказать, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии сорока верст, по-тогдашнему – один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им – в другую.