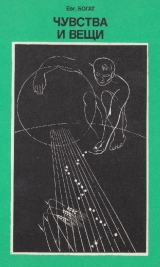
Текст книги "Чувства и вещи"
Автор книги: Евгений Богат
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Да, если бы не было телевизора… Но разве не было его раньше?
Я уже писал по поводу радио, что транзисторы существовали задолго до появления полупроводников. Это, несомненно, относится и к телевизорам. В разные эпохи в зависимости от состояния техники они носили различные наименования. Даже в сократовских Афинах, где, как известно из истории философии, мастерство беседы, мудрого и живого общения достигло блистательных, несравненных высот, тоже телевизоры были. Назывались они тогда лютнями.
Сократ в одном из платоновских диалогов иронизирует над теми, кто, оказавшись в большой компании или вдвоем с товарищем, то ли по умственной лени, то ли по душевной пустоте, не найдя, о чем говорить, зовет женщину с лютней. Этим людям кажется, утверждал Сократ, что они отыскали достойную замену беседе, между тем как они сами лишили себя наибольшей радости – глубокого человеческого общения, совокупного поиска истины. Сократ совершенно недвусмысленно дает понять, что подобных любителей лютни в современных Афинах было большинство… Для чеховской «душечки» телевизором было окошко, сидя у которого она видела и говорила себе: «Вот идет дворник, вот идет городовой».
Замените в сократовском высказывании «лютню» на «телевизор» – и его ранящая актуальность станет очевидной, и одновременно вы убедитесь в том, какой это опасный соблазн – идеализировать старину.
С «институтом гостей» тоже дело обстоит куда многоплановей, чем казалось моему ослепленному читательским хобби соседу в самолете. В гости-то ходили не одни возвышенные тургеневские герои, но и купцы Островского, чиновники Чехова, мещане Горького… До отупения играли в карты, люто пили, били собственных и чужих жен, тоскливо рассказывали анекдоты. Нет более верной дороги к заблуждению, чем идеализация того, что было.
Да, любая идеализация любых ушедших форм, не только общения, уводит от истины, это аксиома, возвышал во мне голос сердитый оппонент, сидящий, видимо, в каждом из нас, но не менее опасно не видеть, не понимать уникальности современной ситуации, тем более такой, как наша, сегодняшняя. Ведь и лютня, и окошко на тихую улицу были «выходом» для тех, кто не думает, а телевизор делает порой «душечками» и людей, которые могут и любят думать, как мой старый товарищ и его жена. Мы живем в мире, который по вечерам освещается миллионами кино– и телеэкранов. Что это – новая могущественная реальность, рядом с которой реальный, живой человек может стать иллюзией?
Не берусь утверждать, что, явись я в выпуклой рамке полированного дерева, моя подлинность была бы более очевидной. Но, возможно, посещение мое удивило бы хозяев в этом случае меньше…
По чудесно емкому определению Маркса, общение – «один из способов усвоения человеческой жизни». Человеческой. Постараемся уяснить смысл этого обдуманного курсива.
Перед тем как сесть за письменный стол, я жадно допытывался в самолетах и поездах у незнакомых людей, как мыслят они человеческое общение в будущем, и получил много интересных и неинтересных ответов. Один из разговоров врезался мне в память особенно и может, вероятно, кое-что сейчас объяснить.
– Общения в сегодняшнем понимании не будет, – философствовал в экспрессе Ленинград-Москва мой попутчик, оказавшийся потом не астрофизиком, как думалось мне поначалу, а переводчиком. Его четкое лицо, эффектно украшенное, несмотря на пленительно тусклый, почти бессолнечный день поздней осени, большими защитными очками, было отрешенно, сухо-серьезно, будто бы замкнуто надежно на эти две черные торжественные застежки и наводило на романтическую мысль о том, что зрение молодого человека пострадало от непосредственного соприкосновения с яркостью сверхзвездных температур плазмы и нуждается теперь в охранительном покое. Он не читал и не посмотрел ни разу в окно; спал или думал. Задев его будто бы нечаянно коленом, я излишне подробно извинился и начал расшевеливать, пока не разговорил.
– Общения в современном смысле не будет, – уверенно сообщил он собственное мнение по волнующему меня вопросу как нечто само собой разумеющееся. – Наука и техника усовершенствуют коммуникации и чувства настолько, что вам и не захочется выходить из вашей кельи.
– Но даже монахи общались… – пытался я возражать.
– Монах, – сердито уточнил он, – сидел наедине с лампадой. Вы или я – наедине с миром, космосом. Можно будет не только видеть любой город, карнавал, космодром, но и обонять запах пармских фиалок, мексиканских роз или песка австралийских отмелей. Вы будете ощущать действительность при помощи сигналов, опоясывающих земной шар, пятью органами чувств…
Вагон крупно и мерно покачивало, уже сквозные леса за окном быстро истаивали и наплывали редеющими золотыми туманностями, легко касающимися обнаженной земли; день темнел, но огня в поезде не зажигали, и лица женщин, освещенные осенью, посмуглевшие, как от загара, казались одинаково юными при разнообразии выражений и красоты. Кто-то настраивал и не мог настроить гитару; кто-то, не дождавшись ее, запел. Мне уже не хотелось слушать моего попутчика, а он развивал, видимо, дорогие ему идеи. «Да, – думал я, – подобно тому как из величайшей бедности может быть рождено величайшее богатство, из величайшего богатства может быть рождена величайшая бедность». Потом, утомленный его рассуждениями, осведомился:
– А вы убеждены, что те самые пять чувств в обрисованной вами келейной ситуации останутся человеческими чувствами?
– Человеческими? – поиграл он замшевым носком закинутой на ногу ноги и, расцепив замкнутые на колене пальцы, развел руки, как бы обнимая ими лениво земной шар. – Объясните, если можете, ваши сомнения.
– Ну, – помедлил я в поисках доходчивой и образной аргументации, – если бы Дон-Кихот, начитавшись рыцарских романов, не помчался на Росинанте к людям, в живую жизнь, а остался бы у себя на пыльном чердаке, был бы он нашим любимым героем, любимым человеком?
– Дон-Кихот, – усмехнулся мой собеседник, – наполнил чердак иллюзиями. Я же толкую о том, что вы или я, не пошевельнув пальцем, лишь воспринимая сигналы, будем обладать реальным миром. – И с истинно королевским величием откинулся на вагонном диване. Он ударил голосом по «реальному миру», но я переставил в уме логическое ударение на «обладать». И колеса поезда, тотчас же подхватив эту перестановку, стали выстукивать: о-бла-дать, о-бла-дать, о-бла-дать.
Осмысленный перестук колес явственнее и явственнее вызывал в памяти содержание книги Жоржа Перека «Вещи».
5
Это история двух молодых людей – Сильвии и Жерома, – обреченно барахтающихся в океане вещей, умирающих от жажды обладания ими. Ковры, автомашины, шкафы, хрусталь, шотландские пледы, медные подсвечники, твидовые куртки, магнитофонные ленты, кожаные портьеры, драгоценные пепельницы, шелковые панно с изображением павлинов и листвы. Они это видят, обмирая, иногда покупают, чаще страдают от того, что не могут купить, надеются и тоскуют. Вещи волнуют и манят, как миражи в пустыне. Широкие, обитые черной кожей диваны, дорогие гравюры, стекло, отделанное серебром, рестораны, американские рубашки, замороженные изысканные блюда, кинофильмы, ножи с костяными ручками, автострады.
Вещи! Камины, галстуки, кресла, витрины портных, шляпниц, сапожников, антикварные магазины, медь, дерево, шелк…
Бесконечное перечисление этих имен существительных не утомляет, как утомило бы в рекламных изданиях; оно потрясает, в нем – динамика распада двух человеческих душ… Вазы, тонкое белье, туфли из плетеной кожи необыкновенной легкости, дорогие зеркала…
Когда я читал книгу, мне казалось, что вещи заполнили комнату и ворочаются, ломая острые ребра, вдавливая меня в стену широкими мертвыми плоскостями.
Кто-то из современных западных философов назвал окружающие нас рукотворные подробности мира – от электронных быстродействующих машин до самопишущих ручек – символами человека. Ему, видимо, казалось, что эта возвышенная формула поможет людям одолеть отчуждение, ощутить родственные чувства к сегодняшнему ошеломляюще разнообразному вещному миру, устранит страх и уменьшит соблазн. Раз символы человека, то есть в них что-то человеческое. Но в реальном мире это не более чем игра слов. Истина в том, что мы можем относиться к вещи по-человечески только тогда, когда вещь по-человечески относится к нам.
Возможно ли это в мире частной собственности? Исследование Перека содержит ответ емкий и точный. Не символы, а тени – в том одновременно и фантастическом и реальном понимании, которое заключает в себе печальная метаморфоза, изображенная Андерсеном в одной из его волшебных историй Пока тень послушно лежала у ног человека, он естественно, ее не замечал, но вот удалось ей оторваться от хозяина; он ощутил легкую тревогу, когда выглянуло солнце и оказалось, что земля вокруг него одинаково ярко освещена, потом успокоился, а тень стала жить сама по себе, набиралась сил и через несколько месяцев, когда герой вернулся из путешествия домой вошла в цилиндре и сюртуке с дорогой палкой к бывшему хозяину, удобно уселась в его кабинете, закинула ногу на ногу и потребовала, чтобы он обращался к ней на «вы» и покорно исполнял ее капризы.
Молодые герои Жоржа Перека к вещам обращаются на «вы». А вот вещи говорят им «ты». В этом и объяснение нравственной гибели Сильвии и Жерома, так же как и гибели физической героя Андерсена, покорившегося тени, – он умирает в сумасшедшем доме. Будь наоборот, если бы они обращались к вещам на «ты», выслушивая в ответ естественно-почтительное «вы», ничего дурного не случилось бы с ними, окружай их не океан, а целая галактика автомашин, фильмов, пепельниц и рубашек.
Жизнь героев Перека основана, казалось бы, на том, что зримо, осязаемо, вещно, устойчиво, а поражает ее неопределенность, ненадежность. Человеческие отношения и сама действительность зыбки, даже иллюзорны. Не потому ли, что жизнь строится лишь на том, что можно осязать только руками, а не на том, что осязаемо сердцем?
Художественное исследование французского социолога емко иллюстрирует нестареющие мысли Маркса о частной собственности, которая ведет к тому, что «на месте всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих чувств – чувство обладания».
«Поэтому, – писал далее Маркс, – упразднение частной собственности означает полную эмансипацию всех человеческих чувств и свойств; но оно является этой эмансипацией именно потому, что чувства и свойства эти стали человеческими как в субъективном, так и в объективном смысле».
Читая повесть Перека, подумаешь о том, что, ошеломленные видимым богатством, его герои совершенно невосприимчивы к подлинному богатству мира. Их зрение, слух, обоняние нельзя назвать человеческими в марксистском понимании слова. Они теряют себя в тех «опредмеченных сущностных силах», которые развертывает перед ними сегодняшний мир, – в автострадах, кинолентах, ресторанах, – отсюда и иллюзорность их существования… Но вернемся к моему собеседнику в экспрессе Москва-Ленинград… Австралийский песок для него то же, что драгоценные пепельницы. Его тянет к тому фантастическому обладанию миром, сама мечта о котором стала возможной лишь в нашу эпоху.
Чудеса науки и техники, рожденные гением человечества, породили в нем потребителя более опасного, чем потребитель вещей, доступных обыкновенному осязанию кожи пальцев.
Обрисованная им фантастическая келья, как и сегодняшний телевизор, в сущности, не больше, чем инструмент – инструмент, увеличивающий человеческие возможности. Только они – ведь чего нет, то и не увеличишь – сообщают смысл новой волшебной технике, и только ими – в нарастающей степени – должен отвечать человек на ее появление, как ответил на рождение и развитие техники книгопечатания «Человеческой комедией» и «Войной и миром». Читая Маркса, осознаешь, что мучающая нас «тайна общения» расшифровывается точным пониманием того, что же такое подлинное богатство. «Чем иным является богатство, – пишет он, – как не абсолютным выявлением творческих дарований человека?..»
Кстати, Маркс говорил о книгах «мои рабы» и обращался с ними – с книгами даже! – как со слугами, верными слугами человека. Не заслуживают ли этого в гораздо большей мере телевизор, радиотранзистор, магнитофон? Не пора ли начать говорить им «ты»? Они волшебны лишь постольку, поскольку выражают истинное богатство – мир человека.
6
Человек теряет себя в воображаемом бытии, если оно от него заслоняет бытие живое, а не освещает его, помогая лучше понять, как освещает киноэкран живые лица сидящих рядом с нами в зале людей.
А между тем одна из глубинных тайн общения заключается в том, что человек должен терять себя в человеке, таком же живом, реальном, подлинном и единственном, как он сам. И вот, теряя себя в другом человеке, он испытывает ту полноту жизни, которая и делает его существование человечным, осмысленным.
Маршалл Маклюйн, известный американский ученый, автор ряда широко нашумевших на Западе трудов о массовых коммуникациях, утверждает, что телевидение – не инструмент, послушный человеку, а – наряду с электронными машинами, радио, телефоном – новое окружение, фатально воздействующее на человечество, определяющее его дальнейшее развитие. В его теории современные массовые коммуникации похожи на джина, выпущенного по неосторожности из бутылки. Маленький человек и колдующий над ним исполинский волшебник…
Но если мы опять обратимся к истории, то убедимся, что подобные джины уже выходили из закупоренных сосудов. Во времена Сервантеса это были рыцарские романы, обладавшие тогда не меньшей «вовлекающей» силой, чем сегодня кино– и телеэкраны.
Надо полагать, что в тот век тоже можно было подслушать диалоги, в которых перипетии романтически возвышенной рыцарской жизни начисто вытесняли реальные подробности подлинной действительности. Но вот поднялся Дон Кихот и убил рыцарский роман. Это, пожалуй, единственное убийство, которое совершил великодушный рыцарь печального образа. Он убил его не мечом и не копьем, а разнообразием и красотой духовного мира – такого же реального, как белые дороги Испании. Этот мир был великой подлинностью, возвышающейся над фантазией и снами. После романа Сервантеса рыцарские романы не могли иметь фатальной власти над читающей публикой не потому, что книга великого испанского писателя была задумана как пародия, – нет, образ героя, его человечность, душевная щедрость, нравственная самостоятельность и чистота показали могущество реального духовного мира, рядом с которым затмеваются самые возвышенные и «красивые» вымыслы.
И этот великий урок может быть особенно актуален сегодня. Да, согласимся с моим респектабельным попутчиком в экспрессе Москва-Ленинград: Дон Кихот начал с того, что терял себя в рыцарских романах на пыльном чердаке, но кончил-то он тем, что стал «терять себя» в живых людях и тем самым рыцарский роман убил.
Разумеется, я не зову к «убийству» кино или телевидения. Это было бы поистине безумной затеей, достойной гоголевского сумасшедшего. Мне лишь хочется – ради этого и задумано настоящее повествование, – чтобы читатель, осознав сложившуюся ситуацию, понял: сегодня от него требуется особенно напряженная, самостоятельная духовная работа. Сегодня особенно важно понять, что общение – форма творчества: и общение с собственным сердцем, воспоминаниями, совестью, мечтами наедине с собой, и общение с товарищем давних лет в редкие, увы, откровенные часы, и минуты у телевизора, когда открывается окно в мир, вызывая чувство сопереживания, соразмышления, сострадания – единения с сотнями тысяч, миллионами людей, с человечеством.
7
После опубликования в «Литературной газете» ряда моих статей о странностях общения пошли письма. Я умозрительно, что ли, опровергал тоже весьма умозрительные пессимистические соображения Гастона Буасье об умирании писем, а корреспонденты мои опровергали их живым делом, тем, что эти самые не единожды торжественно похороненные письма писали.
Вот несколько писем.
Это во многом личные письма, поэтому не буду называть имен авторов.
«Около десяти лет я не видела моего старого-старого товарища. Когда-то мы учились в институте, он пытался ухаживать за мной, однако „роман“ не состоялся, но тем не менее, а может быть, именно поэтому отношения у нас были „человеческие“, и оба ими дорожили. Были в них и откровенность, и взаимное доверие. Потом жизнь нас развела, и вот через десять лет он едет через наш город на международный конгресс, и мы целый вечер шатаемся по нашему замечательному парку над Волгой. Рассказывала больше я, он молчал. И когда я вдоволь наговорилась, он, иронически улыбаясь, рассказал мне анекдот. Однажды один американский владелец фабрики плащей поехал в Рим, где сумел добиться аудиенции у папы. Когда он вернулся в США, там поинтересовались, как же выглядит папа римский. Владелец фабрики ответил: „Сорок первый размер нормальной полноты“. Поначалу я не сообразила, почему он рассказал мне этот анекдот, а когда поняла, мне захотелось заплакать. Я почувствовала себя улиткой, которая весь вечер таскала на себе раковину. Конечно, я говорила ему о вещах серьезных. О состоянии нашей архитектурной мастерской, о служебных сложностях, о трениях и „интригах“. Я говорила даже о деле, которое занимало в моей жизни и занимает сегодня большое место. И в его жизни тоже. Я говорила не только об „интригах“, но и о творческих планах. Да, конечно, но ведь мы не виделись десять лет! За эти годы оба любили, страдали, обманывались, надеялись, жили сложной нравственной жизнью, размышляли, плакали, и вот мы увиделись – два человеческих мира, – и, может быть, в последний раз. О эти частные, узкопрофессиональные, деловые разговоры! Действительно, сорок первый размер нормальной полноты. А как хороша была Волга в тот вечер, и наш осенний парк, и чайки над нашим искусственным морем!..»
Первое письмо, как явствует из него, писала женщина. А вот отрывок из второго – от мужчины:
«Меня по-настоящему ранит, когда я наблюдаю потребительское, утилитарное отношение к созданному человеком и особенно к нему самому в социалистической действительности, сама сущность которой в том, что она изнутри все более мощно эмансипирует, делает человеческими наши чувства. Меня ранит это даже в малозначащих, может быть, смешных для здравомыслящих людей мелочах. Вот подошел ко мне в коридоре института коллега, умный, эрудированный человек. Я обрадовался и начал обсуждать с ним то, что творчески волновало меня в те часы, выплескивать это с особой силой. А в самую патетическую минуту обнаружилось, что нужно было ему неотложно одолжить у меня 35… И стало мне тошно, как после малосъедобного обеда».
Помню, отложив это письмо, я долго размышлял о законах и странностях человеческого общения.
Наверное, не стоит обижаться на того, кто подошел к нам, чтобы одолжить книгу или деньги. Но и в самом деле, ничто так не разрушает отношения, как сознание, что нужны-то не мы сами как единственное богатство и самоцель, а постороннее, то, что не в нас, а вне, будь то деньги, положение, библиотека, или даже то, что в нас, – эрудиция, талант, – но не как общее, бескорыстно волнующее достояние, а как личная собственность, имеющая определенную потребительскую стоимость.
Тогда чувствуешь себя вещью.
А чувствовать себя вещью больно, и эта боль убивает общение.
Разрешу себе небольшое лирическое отступление.
8
В отношениях между людьми рождаются ценности настолько уникальные, что даже в великом и могучем русском языке порой трудно найти точное определение.
Как назвать отношения Ромео и Джульетты? Любовью? Но ведь Андрей Болконский и Наташа Ростова – тоже любовь! А Блок и героиня его цикла «Кармен»? И все это не только разные миры – галактики! Точно так же, наверное, можно назвать одним безбрежным словом – жизнь – нашу, земную и фантастическую, непредставимую в созвездиях, уловимых лишь мощными радиотелескопами.
А отношения Гамлета и Горация? Конечно, дружба. Но ведь Кассио и Брут тоже дружба. И не она ли объединяет героев романа Чернышевского?
Дело тут, разумеется, не в бедности языка, который достаточно разнообразен, чтобы передать тончайшие оттенки мыслей, чувств, настроений, – не язык виноват, а «виновато» безграничное богатство духовного мира человека. И это богатство выявляется в общении. Говоря строго, общение – единственная возможность его выявления. Не только Ромео без Джульетты, но и трагически одинокий Гамлет без Горацио утратил бы несравненно много.
Я выше уже писал о том, что общение надо осознавать как творчество. Именно творчеством человеческое общение было для Сократа, Ленина, Горького. Почитайте «Диалоги» Платона и постарайтесь запомнить навсегда строки, где Сократ говорит о том, что не было и нет для него большей радости, чем «ежедневно беседовать о доблести… испытывая и себя и других». Почитайте литературный портрет Владимира Ильича, написанный М. Горьким, и вы поймете, как важно человеку понимать человека. Ленинское общение – глубочайшая школа понимания, умения увидеть в человеке самое сокровенное и существенное, да и сам М. Горький тоже был гением общения: и для него не существовало большей радости, чем «ежедневно беседовать о доблести, испытывая себя и других».
Но было бы ошибкой полагать, что общение как творчество доступно только великим мира сего.
Кому из нас не известно, что Гоголь черпал творческие силы в общении с Пушкиным, а Пушкин – в общении с нянькой Ариной Родионовной. Пушкин был сам великим писателем, и поэтому неудивительно, что он воодушевлял Гоголя на создание бессмертных вещей. Но вот Арина Родионовна не была ни писательницей, ни философом, но и она воодушевляла на создание бессмертных ценностей. Мне могут возразить: ей выпало на долю быть нянькой великого поэта. Но я не сомневаюсь, что личность Арины Родионовны отпечаталась и на многих безвестных, но все же оставивших в жизни нужный, глубокий след людях – пахарях, ямщиках, солдатах, бродягах. Они становились лучше, добрее и умнее после общения с ней. И крестьянские дети, которым она рассказывала то, что потом у Пушкина воплощалось в бессмертное, вырастали «обыкновенными», хорошими людьми с четким пониманием добра и зла. Личность Арины Родионовны отпечатывалась в их сердцах.
В наш век научно-технической революции, с его убыстрением ритма жизни, изобилием «средств массовой информации» и изобилием будничных, но совершенно неотложных дел, мы утрачиваем ощущение, понимание общения как формы творчества. А между тем оно именно таким и было на заре человеческой культуры. Сократ не писал книг, не оставил после себя ни одной строки. Он общался. И, общаясь, помогал рождаться истине. Ему недаром нравилось, что его мать была повивальной бабкой. Он и себя называл повивальной бабкой. Эта бабка помогала рождаться истине, и человеческой личности, и ощущению нравственной ответственности перед миром у тех людей, с которыми беседовал философ.
Большой современный писатель назвал человеческое общение роскошью. И это, наверное, очень сегодняшнее, очень современное восприятие. Сейчас оно действительно стало роскошью. Я имею в виду не то беглое, поверхностное человеческое общение, состоящее из обмена футбольными новостями и последними сообщениями о передвижениях по службе, которое стало, к сожалению, бытом, а глубинное человеческое общение, то, что заставляет вспомнить замечательные слова Карла Маркса:
«…Чувства и наслаждения других людей стали моим собственным достоянием».
В этой формуле – обещание неслыханного богатства… Повторяя эти слова, я иногда твержу: чувства и наслаждения других людей станут моим собственным достоянием, как стали достоянием Льва Толстого чувства и наслаждения Наташи Ростовой, а достоянием Флобера – чувства и боль Эммы Бовари. Это, быть может, наивное сопоставление и помогло мне понять: содержательное человеческое общение в чем-то существенном похоже на художественное творчество. Да, именно на художественное творчество. В нем, сами того не осознавая, мы выступаем художниками.
Я уже говорил о том, что в человеческом общении (добавлю сейчас опять: как в художественном творчестве) рождаются совершенно уникальные ценности. Любая любовь – именно эта любовь; любое сострадание – именно это сострадание. Они единственны как личности, которые стоят лицом к лицу.
Я думаю даже, что человеческие отношения могут быть такой же реальной ценностью, как гениальная музыка или как строения великих зодчих. Когда мы ставим рядом имена декабристов и их жен, мы чувствуем возможность подобных отношений. Когда мы ставим рядом имена Петрарки и Лауры, Бернарда Шоу и Патрик Кэмпбелл, то мы тоже чувствуем такую возможность.
Мне могут, конечно, тут возразить, что большая любовь – удел далеко не каждого человека и если она не выпала на твою долю, то эта форма творчества оказывается неосуществимой, недоступной. Согласен; но есть иная сфера человеческих отношений – сфера, в которой любой человек, любая человеческая личность может выявить себя с максимальной полнотой. Почитайте дневник и письма Феликса Эдмундовича Дзержинского, и вы поймете, в чем существо этой сферы… Она вообще занимает большое место в этике революционеров.
Вот что пишет Феликс Эдмундович в дневнике:
«Рядом со мной сосед, и хочется простучать ему что я его люблю, что не будь его здесь, я не мог бы жить что даже через стену можно быть искренним и отдавать всего себя и не стыдиться этого».
Запомним: «отдавать всего себя…»
И вот что еще пишет Дзержинский в том дневнике:
«Здесь мы почувствовали и осознали, как необходим человек человеку, чем является человек для человека. Здесь мы научились любить не только женщину и не стыдиться своих чувств и своего желания дать людям счастье».
Запомним: «дать людям счастье».
А позже в одном из писем жене Дзержинский пишет о сыне, о тех, кто помогает его воспитывать:
«Они… формируют его душу и вливают в нее сокровища, из которых он, когда вырастет, сам должен будет щедро дарить другим».
Это, повторяю, та форма творчества, которая доступна любому человеку.
И начинается она там, где человек идет не к себе, а от себя. От себя идет к людям. Творчество это возможно и в самой скромной, самой будничной форме. Это может быть слово, улыбка, которая несет кому-то радость.
Вот несколько строк из письма в редакцию шестнадцатилетней девушки Ольги Прокудиной:
«…Вчера в лесу я наломала несколько веточек вербы. И когда несла их по городу, прохожие улыбались: „Уже верба цветет!“ Еще больше я убедилась в их чудодейственной силе, когда дала одну веточку плачущей малышке. Она посмотрела на меня с благодарностью, размазывая слезы на счастливом лице… Как просто все-таки можно делать приятное людям…»
В этих строках есть то, что можно назвать эмоциональной отвагой, то есть безбоязненность выражения чувств, непосредственность выявления жизни человеческой души.
Без эмоциональной отваги не может быть подлинно содержательного человеческого общения. Важно что-то иметь за душой, но не менее важно и обладать решимостью открыто передать это людям.
Не надо бояться искренности…








