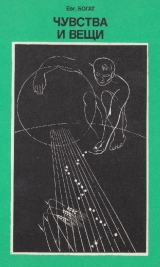
Текст книги "Чувства и вещи"
Автор книги: Евгений Богат
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
6
Мы еще вернемся в нашем повествовании к тетрадям Ивана Филиппчука, А пока постараемся осмыслить нечто существенное для более полного понимания обсуждаемой нами темы: научно-техническая революция и духовный мир человека. Тип рабочего-интеллигента, который раньше был если не уникальным, нет, то более или менее редким, начинает сегодня становиться массовым. Говоря об интеллигентности, я, разумеется, имею в виду не образовательный ценз и даже не широту научно-технического кругозора, а этический смысл этого сложного понятия. Постоянное и – что особенно важно – творческое соприкосновение с чудом, с «думающей» техникой побуждает и самих людей думать. О ценности и бесконечном разнообразии жизни, о тайнах духовного мира человека. Паскаль писал: «Постараемся же хорошо мыслить – вот основа нравственности».
Те, о ком я рассказал, стараются хорошо мыслить, и это не может не отразиться на их поведении. Размышления о ценности жизни и человека формируют отношения с действительностью, повышают богатство этих отношений. (Тем и интересен дневник Ивана Филиппчука, что рисует «переплетения» новых мыслей с рождением новых форм поведения – через новое постижение добра и зла.)
Бывая в институте, где работал Иван, я любил наблюдать людей в общении их с «умными», таинственными для них самих машинами. Помню гордость, с которой семнадцатилетняя девушка показывала мне, что умеет делать подвластная ей ЭВМ. Она касалась рабочих клавиш пульта управления с каким-то совершенно особым чувством (я подумал: не возвращает ли она достаточно затертому слову «трепет» его изначальную высокую и нежную суть?), она простодушно радовалась, когда машина ее понимала, как радуемся мы, когда понимает нас новый, уже в чем-то симпатичный, но и загадочный в то же время человек. Порой эта девушка показывала мне машину, как показывают… собаку, чувствующую волю и настроения хозяина фантастически тонко. А когда машина ее не понимала и оставляла без ответа (потому что Лида была молодым оператором и не успела охватить полностью объем памяти ЭВМ), она испытывала даже не обиду, а боль…
Завершила Лида демонстрацию машины совершенным триумфом: «Сейчас она нарисует для вас портрет Брижжит Бардо. Хотите?» Я, конечно, хотел… «А теперь она нарисует портрет Серова „Неизвестная“». И я опять хотел и, получив портрет, радовался, кажется, даже больше, чем в Третьяковке, потому что сопереживал торжество Лиды. «А сейчас рисунки для детей. Первый под названием „Ну, погоди!“».
«А рисунки детей она умеет имитировать?» – «Детей?» – растерялась Лида. «Ну да, – пояснил я, – рисовать, как рисуют дети. Дом, или солнце, или дерево», – «Нет, – ответила, – это она не умеет… – посмотрела на меня вопросительно. – А странно, да? Что не умеет. Она же сама как ребенок», – «Ее не научили, – успокоил я Лиду. – Когда научат…» – «А если и тогда она не сумеет? Ведь рисовать как дети – это…» Мы посмотрели на четкие очертания лица Брижжит Бардо, на лицо-перфокарту, и подумали, видимо, оба о том бесконечном, астрономически далеком расстоянии, которое отделяет живой, исполненный очаровательных несуразностей и неправильностей волшебно деформирующий мир детский рисунок от жесткой, безупречно точной «манеры» рисующей машины. «Что вы хотите от нее, – вздохнула Лида. – Она ведь, несмотря ни на что, неживая…» – и коснулась опять клавиш пульта с тем особым чувством в лице, что я понял: нет, для нее она все-таки живая.
Второй раз я увидел Лиду в кафе «Под интегралом», на очередном «вечере безумных идей». Вечера эти устраивались по субботам; после сообщения докладчика на ту или иную достаточно дискуссионную тему высказывались мысли, которые на чисто деловом собрании или даже в обычной рабочей обстановке выглядели бы беззащитными, вызывая ироническое отношение, закрепляя за ораторами в лучшем варианте репутацию фантазеров. А тут сама идея, сам замысел «вечера» оправдывал «безумие». Я подумал, что на подобных «вечерах», вероятно, бывал и Иван, хотя это не нашло отражения в его «тетрадях».
Но вот «вечер безумных идей», который наблюдал я, вероятно, Иван в «тетрадях» отразил бы: на нем говорилось о том, что его постоянно волновало, – о гармоничном развитии человека, о тайнах разносторонней одаренности, о «феноменах» эпохи Возрождения, о том, что утрачено человеком и что должно вернуться к нему… Но тема эта родилась уже после доклада в столкновении мыслей, фантастических идей, гипотез. Контраст между суховатой корректностью сообщений докладчиков и бурной оргией фантазии ораторов и составлял, по-видимому, оригинальность этих «вечеров»… Докладчик делал корректно-научное сообщение о начале начал рождения искусственных форм разумной жизни. Я записал то, о чем говорилось тогда, и хочу дать ряд строк живой этой записи; возможно, они составят достаточно любопытный документальный фрагмент сегодняшней интеллектуальной жизни.
Докладчик. Одна из великих, не осознаваемых полностью даже нами черт эпохи – рождение новых – искусственных – форм разумной жизни. Уже сегодня мы можем создавать машины, умеющие «мыслить», обладающие теми личностными особенностями, которыми мы, разумеется, сами их и наделяем. Уже сегодня самообучающиеся машины порой удивляют нас непредвиденным поведением… Не говорит ли это о том, что эволюция не успокоилась на человеке? Эта грандиозная система пульсирует сейчас не менее мощно, чем накануне вызревания первой человеческой мысли. Но если человек, как отмечено сонмом великих мыслителей, двойствен: соединяет в себе конечно-телесное с бесконечно-духовным, то не будут ли новые формы разумной жизни, похожие на сегодняшние электронно-вычислительные машины не больше, чем гомо сапиенс – на самых комичных из семейств мартышек, – не будут ли они освобождены от этой двойственности, от телесно-смертного бремени и духовны непредставимо? И не будет ли это величайшим торжеством беспредельно усложняющейся материи, триумфом ее восхождения к наивысшим феноменам сознания?
Решая новые задачи у себя в лабораториях и кабинетах, мы об этом не думаем, мы похожи на влюбленных, которые заняты собой, собственными чувствами и не помышляют о новой жизни («То бишь о рождении ребенка», – первый раз по-житейски улыбнулся докладчик), которой они служат. Вот и мы порой не в меньшей степени поглощены новизной небывалых исследований и не помышляем о том, что служим тоже «гению эволюции» – рождению новых форм разумной жизни…
Один сноб, с которым я недавно беседовал, возмущен новой наукой – семиотикой за то, что она низводит восприятие великих картин, например «Женского портрета» Боттичелли, до элементарных истин («упорядоченная, строгая, сильная, печальная, ясная»). Я объяснил ему: надо низвести восприятие Боттичелли или Рембрандта до самых элементарных истин, чтобы научить этому восприятию ЭВМ – начальные формы новой разумной жизни, той самой жизни, что в конце концов откроет в Боттичелли то, что нам и не снилось.
Вопрос с места. Можете ли вы сегодня утверждать: ЭВМ – это я?
Докладчик. Не понял вопроса. (Смех в кафе: рассмеялись потому, что фраза «Не понял вопроса» запрограммирована в ЭВМ и она отвечает ею на нечетко или неправильно поставленные задачи.)
Повторяю мой вопрос, уточняю его: старинный мастер, живший в XIV или XV веке, думавший руками, отдававший себя целиком вещи, которую создавал, мог утверждать: «Шкатулка – это я» или «Ларец – это я»…
Второй голос с места. Флобер говорил: «Эмма – это я»… Верно? А вот мы можем утверждать: ЭВМ – это я!
Докладчик (с легким вызовом). Нет, ЭВМ – больше, чем я. (Шум в кафе.)
Третий голос с места. Гораздо интереснее не это, а то, как будет думать о себе сама машина лет через пятьсот: «Я как человек» или «Я – человек»?
Докладчик. Согласно законам мифологического мышления, она будет думать о себе: «Я – человек». Ведь и человек в первобытную эпоху не думал о себе: «Я как солнце», а «Я – солнце», что и нашло отражение в соответствующих мифологических текстах… (Аплодисменты, означавшие, как объяснили мне потом, что докладчик выдержал экзамен на то, что называют тут «трезвым безумием»,)
Новый оратор. Вот мы воображаем себя скульпторами невиданных ранее форм разумной жизни…
Голос с места. Скульпторами? Разреши мне! А то ускользнет мысль. Сядь. Мы должны быть антискульпторами. Ведь что делают ваятели? «Беру, – говорил один великий, кажется Роден, – кусок камня и отсекаю все лишнее». А мы не отсекать должны, мы мечтаем о том, чтобы наделить машину этим «лишним», да и нам самим, по чести говоря, этого «лишнего» не хватает. Вот эпоха Возрождения не отсекала у человека ничего лишнего: даже чудачества, фокусы Леонардо да Винчи и меньших по масштабу его современников не были «лишними». «Лишнее» почитали, и не в этом ли тайна разносторонних личностей? А потом, по мере разделения труда, чем дальше, тем жестче и холодней стало отсекаться «лишнее». И отсекалось с лихвой. И вот оно болит сегодня у человека, как болит в дурную погоду отсеченный палец…
Возглас с места. У тебя-то у самого что болит? Талант живописца?
Дальше голоса потонули в шуме, в смехе. До меня доносились малопонятные суждения, намеки, шутки. Тут собрались люди, живущие и работающие бок о бок ряд лет, изучившие особенности, странности, чудачества друг друга, и сейчас неожиданно взволновавшую их тему разносторонней одаренности они обстреливали репликами, понятными лишь им самим «У Кирилла болит талант кондитера…»
А я думал: оставим искусственную разумную жизнь фантазии и фантазерам, отдыхающим в играх ума после напряженной рабочей недели. Вот она передо мной – подлинная, «естественная» жизнь, с ее живым, пытливым разумом, живыми человеческими чувствами, богатством воображения, движениями души, потребностью в цельности, в творческом самовоплощении… И даже в мечтах о новых фантастических формах бытия она радует живой, подлинной верой в могущество естественного человеческого разума.
Потом разговор зашел о том, что «мир вещей», техника все больше заслоняют от человека «первозданный мир», живую природу.
И тот, у кого «в дурную погоду болит талант живописца», высказал неожиданные мысли об импрессионизме:
«Как я понимаю импрессионизм? Природа, как бы чувствуя, что завтра она отдалится, заслонится, отторгнется от человека, подернется дымами, испарениями, туманами, отражениями электрических зарев, решила в последнюю минуту интимных отношений с человеком открыть ему самое тайное, все состояния, все оттенки, все волшебство, всю странную игру, все улыбки, морщины, весь блеск увядания, все укромности красоты, все текучее, едва уловимое, свое тело, свою душу, свою любовь. Оттого и эта наша печаль перед картинами импрессионистов. Возлюбленная наша – природа – была прекрасна в тот последний миг, ничего не стеснялась и ни о чем не жалела…»
А я слушал его и думал: талант поэта, видимо, не болит у него в самую дурную погоду.
Дальше я буду не раз касаться малообаятельного явления наших дней, именуемого псевдоинтеллектуализмом. Поэтому и хочется мне теперь засвидетельствовать уважение перед интеллектуализмом подлинным, с которым я – пусть в формах несколько озорных – познакомился тогда в кафе «Под интегралом». Не отмечены ли подлинным интеллектуализмом в его серьезном, «классическом» варианте мысли чувства, наблюдения Ивана Филиппчука? Духовный мир молодых и старых рабочих московского завода электронно-вычислительных машин? Даже надежда Лиды на то, что ее машина будет когда-нибудь рисовать, как рисуют дети?..
Те, о ком рассказал я в первой главе нашего повествования, создают сами новую небывалую технику, общение – творческое – с ней воздействует непосредственно на их мысли и чувства, оживляет их фантазию, углубляет любовь к жизни, любопытство к «тайнам бытия», отражается в их духовном мире порой странно, даже фантастически, – но что бы там ни было, соприкосновение с чудом делает их не менее а более человечными. Для них быстродействующая электронная машина (ЭМ) – не вещь. Повторяя формулу Флобера, они действительно могут утверждать: «Эмма (да извинят мне читатели невольный каламбур) – это я!»
Но общение современного человека с новой техникой, воздействие ее на его душу гораздо сложнее, чем может показаться читателям этой главы ибо человек выступает тут не только в роли творца но и в роли потребителя. Само собой разумеется, первую и вторую роль не надо понимать чересчур однозначно. Для того чтобы не быть потребителем, вовсе не непременно надо участвовать в создании новой техники. Можно помогать ее рождению, так сказать, по долгу службы и не быть творцом…
Для потребителя чуда нет. Для него существует вещь. И чувства удивления перед человеческим гением нет у него тоже…
Чисто потребительское общение с вещами неизбежно отражается на человеческом общении. Об этом и пойдет речь в дальнейшем.
Глава вторая
СТРАННОСТИ ОБЩЕНИЯ
Этюд о транзисторе. Детские игры, Подслушанный диалог. «Институт гостей». Мысленный эксперимент.
Странная судьба писем. Особая форма творчества. Штамп замкнутости

1
В сентябрьском лесу я услышал, как далеко за деревьями, сначала чуть различимо – можно было подумать, что это ветер, – а потом все ближе и все явственнее заиграла скрипка. Через минуту показалась компания – четверо: женщины, полная и худощавая, и под стать им мужчины – толстый и сухопарый. На животе у толстяка покоился транзистор.
«И сегодня будет бефстроганов!» – убеждала собеседников худощавая женщина, стараясь перекричать скрипку. «А ты хотела бы омаров в рядовом санатории или котлеты палкин?» – иронически парировала полная. «Палкин! – сухопарый дернулся, будто его ударили по голове. – Что за котлеты?» Полная женщина начала ему объяснять, что Палкин лет семьдесят назад был ресторатором в Петербурге и большим выдумщиком по части… Но тут вломился в беседу толстяк: «Я докажу вам, что и в рядовом санато…» В этот миг музыка оборвалась, стало удивительно тихо; толстяк тоже почему-то умолк на полуслове. Он поднял руку к транзистору, тронул колесико. И едва он коснулся его, как тишина, ахнув, распалась на мельчайшие осколки; в одном – ревел стадион, в другом – пели дети, мелькали голоса, английский сменял хинди. Потом ударила диковатая мелодия…
«Но почему он не мог говорить, когда умолк транзистор?» – тупо удивился я, оглушенный джазом. В лесу еще долго торжествующе ухали саксофоны. У толстяка, несомненно, была отличная машина, чуткая, как летучая мышь, и мощная, как сирена воздушной тревоги; с ней, наверное, можно было бы смело ходить на медведя…
И я подумал: легко понять человека, который идет один по лесу и поет – поет потому, что ему сейчас хорошо. И можно понять меломана, осторожно, даже виновато коснувшегося в лесу транзистора, чтобы послушать на этом, увы, уже не заповедном острове тишины долгожданный концерт… Но ведь эти четверо не слушали ни скрипку, ни даже джаз. Беседуя на кулинарные темы, они шли по осеннему лесу с громко-кипящим транзистором, как идет порой с яркими фарами по ночному шоссе пятитонка, ослепляя и пеших и конных.
Почему? Зачем? Их поведение казалось непонятным с точки зрения обыкновенного здравого смысла…
В ворохе психологических загадок, которыми изобилует наше сложное время, человек с транзистором, разумеется, не самая глубокая и увлекательная. Но и она, по-моему, достойна известного осмысления, в результате которого могут возникнуть в перспективе нравственные соображения на совершенно неисчерпаемую тему: «Человек и время». Или на тему более локальную: «Техника и человек».
Помню, сели в поезд на маленькой станции близ Саратова трое молодых инженеров. У них было отличное настроение: они ехали в Москву, двое из них никогда раньше в столице не были. Они подолгу стояли в коридоре у окна. Курили, молчали, смеялись, слушали. Радио слушали, транзисторы. Слушали три транзистора. С одинаково нарочитой небрежностью инженеры носили транзисторы через плечо на одинаковых желтых, славно поскрипывавших ремешках. Настраивались они, разумеется, на одну волну; да иначе и быть не могло, ибо человек не в состоянии воспринимать информацию, поступающую к нему одновременно по трем различным каналам. Они и не пытались опрокинуть эту азбучную истину.
Но самое комическое и поразительное заключалось в том, что слушали они обычно те же станции, которые старательно транслировало и поездное радио. «В чем же дело? – пытался я понять моих попутчиков. – Может быть, транзисторы для них то же самое, что кубики для малышей?» Нет, вероятно, в их поведении содержалась недетская логика: они боялись в Москве показаться несовременными. Эти будто бы небрежно болтающиеся через плечо транзисторы были для каждого из них овеществленным девизом. Паролем… И у них было достаточно здравого смысла и чувства юмора, чтобы понимать: этот пароль не может безмолвствовать. Ибо, безмолвствуя, он становится чисто декоративной деталью. Поэтому, обнявшись у окна, настроимся на одну волну и будем то ли всерьез, то ли в шутку слушать три транзистора…
В Москве мои попутчики, несомненно, ощутили себя на уровне века. Окна дома, в котором я живу, выходят на большую улицу, и летом, когда они открыты, кажется, особенно по ночам, что плещется внизу вся планета: иногда еле внятно – идут влюбленные, чаще до трепета стекол – возвращаются юные сердитые мечтатели. Играют далекие оркестры, хохочут мюзик-холлы…
Пенсионеры в нашем доме с тех пор, как появились транзисторы, удваивают и утраивают в летние месяцы дозы снотворного. И все равно утром, идя на работу, я отчетливо читаю на осунувшихся лицах стариков тоску о том времени, когда веселый саксофонист из ночного бара в Ливерпуле при всем желании не мог среди ночи поднять их с постели.
Распоряжения Моссовета о борьбе с шумом в городе на транзисторы не распространяются, как не имеют силы для перелетных птиц инструкции о безопасности на улицах, утвержденные непреклонным ОРУДом.
Говорят – мода. Это, конечно, верно. Но ничего еще не объясняет, ибо, как известно, сама по себе мода лишь внешняя характеристика явления, имеющего сокровенную сущность. Говорят – век…
Рискуя вызвать решительные возражения ученых, я буду сейчас утверждать, что транзисторы существовали задолго до появления полупроводников, более того, полагаю, что не было в истории человечества времени, когда бы их не существовало. Они были во все века. Но назывались, конечно, иначе.
В начале нынешнего столетия в России это была гитара. Гитара с большим, нарочито небрежно повязанным, чуть поблекшим бантом. Были, конечно, как есть они и сейчас, чудесные гитаристы, честные и искренние поклонники этого инструмента, но гитара с бантом не имела к музыке ни малейшего отношения. С ней легче было понравиться девушке, «убить» вечер, заполнить молчание, скрасить рюмку водки, уйти от себя…
Игрушка? Может быть. Если отвлечься от сегодняшнего милого, устойчиво-детского толкования этого слова. И вернуть ему на миг иные, полузабытые, подчас горькие оттенки. «Игрушка… легкое дело» («Толковый словарь» В. Даля).
Такой игрушкой не мог стать ни баян, ни инструмент для резьбы по дереву: для овладения ими нужны если не талант и вдохновение, то непременно усидчивость и увлеченность. А суть игрушки именно в том, чтобы при минимуме духовных и физических затрат получить максимум удовольствия. Именно это, как охарактеризовали бы ситуацию современные математики, определяет стратегию игры.
И вот успехи науки и техники позволили фантастически углубить и минимум и максимум. Видимо, самой благородной из современных игрушек был – уже на моей памяти – ФЭД. Сегодня – транзисторы. Что же последует за транзистором? Портативный телевизор? Появился же недавно на полках магазинов полупроводниковый весом в пять килограммов – тяжеловат еще для хождения по улицам, но уже можно таскать на пляж…
В дальнейшем перспективы вырисовываются совершенно головокружительные. Рэй Брэдбери в новелле «Пустыня» рассказывает о гравизащитной куртке: стоит, надев ее, коснуться кнопки на поясе – и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному тяготению.
Да, вы взлетаете без малейших усилий: ведь нажать кнопку еще легче, чем повернуть колесико. А там, в облаках? Можно сочинять стихи, объясняться в любви, мечтать и петь. Но можно и беседовать о степени сочности котлет де-валяй в ресторане межпланетной станции Меркурий или, черт побери, о том же незабвенном Палкине…
Успели уже стать общим местом соображения о том, что материальное окружение человека меняется в наш век несравненно быстрее его духовного мира, а развитие нравственного сознания отстает от фантастических темпов НТР. Это, так сказать, общефилософская постановка вопроса. Хочется, естественно, найти в ней конкретные и актуальные аспекты. Один из них – утрата удивления.
Мою дочь с малых лет не удивляют ни телевизоры, ни транзисторы. Они устойчиво окружают ее с первых месяцев ее сознательной жизни. А то, что не удивляет, может стать и обычно становится игрушкой. Ведь не случайно же дети никогда не играют вещами, вызывающими их изумление. Они трепетно рассматривают их или разламывают, исследуя.
Дочери моей никогда не хотелось разломать телевизор. И хотя по ряду соображений я охотно терплю ее миролюбивое равнодушие, с этико-педагогической точки зрения оно меня не особенно радует. Как отнесется мой внук или правнук к гравизащитной куртке? Мне хотелось бы, чтобы одним из самых первых его сознательно активных движений была попытка ее разодрать – посмотреть, почему она заменяет человеку крылья.
Дар удивления надо воспитывать. Вот воспитывал же украинский учитель В. Сухомлинский у ребят маленькой станции Павлыш удивление перед деревьями, особенно осенью или весной, стаями журавлей, старинными курганами, ночным небом.
Настала пора воспитывать удивление перед небывалыми вещами нашего небывалого века. Как делать это лучше, естественнее – задача, заслуживающая, по-видимому, внимания педагогической психологии.
Для меня ясно одно: дар удивления родствен двум, казалось бы, полярным состояниям человеческой души – радости широкого общения с жизнью и людьми и умению оставаться наедине с самим собой.
Как-то я познакомился со старым литературоведом, автором нескольких книг об А. П. Чехове, который, изнемогая в санатории от транзисторов, тешил за обедом себя и соседей по столу викториной-шуткой. Он загадывал: кто из чеховских героев ходил бы с транзистором, а кто не поддался бы повальному увлечению?
Ну конечно же к транзистору питал бы нежные чувства Федотик из «Трех сестер»: он бы уже не фотографировал, не заводил волчка, а надоедал людям иначе, с меньшей затратой физических сил.
Ничего удивительного нет и в том, что трудно, даже невозможно вообразить с транзисторами Вершинина или Тузенбаха: они помешали бы им мыслить и общаться с бесконечно дорогими их сердцу собеседниками.
А вот уверенность сочинителя викторины, что самым большим поклонником транзистора в галерее известных чеховских героев был бы Беликов, показалась мне поначалу странной. Унылая фигура в теплом пальто и с зонтом, в галошах и… транзистор. И потом: у него же в ушах была вата! «Это ничего, – печально усмехался литературовед, – я по ночам подушку кладу на ухо и то хорошо слышу: они, черти, мощные. Не сомневайтесь, Беликов бы с ним не расставался, вы не на вату, вы вглубь посмотрите».
И, подумав, я согласился. Да, пожалуй, транзистор создал бы дополнительный незримый футляр, в котором чеховский герой почувствовал бы себя еще более защищенно, чем под зонтом и в галошах. И в ту же минуту я понял казавшееся мне ранее несколько загадочным поведение тех четырех в осеннем лесу, когда толстяк, оглушенный тишиной, тронул колесико. Они шли в футляре – в футляре, отделявшем их от этого леса, неба, осеннего дня, шума деревьев… Можно говорить банальности и даже пошлые вещи, и ни о чем не думать, и ничему не удивляться, можно чувствовать себя уютно и защищенно, как в маленькой обкуренной комнатке с опущенными шторами. И когда футляр этот падает, хочется поднять его, укрепить…
Теперь при виде человека с транзистором у меня возникало все чаще желание подойти и разбить незримый футляр. Желание это, возможно, стало бы опасным для окружающих, если бы не одно воспоминание…
Я – тоже издалека – услышал какой-то странный шум. Будто бы море бушевало за остро искрящимися под сибирской луной первыми легкими сугробами. И тоже подумал вначале, что это ветер. Вокруг было холодно, пустынно, большой котлован стройки, неподвижные экскаваторы, несколько недавно построенных домов. Падал снег. И странно было думать, что в Подмосковье сейчас падают осенние листья и будут падать еще много-много ночей и дней. А тут, на большой, еще не набравшей силы стройке, ранняя, нежданная зима и все замерло в ожидании потепления или машин для электропрогрева земли.
Шум моря усилился, и я столкнулся лицом к лицу на углу недостроенной улицы с Виктором Савичевым, молодым инженером-строителем. Обалдело улыбаясь, он поднес к моему лицу транзистор: «Слушай Испанию, бой быков!» Ревела толпа, потом баритон стал быстро-быстро сыпать словами. «Плохо понимаю, – огорченно мотнул головой Савичев, – учил не испанский – французский». И он побрел дальше, неся в руках эхо корриды.
Казалось бы, что ему эта коррида, рев толпы, ожидающей последнего удара шпаги? «Да не в корриде же дело!» – догадался я.
Дело в чуде. Дело в том, что ты идешь по никому еще не ведомой, лишь вчера отобранной у тайги земле и с тобой весь мир, все человечество.
Очень важно помнить, что носишь с собой каплю человеческого гения. Эта капля требует общения не менее сосредоточенного и углубленного, чем общение с книгой, любимой книгой. Транзистор – не игрушка.
Может быть, опаснейшая из девальваций – девальвация чуда.








