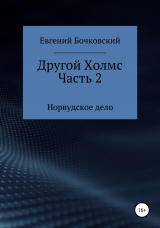
Текст книги "Другой Холмс. Часть вторая. Норвудское дело"
Автор книги: Евгений Бочковский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Все эти твердокаменные аргументы против свободы Холмса (нареченной активистками "трагической личной неустроенностью"), с тяжеловесной монументальностью отсылающие к традиционно-фундаментальным ценностям, одним только построением фраз парализовали мою волю к сопротивлению еще до того, как возникло робкое желание попытаться постичь их смысл, и я совершенно растерялся, понимая только, что нам может не хватить упорства и изворотливости, а более всего – тупого упрямства, чтобы бить в одну точку и раз за разом отвергать возмутительные претензии разбушевавшихся поборниц семейного уклада. Для этого нужно обладать слишком простым характером, чтобы давно свыкнуться с собственным однообразием и из этого выработать терпение к таким же однообразным повторяющимся действиям. Нам не осилить такой стратегии – Холмсу это быстро надоест, а я по обыкновению что-нибудь перепутаю. Осознавая это, я уже готовился впасть в отчаяние, однако своевременный отпор был дан с самой неожиданной стороны.
Один ученый в своей статье сумел блистательно развенчать крамольную идею женитьбы Холмса и доказать ее пагубную и лженаучную сущность, применив исключительно инструментарий своей сферы деятельности, называющейся термодинамикой. Я бы не сумел здесь не только повторить все те специфические термины, коими был напичкан текст, но и самым поверхностным образом передать суть его доводов, если бы Холмс не пришел в восторг от статьи настолько, что предпочел вырезать ее из газеты, благодаря чему я имею возможность в трудные моменты пересказа сверяться с вырезкой и цитировать автора практически дословно.
Статья начиналась с того, что читателям с ходу задавался вопрос, знакомы ли они с понятием энтропии, чем та часть из них, к которой принадлежу я, приводилась в глубокое смятение. Затем автор брался за смягчение этого эффекта, предлагая публике просто поверить ему на слово, что весь вселенский ужас состоит не в величине этой самой энтропии, а в ее приросте. И что именно поэтому такая штуковина как цикл Карно является идеальной. Правда, он забыл поинтересоваться, знакома ли нам эта штука хоть немного больше чем та самая энтропия как до, так и после его разъяснений. Вместо этого он, дабы в наших головах все окончательно встало на свои места, добавил, что этот карноцикл является идеальной штукой еще и потому, что он обратимый. Во что обратимый, он не пояснил, но лично я ему поверил, потому что ничего другого мне не оставалось. И все же поскольку думать об оборотнях мне было несколько неуютно, автор, словно угадав мой дискомфорт, ради психического благополучия таких чувствительных натур предложил совсем уже умиротворяющее словечко "изоэнтропийный". Полагая, что всеобщее удовлетворение тем самым достигнуто, он продолжил изложение, и я покорно последовал за ним, обхватив голову, чтобы его дальнейшие разъяснения, не имея шансов отложиться на чем-нибудь внутри, хотя бы не вытянули вместе с собой мои мозги наружу. Мне удалось пробиться сквозь донельзя упрощенный по его же признанию рассказ "для малышей" об идеальных процессах, смоделированных теоретиками, и их отличии от реальных, о потерях и отклонениях, о все большем удалении от порядка и погружении в хаос, сопровождающимся ростом чертовой энтропии, о паровых двигателях и не менее чертовом адиабатном расширении пара, о совпадении и несовпадении параметров в начальной и конечной точках цикла. Если не принимать во внимание нарастающее словно энтропия тягостное ощущение собственной бестолковости, процесс приобщения к научному взгляду на обычные вещи через чтение разочаровывал меня только тем, что на трех первых страницах вступления в этом издевательски-терминологическом бесчинстве мне не попалось ни разу имя Холмса. Я тоскливо недоумевал, какое же отношение имеет столь пространно описываемое несовершенство Вселенной к моему другу, как вдруг добрался до нужного.
Пожалуй, это место из статьи лучше будет привести здесь дословно, дабы без малейших искажений и ложного толкования донести предельно точно и бережно до читателей моего дневника все то, что все равно никто не поймет.
"Но почему-то все отказываются замечать очевидное, а именно, что все вышесказанное, касаемо термодинамических процессов, вполне применимо в нашей обычной человеческой жизни, особенно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Итак, вернемся к термодинамике. Согласно ей примером такого изоэнтропийного процесса, то есть не вызывающего роста энтропии, является адиабатное расширение пара в турбине. Адиабатное, значит, без подвода теплоты к рабочему телу и без отвода ее от него. Только в этом случае пар наиболее эффективно проявит себя в турбине, произведет максимальную работу. Улавливаете, как это соотносится с личностью Шерлока Холмса, не терпящей праздности и обретающей единственно возможное отдохновение в напряженном труде?! Ведь по сути дела, Холмс является идеальной машиной, совершенным механизмом с КПД, предельно близким к термическому коэффициенту цикла Карно. Будет преступлением поместить такой механизм в условия, когда его эффективность снизится едва ли не до нуля. Иными словами, подвод и отвод теплоты для Холмса так же противопоказан, как и для парового двигателя, производящего работу за счет расширения рабочего тела. Но что есть теплота в нашем житейском смысле? Это забота, элементарное человеческое внимание, составляющие суть семейных отношений, и чем они прочнее и душевнее, тем губительнее скажутся на эффективности Холмса. «Дорогой, я нагладила тебе стопку воротничков», – промурлычет дражайшая супруга, и вот уже направленное тепло ее заботы собьет Холмса с заданной адиабаты. Стоит ему в ответ улыбнуться или похлопать ее по щеке, и отведенное тепло его признательности вновь отклонит его от идеального курса. Такое вредное воздействие в семье обоюдно, то есть деградации подвергнется и его супруга, но уже со своего неизмеримо более низкого уровня. С каждым днем их отношения будут делать их обоих все более несовершенными, и самое ужасное, что в этом нет и капли чьей-то вины. Все мы разрушаемся согласно закону Вселенной, и происходит это с нами тем быстрее, чем трогательнее и сердечнее мы проявляем заботу друг о друге. Даже если предположить совсем испортившиеся отношения или брак по расчету, нам никак не избавиться полностью от этого взаимодействия. Поскольку семейный институт в обществе необходим, я даже и не буду пытаться подвергнуть сомнению его целесообразность. Но необходимо и понимать связанные с ним неизбежные издержки, которые я только что обстоятельно описал. Исходя из этого, я полагаю правильным исключать из неэффективного режима семейной жизни наиболее ценные, производительные и отличающиеся редким совершенством механизмы, одним из которых, безусловно, является Шерлок Холмс".
Вот так. И хоть я уяснил из всего этого только лишь про стопку воротничков, свойственная мне интуиция подсказала, что сия блистательная аргументация чугунным молотом сплющила мозги не только в моей голове, и что ответные возражения со стороны "Лиги святости семейных уз", вписывающиеся в пределы заявленной почитателем карноциклов научной дискуссии, попадутся мне на глаза не скоро.
Холмса настолько восхитила идея о том, что свойственная ему бесстрастность, в которой я нередко упрекал его, является непременным условием эффективности его интеллекта, что он предложил мне переименовать "мой" дедуктивный метод и в последующих рассказах использовать определение "адиабатно-изоэнтропийный", чтобы закрепить новым термином оправдание его холодности. И если тогда я ответил ему решительным отказом, подозревая, что Дойл, даже получив соответствующую подсказку, может воспринять такую идею в штыки, то теперь при обсуждении будущего мисс Морстен мне пришлось признать, что я обязан взять его на себя, чтобы защитить мир хоть на время от происков дьявольской энтропии, и чтобы Холмс мог беспрепятственно предаваться счастью со своей любимой адиабатой.
А раз так, мне следует уже сегодня приступить к процедуре, не хочется говорить, соблазнения, но как еще иначе это назвать? Очаровывание? Влюбление? Втюривание, в конце концов? Не знаю. Равно как и то, каким образом я этого буду добиваться, поскольку Холмс настрого запретил мне открывать рот, заявив, что все разговоры с девушкой берет на себя. Лучше всего, по его мнению, если я буду загадочно молчать. Ну, или на крайний случай помалкивать.
– Почему лучше всего? – поинтересовался я.
– Потому что лучше всего делать то, что у тебя получается лучше всего, – ответил он. – Заметьте, я не требую от вас обратиться в полное ничто. Выражайтесь в безмолвии сколько угодно. Считайте, что в этом смысле у вас развязаны руки.
Я послушался и задумался довольно глубоко, тем более, что последние слова моего друга вполне располагали к этому. Предоставив мне полную свободу и заткнув рот, Холмс подтолкнул меня к выводу, что ключевое слово, вокруг которого следует выстроить дальнейшее поведение с мисс Морстен – "загадочно". Неужели он имел в виду пантомиму?
Через минуту до меня донесся его восторженный возглас:
– Вот! Самое то! Что вы сейчас делали?
– Ничего.
– Впредь именно так и поступайте, – удовлетворенно заключил Холмс. – Это занятие предает вам удивительно загадочный вид. Поневоле хочется спросить, какого черта… Впрочем, не важно, главное, мисс Морстен, ручаюсь, будет заинтригована.
– Полагаете, этого хватит для нужного впечатления? – засомневался я, потому что ни одно поручение Холмса еще не давалось мне столь легко.
– Плюс безупречный внешний вид, естественно. Ваш новый костюм подойдет идеально.
– Признайтесь, Холмс, не жалеете, что отговорили меня, когда я хотел взять другой, с позолоченными пуговицами? Тогда бы я гарантированно разжег в мисс Морстен любопытство.
– Тем, что вы брандмейстер? Кусаю локти, Ватсон. Ну подумайте сами, зачем вам ослепшая супруга?
– То есть как? – опешил я.
– Теми пуговицами вы бы сожгли ее зрение до конца жизни.
Так же категорично Холмс отверг мое предложение вдеть в петлицу розу и тем самым приобрести еще более неотразимый вид, заявив, что подобными стараниями быстрее накличешь неотразимые напасти.
– Вам не угодишь, – вырвалось у меня с досадой. – Любое мое предложение вы принимаете в штыки.
– Ваши предложения только еще больше убеждают меня, что я нашел для вас самое подходящее занятие. Подумайте сами, случится какая-нибудь кутерьма, придется проявить энергичность, и тут вы со своей розой. Так и вижу, как вы ее поправляете на бегу.
Таким образом, все мои идеи одна за другой были решительно отметены. Кроме одной. Поэтому с чувством, что последнее слово все-таки осталось за мной, я отправился к парикмахеру.
Глава 2, в которой успех клиента вызывает озабоченность
Из дневника доктора Уотсона
– Наконец-то! Вам же английским языком сказали быть в шесть! К дьяволу вас с вашей пунктуальностью, джентльмены!
Этой фразой ознаменовалось наше появление у театра "Лицеум". Радует, что хотя бы не мисс Морстен поприветствовала нас таким экспрессивным образом. Снедаемый нетерпением вокруг девушки кружил мелкий смуглолицый тип, и, когда она, завидев нас, радостно вскрикнула и указала в нашу сторону, тот не преминул выплеснуть на нас свое раздражение. Нам пришлось сделать вид, что мы толком не расслышали большую часть реплики, особенно в том месте, где прозвучал адрес, потому что мы действительно порядком задержались из-за того, что очень тщательно готовились к ответственному делу. Мисс Морстен вежливо улыбалась, но по виду бедняжка совсем продрогла, поскольку в добавок к нашей проволочке подкачала и погода. Со стороны Темзы тянуло принизывающим холодом, обретающим особую резвость между колонн "Лицеума".
– Я уже подумала, что сегодняшний вечер выдастся ветреным во всех отношениях, – призналась она, придерживая шляпку рукой и глядя с некоторым сомнением на мой парадный вид.
– То есть как? – не понял я.
– То есть, что вы передумали участвовать в моей судьбе и предпочли сегодняшнюю премьеру в"Лицеуме". Вы выглядите так, будто собрались в театр.
Какая милая наивность! Если б только эта девушка имела представление, до какой степени я не передумал, и какое участие в ее судьбе мне уготовано, кто знает, может быть, она действительно предпочла бы, что бы этим вечером мой выбор пал на спектакль, в сценарии которого нет ее имени, и где мне отведена роль зрителя.
Я уже открыл было рот, чтобы заверить мисс Морстен в своей преданности, а заодно поинтересоваться, что за премьеру по ее милости мы с Холмсом, будучи горячими театралами, вынуждены к своему сожалению пропустить, как мой друг довольно выразительным щипком довел до меня тот факт, что я уже серьезно отклонился от порученной стратегии. Поэтому я взялся тут же наверстывать упущенное, и все то время, пока незнакомец получал от Холмса заверение, что мы не имеем никакого отношения к полиции, простоял в стороне, помалкивая настолько загадочно, что Холмсу пришлось трижды окликнуть меня, когда пришло время усаживаться в кэб.
Угомонившись вспыльчивый коротышка влез на козлы, и мы помчались по ускользающим в темноту улицам Лондона в сторону его южных окраин.
Я сразу принялся сосредотачиваться на своих функциях, так как гораздый на выдумки Холмс порядком усложнил мне задачу, внеся неожиданное дополнение – он наказал мне держаться с мисс Морстен не только однозначным, но и, если можно так выразиться, односторонним образом, то есть все время демонстрировать ее взору свой профиль.
– Чтобы она могла получше его рассмотреть? – спросил я, польщенный проглядывающим в его просьбе комплиментом.
– Чтобы она не увидела других ваших планов, – пояснил мой друг, посчитав, видно, что непривычное обилие приятностей с его стороны вскружит мне голову. – Не обижайтесь, Ватсон, но фас у вас выглядит слишком трогательно, так как становятся видны сразу оба печальных глаза вместо одного. Чего доброго, у нее еще возникнет желание помогать вам помогать ей, тогда как вы должны показать ей, что справитесь сами, то есть вполне обойдетесь моими силами.
– Не могу же я все время подставлять ей одну сторону, словно римский император на монете, – возразил я. – Как вы себе это представляете?
– Есть еще, конечно, третья проекция – вид сверху, – промычал он с сомнением, будто набрел на выход, которым можно будет воспользоваться только в крайнем случае.
– Надеюсь, вы не потребуете от меня подставлять макушку ей под нос?
– Ладно, смотрите тогда, не отрываясь, в окно, – заключил он. – Иногда, чуть прищуривайтесь и поджимайте губы, будто отметили какую-то деталь и сделали вывод.
Так я и сделал. Несмотря на то, что я очень много прищуривался и поджимал губы, первой у меня заныла шея. Напряженная и неестественно выкрученная. Дополнительное неудобство такого поручения состояло в том, что я не видел их лиц, обязан был молчать и кривляться, словно набравшая в рот воды или бананов обезьяна, и мог только прислушиваться к их разговору. При этом у меня не выходили из головы слова Холмса о том, что мисс Морстен испытывает ко мне волнительные эмоции. Пока я гадал, насколько Холмсу удалось проникнуть своим всевидящим и бесстрастным взором в сердце девушки, первое подтверждение его правоты не замедлило всплыть в беседе, правда, довольно неожиданным образом. Мисс Морстен шепотом заметила Холмсу, что «доктор Уотсон очень загадочный». Ей показалось особенно таинственным то, что я, не отрываясь, напряженно смотрю в окно, хотя, по ее словам, «все равно ничегошеньки ж не видно, темень, хоть глаз выколи». Холмс ответил, что я и его всегда восхищал своей способностью видеть в кромешной тьме, но, как мне это удается, до сих пор остается для него непостижимым. Этот ответ коренным образом повлиял на характер беседы. Девушка, задумавшись над услышанным, примолкла, а Холмс, явно раззадоренный своей изобретательностью, прочно захватил инициативу. К моему ужасу, он бойко продолжил развивать тему моих былых врачебных заслуг, стараясь придать описанию этого в общем-то рутинного занятия как можно больше живости и ярких красок, отчего моя многолетняя практика, и без того соответствующая истине лишь в части вступительных экзаменов, все более приобретала вид авантюрных похождений. Причем ситуации, требующие решительных и неординарных поступков, поджидали меня задолго до встречи с пациентом. А потому пилюли, микстуры и пиявки были прочно вытеснены из обихода всевозможными металлическими предметами, из которых только скальпель вызывал относительно мирные ассоциации. Поспешая к страдальцу, у которого в горле застряла рыбная кость, я нещадно испытывал пределы собственной находчивости и терпения своих врагов – наскоку менял лошадей при первом же подозрении на мыт [инфекционное заболевание лошадей – Прим. ред.], держа в одной руке заряженную аркебузу, срывал свободной платок с головы флибустьера, чтобы обнаружить под ним псориаз, без стеснения опрокидывал саркофаг с телом мумии для того, чтобы проникнуть в секрет античного наркоза, подхватывал падающее знамя из рук страдающего артритом пальцев гарибальдийца…
Мисс Морстен слушала Холмса настолько внимательно, не перебивая, не переспрашивая, что мне это перестало нравиться. "Онемела она что ли? – недоумевал я, не имея возможности подсмотреть реакцию ее лица. – Такая впечатлительная, что проглотила язык, или настолько хладнокровная, что ей абсолютно все равно? Холмс, конечно, раздул еще те небылицы, но ей-то откуда это знать! Неужели у нее не вызвал оторопь даже леденящий душу рассказ о вакцинации секты душителей тугов, которую я провел единолично по поручению колониальных властей Бенгалии?! Даже в случаях, когда наброшенная петлей веревка уже покоилась на моей шее, и ее стягивали за моей спиной коварные руки,то есть когда мой жизненный счет шел на секунды, даже тогда я сначала наугад втыкал в душителя заряженный вакциной шприц, и только потом начинал избавляться от его губительных объятий. Рассказ Холмса выглядел так убедительно, что вызвал у меня затруднение дыхания, и я, пошарив по шее, рванул заменяющий пеньку тугой воротничок и высвободил трепыхающийся кадык. Тогда как Мэри Морстен продолжила внимать всем этим ужасам прилежно и невозмутимо, словно она школьница на уроке естествознания, а туги – милые животные вроде косуль или недавно выведенная порода овец. Какое странное бессердечие! Значит, она тем более не будет переживать за меня, если я вернусь домой промокшим от дождя, и с ее равнодушных уст не слетит ни слова утешения, если я, забыв пригнуться, ударюсь головой о ветку яблони в саду. Скорее, она испугается за яблоню, если та хорошо плодоносит. И это моя невеста, которой я готовлюсь отдать сердце и чистую, готовую к благородным порывам душу! Пусть и в обмен на право совместного управления капиталом, который, как мы надеемся, составит предмет сегодняшней поездки.
Когда же рассказ о моем прыжке с балкона одного ближневосточного дворца, подозрительно напоминающего своим описанием вавилонскую башню, точнехонько во впадину между горбами поджидающего внизу верного верблюда не вызвал не то что восхищенного восклицания, но даже тихого вздоха, я, не выдержав, осторожно скосил глаза и увидел, что веки девушки смежены. То ли ее убаюкала дорога, и она мирно задремала под стук колес, то ли пышный монолог Холмса абсолютно не мешал Мэри Морстен думать о чем-то своем, более важном, чем авантюрный водевиль с разбушевавшимся доктором в главной роли. Когда после долгой езды мы замерли, уткнувшись в хвост застрявшей в узкой улочке потрепанной кибитке, я убедился во втором – она тут же открыла глаза, и ее взгляд был так же чист и свободен от сонной пелены, как воздух нежного майского утра от тумана.
О чем же она тогда думала? Об отце или о жемчужинах? Мне хотелось разгадать ее через противопоставление крайностей, хотя я понимал, насколько несправедливо лишать человека права пребывать в обыкновенной человеческой середине. Хорошо, пусть в ней нашлось место для всего, однако она должна была понимать, что прояснения, к которым мы приближались с каждой минутой, могут оказаться частичными. Если бы ей был предоставлен выбор, что бы она предпочла?
Прошлое, хоть и довольно уже давнее, но, как я понял, все такое же живое, или будущее, настойчивое по-иному? Одно не отпускало через боль, другое манило приближением новой жизни, обещающей то ли блага, то ли надежду через забытье получить освобождение. Мне было ясно, что, ища ответа, я, в действительности, добиваюсь вынесения оценки, и я не сомневался, что, хоть и признаю заботы о грядущем разумнее переживаний о минувшем, все равно не удержусь от осуждения, если замечу, что практичные приготовления к обустройству в новых условиях вытеснят из ее души чахнущую и все более бесполезную мечту увидеть когда-нибудь отца живым.
Спохватившись, что слишком много любопытствую по поводу человека, которого мне, в сущности, навязали, я одернул себя от таких мыслей и вплоть до завершения поездки думал уже только о деле. Наконец, мы остановились. Наш кучер спустился и, отворив дверцу с моей стороны, изрек, что гости прибыли и могут выходить, только осторожно, потому что тут сам черт, да простит его сударыня, ногу сломит. Мы выбрались, и пошли вслед за ним. Вокруг была действующая на нервы, словно затаившаяся для чего-то недоброго тишина, а довершала гнетущее впечатление всепоглощающая темень. Ни одного даже тусклого огонька, куда ни кинь взгляд. Одним из первых же шагов я угодил в глубокую рытвину, полную грязи и, уже распластавшись на земле, услышал исполненный осторожного любопытства вопрос девушки к Холмсу, как же такое сообразуется с упомянутой им моей способностью ориентироваться во мраке словно кошка.
– В любознательности ей не откажешь, – процедил я тихонько, вставая и отряхиваясь.
– Как и в логике, – так же негромко отозвался Холмс.
Наш проводник завел нас в невзрачный низкий дом, но, когда мы оказались внутри, перед нами открылась удивительная картина. Жилище было набито всякой отнюдь не дешевой восточной всячиной. Хозяин, одетый так же по-восточному в пестрый халат, представился Тадеушем Шолто, сыном того самого майора Шолто, о котором нам говорила мисс Морстен. Он буквально обрушил на нас поток красноречия, а услышав, что я врач, принудил меня исполнить небольшой медосмотр его организма, для чего извлек из недр своего живописного беспорядка стетоскоп, который я сначала принял за еще один кальян. Как только магический прибор оказался в моих руках, меня охватило благоговейное чувство, будто давняя мечта о врачевании не просто ожила, но и грозила сбыться немедленно. Честное слово, еще бы немного, и я бы поверил в себя безоговорочно, немедля выкопал бы свой талант и тут же обнаружил бы у своего первого пациента какую-нибудь пневмонию, или еще лучше чахотку на последней стадии, тем более, что его назойливость взывала к достойному диагнозу. Затаив дыхание, я взялся приставлять блестящую штуковину на конце провода к разным местам на теле этого ипохондрика.
– Дышите, пожалуйста, достаточно глубоко, – сказал я тем особенным тоном, что уверяет больного в должной сосредоточенности врача.
– Сначала вставьте себе это в уши, – сказал он, протягивая мне рогатину, которой заканчивался другой конец провода.
Я послушался и не пожалел. Волшебный мир неземных звуков перенес меня в детство, в счастливый период тикающих часиков и музыкальных шкатулок. Внутренности мистера Шолто не только кряхтели, пыхтели и сопели, как сам мистер Шолто, но и булькали, тарахтели и даже чуть-чуть позвякивали, чем покорили меня безоговорочно. Зачарованный я пропал окончательно, потерявшись во времени, пока не почувствовал энергичные рывки шлага, и не увидел, открыв глаза, что пациент призывает меня вернуться из анатомических грез и вернуть стетоскоп.
– Не кажется ли вам, что у меня что-то не так с митральным клапаном? – посмотрел он на меня тревожными глазами, настойчиво доискиваясь по выражению моего лица, не намерен ли я утаить от него страшную тайну.
– Еще бы, – хмыкнул я, решив быть великодушным, не перечить гостеприимному хозяину и порадовать его подозрительность. – Прям с языка сняли.
– Думаю, он недостаточно плотно закрывается, – чуть качнувшись от секундной потери сознания, дрожащим голосом продолжил посвящать меня в тонкости личной кардиологии мистер Шолто.
– Это еще что! – подхватил я с жаром, польщенный привлечением к консилиуму. – Если б он хотя бы толком открывался!
У человечка подкосились ноги, и он упал на застеленный узорчатым ковром диван. Холмс посмотрел на меня с сомнением, как человек, которого мои проснувшиеся способности застали врасплох, а мисс Морстен, добрая душа, бросилась приводить в чувство несчастного Тадеуша Шолто. Успех был достигнут на удивление быстро, и через четверть часа, рассадив нас вокруг себя, обретший голос страдалец приступил к делу.
Его отец, выйдя в отставку, вернулся в Англию очень состоятельным человеком. Он приехал с целым штатом прислуги, набранной из индусов. Однако все годы его последующей жизни прошли под тенью какого-то странного страха. Майор до дрожи боялся человека с деревянной ногой, но тайну этого страха упорно держал в себе, пока однажды не произошло событие, резко сократившее ему жизнь. Как-то весною он получил странное письмо, совсем кратенькую записку, которая уложила его в постель до самых последних дней. Однажды, чувствуя, что конец его близок, майор призвал к себе сыновей – а у Тадеуша есть брат-близнец Бартоломью – и, вложив в свой затихающий голос последние силы, поведал им историю, в которой было все – крепкая дружба с капитаном Морстеном, разделившим с ним тяготы нелегкой службы на Андаманских островах, их чудесное обогащение, ссора при дележке вывезенных ценностей и предательство памяти друга, выразившееся в наплевательстве на судьбу его единственной дочери. Капитан Морстен ушел из гостиницы на встречу с Шолто и не вернулся с нее. Майор оправдывался, что капитана во время их разговора хватил удар, но, учитывая свойственную ему патологическую жадность, которая не укрылась от глаз его сыновей, и о которой с горечью рассказывал Тадеуш, при встрече двух старых друзей могло случиться и нечто более страшное. Во всяком случае майор скрыл смерть капитана, устранил улики и прожил после этого еще четыре года, не переживая особенно о судьбе дочери друга. Но на смертном одре он почувствовал зов совести и призвал сыновей исправить допущенную им несправедливость в отношении мисс Морстен. Но, вот беда, сообщить о местонахождении сокровищ, сокрытых где-то на территории его усадьбы, он не успел. Увидев в окне чью-то любопытствующую рожу, нагло подслушивающую самую интимную подробность его рассказа, касающуюся спрятанных ценностей, он пришел в сильнейшее негодование от возмутительного вмешательства в его частную жизнь, отчего немедленно испустил дух. По-быстрому схоронив отца, братья устремились на розыски клада. Они перерыли вверх дном дом и бросились перекапывать парк. Тадеуш признался, что он, не лишенный некоторой трудобоязни, вскоре пал духом и удалился с территории изысканий подальше, а именно в этот дом. С тех пор археологией в Пондишери-Лодж занимался только одержимый жаждой денег Бартоломью. Даже без сокрытого клада наследство майора позволило сыновьям жить вполне широко. Этим, похоже, расточительный сибарит Тадеуш и занялся с увлечением, судя по так поразившему нас роскошному убранству его дома. Но между братьями возникли разногласия, как отнестись к завету отца в отношении дочери Морстена. Бартоломью категорически не желал с ней делиться, и Тадеушу кое-как удалось уговорить его отсылать девушке ежегодно те самые жемчужины, о которых мы уже узнали от мисс Морстен.
Но вот настал день, когда Бартоломью отыскал в доме тайник с кладом. Он пробил дыру в потолке своего кабинета и обнаружил под крышей небольшое пространство. Очевидно, раньше это был чердак, но, спрятав в нем ларец с драгоценностями, майор предпочел заодно и замуровать вход в него, так что о существовании этого крохотного чуланчика, где выпрямиться в полный рост не сумел бы и ребенок, сыновья даже и не подозревали. Бартоломью известил брата, и тот почти мигом примчался в Пондишери-Лодж. Обрадованный Тадеуш, как и обещал брату раньше, послал письмо мисс Морстен, с которым она и побывала у нас. И теперь нам всем вместе предстояло отправиться в Пондишери-Лодж, что в Аппер-Норвуде, и сломить сопротивление несговорчивого Бартоломью. Возможно, его отец нажился на службе не совсем честным образом. Вряд ли у тюремного начальства на Андаманских островах было заведено выплачивать жалование своим подчиненным золотыми украшениями и алмазами. Но, даже если сокровища были вывезены оттуда незаконно, нашей клиентке теперь причиталась ее законная доля. Тадеуш не сомневался, что Бартоломью уяснить сей парадокс с нашей помощью будет нетрудно, и уже принялся поздравлять мисс Мэри с великим счастьем. Мы с готовностью присоединились к нему и даже далеко превзошли его выспренность тем, что принялись восхищенно аплодировать девушке, одаривая ее теплой волной своей искренней зависти. Помня завет Холмса быть особенно учтивым, я не отставал в произнесении в ее адрес комплиментов и пожеланий поскорее обзавестись достойным мужем, желательно остановив свой выбор на ком-нибудь из бывших врачей в зрелом возрасте с благодушным характером и безвредными привычками, то есть человеке, лишенном крикливой яркости, но удобном в обращении. Возможно, намек с моей стороны получился слишком тонкий. Во всяком случае, мисс Морстен не подала виду ни единой черточкой своего привычно отрешенного лица. Я не распознал, что творится у нее на душе, но ей явно было не до разговоров. Наш восторг, вполне натуральный до границ, какие обозначает новость о чужом сказочном везении, словно парад, прошедший околицей, не попал в поле зрения ее странно застывших глаз.
Когда мы все вместе вышли из дома и направились к стоявшему у дороги кэбу, я услышал взволнованный шепот Холмса у себя за спиной:
– Ватсон, пожалуйста, если вам не трудно, оступитесь еще раз, чтобы отстать от всех. Нужно срочно переговорить.
Я так удивился услышанному, что действительно тут же, не успев понять как, исполнил просьбу своего друга и улетел за обочину. Выбравшись из канавы, я поинтересовался у Холмса, о чем он так переживает, если все складывается вполне удачно.
– Удачно?! – воскликнул Холмс больше мимикой, так как явно желал сохранить наш диалог втайне. – Вы с ума сошли, Ватсон! Все чертовски плохо, просто отвратительно! Через какие-то час-два всё решится, и все благополучно разъедутся. Лицо мисс Морстен озарится смешанным сиянием счастья обретшей богатство беднячки и недоумения, кто вообще такой этот доктор, как бишь его…








