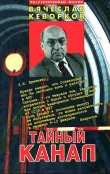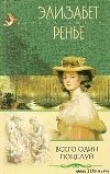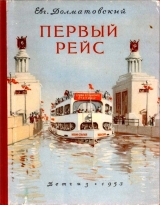
Текст книги "Первый рейс"
Автор книги: Евгений Долматовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Везли также нарезанный плитками дерн. По берегам вдоль сухого еще ложа канала, мощенного камнем, шли землекопы с непривычными для этих мест орудиями в руках – лопатами. Они выкапывали ямы для посадки деревьев и кустарников.
В те дни на одном из готовых участков канала – у Береславских заградительных ворот – мы увидели в низине темный квадрат, похожий издали на полк, стоящий сомкнутым строем. Когда подошли ближе, ока-залось, что это кустарники, сложенные ветка к ветке и готовые к тому, чтобы рассредоточиться вдоль берегов для их обороны.

Несмотря на то что распутица ставила под угрозу выполнение плана бетонных, земляных и монтажных работ, работы по озеленению не были отодвинуты. Распоряжения о посадке цветов и деревьев можно было услышать и в кабинете начальника политотдела, и у главного инженера, и в коттеджах, где размещались конторы строительных участков. Вопрос о газонах с цветами и многолетней травой обсуждался наравне с вопросом об укладке бетона. Бетон и цветы – неразрывные части великой стройки!
Начальник конторы озеленения, тихий человек (орденские ленточки на его пиджаке могли бы рассказать о его большом боевом пути), несколько часов подряд рисовал перед нами картину лесных полос, которые встанут вдоль канала.
– Многое из того, что сделано на канале, – говорил он, – будет скрыто под водой, а наверху будут красоваться лес и зелень. Мы создадим новый пейзаж. Перед нами стоит задача – с помощью зелени защитить канал от окружающих степных пространств и регулировать водный режим.
Начальник назвал тогда некоторые цифры: 2000 деревьев – декабрьский план. Весна 1952 года – 12 тысяч взрослых деревьев, более 1 миллиона саженцев, 22 миллиона сеянцев древесных пород…
Труды озеленителей уже дали свои результаты: суховеи не занесут канал песком. Будет обеспечен и надлежащий водный режим. В осуществленном плане озеленения канала, так лее как и во всей стройке, воплощена мечта о прекрасном.
Это в равной степени относится и к архитектурному оформлению канала. Архитектура сооружений Волго-Дона родственна архитектуре московского метро, высотных зданий столицы и лучших домов, построенных в разных городах. Она знаменует возникновение и утверждение нового стиля – советского, коммунистического. В нем легко и свободно сочетаются классика русского зодчества с новой, социалистической архитектурой, использующей могучую современную технику.
Главная тема архитектурного оформления Волго-Дона – боевые и трудовые подвиги советского народа. Канал явился прекрасным памятником победоносной Сталинградской битвы – ведь советские воины геройски прокладывали путь к нашей мирной созидательной жизни!
Скульптор Евгений Викторович Вучетич, автор монументальной скульптуры Иосифа Виссарионовича Сталина, с группой архитекторов Волго-Дона стоит на корме теплохода. О чем они беседуют, пристально рассматривая каждую деталь в сооружениях, мимо которых проплывает теплоход? Они обсуждают будущие проекты: каким будет здание Сталинградской ГЭС, как будет оформлен канал Волга – Урал, какова будет роль восточной архитектуры на Главном Туркменском канале. Во всех разговорах и беседах сегодня, на завершенной уже стройке, чувствуется неудержимое стремление идти вперед, в будущее!
Из каюты выходит на палубу пожилой человек с открытым высоким лбом. Это Сергей Яковлевич Жук, наш известный гидростроитель, начальник «Гидропроекта» и главный инженер Волгодонстроя. Под его руководством выполняются проектно-изыскательские и исследовательские работы, связанные со строительством Куйбышевской и Сталинградской ГЭС, Южно-Украинского и Главного Туркменского каналов.
Сергей Яковлевич вспоминает, как пятнадцать лет назад он ехал по каналу Москва – Волга на этом же теплоходе «Иосиф Сталин», открывавшем навигацию. Много волжской воды пришло с тех пор в Москву, неизмеримо выросла за эти годы отечественная техника, новый размах приобрели созидательные работы.

Теплоход идет по Чапурниковской водной «лестнице». Здесь шлюзы расположены очень близко один от другого, и техническое название «лестница» себя вполне оправдывает. Словно по голубым ступеням, мы поднимаемся на водораздел, высшую точку канала – восемьдесят восемь метров над уровнем Волги.
Вот шестой шлюз – один из самых трудных объектов строительства.
Подпочвенные воды располагались здесь в три слоя, и грунт этот получил название «слоеный пирог». Горьким оказался этот «пирог»! Возникало даже сомнение в возможности построить шлюз на этом месте. Но если бы постройка шлюза оказалась здесь невозможной, пришлось бы переносить всю трассу канала. Стараниями строителей шестой шлюз был возведен на запланированном месте и точно в срок пропустил подступившую к нему донскую воду.
Когда теплоход вошел в камеру восьмого шлюза, мы особенно внимательно осматривали его гладкие стены, облицованные квадратными плитами. Рассказывали, что в устоях шлюза имеется ниша – она закрыта, и ее невозможно различить сейчас, – где, по старинной традиции, замурована бутылка с листом бумаги – письмом в грядущее. Долгие века лежать этому письму – навсегда сложены сооружения Волго-Дона! Никто не раскроет бутылки и не прочитает письма строителей, в котором говорится: «В момент строительства первой стройки коммунизма идет всемирная борьба за мир, за прекращение войны. Лозунг нашего времени – миру мир! В стране идет великое строительство на Волге, Днепре, Аму-Дарье…» И далее в письме приведен список строителей восьмого шлюза.
Теплоход поднимается по шлюзам «лестницы» все выше и выше, словно не хочет расстаться с этим замечательным днем и восходит на гору, чтобы дольше видеть солнце. За шлюзами, обрамленными белокаменными башнями, над новой донской степью розовеет закат…
Мы на вершине водораздела, высоко над Доном, и еще выше – над Волгой. Теплоход плывет сейчас, как по долине, глубоко врезанной между горами. Это не старые горы, не складки земной поверхности. Эти горы насыпал большой шагающий экскаватор «ЭШ-14-65», начальник которого Анатолий Усков выступал сегодня на митинге в Красноармейске. Вот сколько земли пришлось вынуть из русла канала!
12
Пионеры, едущие на теплоходе, непременно хотели увидеть знаменитый «большой шагающий». И вот с левого борта теплохода показалась высоко взметенная в вечернее небо стрела. Этот экскаватор задержался на берегах канала. Многие другие машины в собранном или разобранном виде уже отправились на платформах в Куйбышев, в Сталинград, в Туркмению. Уехали малые шагающие, однокубовые и трехкубовые экскаваторы. (Однокубовый экскаватор, еще не так давно казавшийся махиной, получил сейчас ласковое и снисходительное прозвище «малыш».)

Юные путешественники окружили одного из наших спутников-инженеров и забросали его вопросами:
– Почему большой шагающий еще не уехал?
– Он сейчас убирает за собой. Видите, какие горы наворотил? Теперь надо разровнять их, чтобы не портить внешнего облика канала. А когда эта работа будет закончена, экскаватор отправят на строительство канала Волга – Урал. Он там будет не один – канал будут копать много совершенных машин.
Инженер рассказал ребятам историю гиганта. Его построили в Свердловске, но в создании его принимали участие многие города – и Москва, и Харьков, и Ленинград, и Ярославль, и Ташкент, и Магнитогорск, и Горький. Эту махину везли сюда на девяноста платформах, а со всеми деталями он занял сто двадцать железнодорожных вагонов. Экскаватор приводится в движение электричеством, и ему потребно столько энергии, сколько хватило бы для освещения такого города, как Полтава.
Шагающий гигант нам хорошо виден. На его 65-метровой стреле стальные тросы держат ковш, внутри которого может вместиться автомашина «Победа». Сейчас члены экипажа шагающего экскаватора, приветствуя флагман, выстроились возле своей машины и в ответ пассажирам теплохода приветственно машут руками…
Экскаватор издали похож немного на… доисторическое чудовище. Это сходство тем более удивительно, что машина является созданием самой современной техники. Но с древней историей земли большой шагающий однажды встретился…
Вот была история какая;
Размахнувшись в десять тысяч сил,
Котлован под шлюз ковшом копая,
Экскаватор мамонта отрыл.
Через час, узнавши эту новость,
Весь район сбежался в котлован.
Детище эпохи ледниковой,
Мамонт был и вправду великан.
Трехметровые кривые бивни,
Череп угловатый, как скала.
Бочки позвонков обмыли ливни,
Крючья ребер вечность разнесла.
Снят с находки древней глины полог.
В главк идет начальник на доклад,
Из Москвы летит палеонтолог,
Шлет специалистов Сталинград.
Ждет отправки великан угрюмый:
Под скелет должны подать вагон.
Экскаватор посмотрел, подумал,
Странною находкой удивлен.
И шагнул гигант эпохи нашей»
Высотой в четыре этажа,
Ковш стальной над головой поднявши
И, как люльку, на весу держа.
Шел он на работу вдоль канала,
Как живой, вразвалку, не спеша.
Музыка внутри его играла -
Радио, московская душа.
В горсть одну вместиться может мамонт:
Бивни и разрозненный скелет.
Просто удивительно, как мал он Перед великаном наших лет!
Вот уже скрылся за нарытыми им горами «большой шагающий».
Теплоход подходит к десятому шлюзу. Отсюда мы начнем спуск к Дону. Донской склон вдвое меньше волжского – мы поднялись на восемьдесят восемь метров, а теперь нам придется спускаться лишь на сорок четыре.
На палубе студент из Румынии рассказывает о стройке, ведущейся в его стране:
– У нас, по вашему примеру, строится канал Дунай – Черное море. И по объему и по характеру работ это самое большое сооружение, которое когда-либо создавалось в Румынии. Канал пройдет через бедные, болотистые места, через сухие, засушливые земли и преобразит их. Нам очень помогает Советский Союз, доставляющий в Румынию новейшее оборудование – экскаваторы, землесосные снаряды, всевозможные механизмы – и материалы. Советские специалисты помогают нам своим опытом. Сто двадцать миллионов кубометров грунта будет вынуто на нашем канале. Наряду с рытьем канала, выемкой земли и камня, в районе канала идет строительство новых рабочих поселков, городов. Для сооружения шлюзов созданы автоматические бетонные заводы…
– Такие, как этот? – спрашивает румынского студента советский инженер, показывая на темнеющее вдали высокое здание.
– Да, точно такие. Ведь это Советский Союз помог нам их построить. Строители канала Дунай – Черное море все время смотрят на восток. Ваш Волго-Дон – пример и образец для нас! Время бежит быстро – скоро и у нас в Румынии будет такой же праздник. Непременно приезжайте на открытие канала!
– С удовольствием, – улыбается наш инженер и говорит мечтательно: – Вот бы дожить до той поры, когда все реки земли можно будет соединить каналами дружбы!
13
До десятого шлюза мы входили в железобетонные камеры шлюзов и в каждом из них поднимались вместе с водой примерно на десять метров. Теперь, когда в шлюзе за теплоходом закрываются стальные ворота и вода начинает убывать, теплоход спускается на десять метров.
Шлюзование идет быстро. Начальник Волго-Донского речного пароходства М. Г. Андреев переговаривается с эксплуатационниками, находящимися на берегу. Они с радостью сообщают:
– Сегодня шлюзование проходит на две минуты быстрее, чем вчера! Учимся, товарищ начальник, набираем темпы!
До сих пор мы видели около шлюзов небольшие водохранилища – у каждого шлюза свое. Теперь мы вступаем в район больших водохранилищ, расположенных на донском склоне. Первое из них – Варваровское. Оно образовалось в тех самых местах, где в годы гражданской войны Красная Армия вела бои с белогвардейцами и интервентами на подступах к Царицыну.
Уже стемнело, и воды степного озера-водохранилища сливаются вдали с вечерним небом. Ярким неоновым светом горят на водохранилище знаки судоходной обстановки – створы, бакены, маяки, по которым ориентируются суда. На левом берегу уже совсем исчезли из виду высокие стальные мачты электропередачи, словно сопровождавшие нас в пути.
Линии высоковольтных передач стали теперь неотъемлемой частью пейзажа нашей Родины. Линия эта на Волго-Доне имеет свою историю. Прошлой осенью на мачтах была лишь одна цепь высоковольтной передачи. Когда для механизмов, стройки потребовался дополнительный ток из Сталинграда, перед монтерами и верхолазами встала трудная задача – надо было навесить вторую цепь, не выключая высоковольтного тока из первой. Навешивать вторую линию при проходящем рядом токе напряжением в 110 тысяч вольт было очень трудно. Такая работа производилась впервые и требовала осторожности и храбрости. Верхолазы «Донбасссетьстроя» самоотверженно справились с этим заданием. Они провели вторую линию, ни на минуту не задержав и не нарушив работы строителей.

Вслед за Варваровским открылись просторы Береславского водохранилища. На месте этого водохранилища еще недавно находились станицы, из года в год страдавшие от суховеев и безводья. Последние пять лет здесь не было хороших урожаев. Тучи, шедшие с Каспия или с Черного моря, не проливались здесь дождем; подхваченные потоками теплого воздуха, струящегося от нагретой почвы, они уходили прочь.
В водохранилищах берут свое начало оросительные каналы, которые навсегда обезопасят эту землю от засухи. Жители станиц, переселившиеся на новые места, уже в этом году ощутили животворное дыхание канала.
Казалось бы, не так уж сложна задача – создать водохранилище: достаточно преградить путь воде, и она широко разольется в степной впадине. Но создание водохранилища на донском склоне было не легким и не простым делом: вода сюда не пришла сама, ее перекачали из Дона мощные насосные станции.
Мы плывем в тех местах, где расположены насосные станции – три сердца канала: Варваровская, Мариновская и дальше, у самого Дона, – Карповская.
Приветливо светятся огни поселков, расположенных по берегам. Поселки состоят из маленьких домиков-коттеджей, но в каждом обязательно есть и большой дом – и, конечно, это школа.

Впереди самое большое водохранилище канала – Карповское. Здесь когда-то протекала, пересыхая к середине лета, речка Карповка.
Карповское водохранилище – преддверие Цимлянского моря. И ветерок над ним уже свежий, морской. Пологие берега его, затянутые дымкой, даже днем едва различимы. Мы шли по водохранилищу ночью и видели далеко от себя многоточия огней, указывающие, где находится берег.
В этих местах приходилось бывать трижды: летом 1942 года, в дни ожесточенных боев за Сталинград, в ноябре того же года, когда, наступая, здесь соединились войска двух фронтов, и в третий раз – во время строительства канала. Земля здесь имеет какой-то красноватый оттенок. Поднимешь горсть – она окажется тяжелой, потому что состоит чуть не на половину из ржавых осколков снарядов. Это не преувеличение – с одного квадратного метра этой земли можно было собрать тысячи кусочков металла. Среди редких и чахлых степных цветов лежали такие же ржавые, причудливой формы куски стали – хвостики мин со стальным оперением. Не было здесь ни метра земли, на котором не разорвалась бы мина.

Наш флагманский корабль долго шел по Карповскому водохранилищу.
Владимир Иванович Севастьянов – главный инженер Донского района, в который входило строительство водохранилища, смотрел на красные и зеленые полосы створов, прислушивался к журчанию воды за кормой и говорил:
– Все не верится, что здесь море. Мы намечали его границы, наполняли его водой, но когда смотришь на этот простор, все не перестаешь удивляться…
Вся вода, заполнившая канал, была перекачана из Дона насосными станциями, и в первую очередь – Карповской насосной станцией; вон вдали видны ее огни. Карповская станция начала качать воду в канал I февраля 1952 года и с тех пор непрерывно несет свою службу.
Оборудование насосных станций сделано на уральских заводах. Для гигантской работы по перекачке воды впервые применялись специальные пропеллерные насосы. Когда славят строителей, обычно упоминают экскаваторщиков, бульдозеристов, скреперистов, бетонщиков, водителей, но почему-то редко говорят о монтажниках. А ведь люди этой профессии сыграли на стройке не меньшую роль, чем другие.
Многотонные детали насосов и другого оборудования для Карповской насосной станции были привезены сюда прошлой осенью на платформах, но к самому машинному валу железнодорожного пути подведено не было: мешала земляная перемычка. Детали надо было перенести к месту монтажа. Но каким способом? Ведь ротор и статор весили около пятнадцати тонн каждый, а находившийся у насосной станции кран был рассчитан на подъем десяти тонн.
– Мы поднимем детали краном-дерриком, несмотря на то что ему такие тяжести поднимать не положено, – заявил инженер-монтажник Поляков. – Кран нас послушается, – уверял он.
И Поляков сумел так использовать кран, стоявший у станции, что он поднял и перенес нужный груз. Детали насосной станции встали на место.
В праздничной толпе строителей на митинге в Красноармейске я искал глазами инженера Полякова, но, к сожалению, не нашел его. Начальник строительства тринадцатого шлюза Михаил Гиль сказал мне:
– Поляков со своими монтажниками – вечный кочевник. Закончили монтаж Карповской станции – двинулись дальше, на Мариновку, на Варваровку. Смонтировали все, что нужно, – поехали на другую стройку. Здесь их уже не найдешь…
Здание Карповской насосной станции, арка тринадцатого шлюза, бетонная гряда плотины – все украшено гирляндами лампочек.
– Как красиво отражаются лампочки в воде! И вода хорошая, смирная, – говорит Гиль. – А сколько с этой водой пришлось хлебнуть горя во время строительства!
Невольно возникают в памяти суровые дни весенних паводков, наступления подпочвенных вод.
Нам так привычен стройки гром!
И разворот
Больших работ
Мне с юношеских лет знаком.
Но я не думал никогда,
Что станет нам врагом вода:
Преградой на пути своем.
Она пришла из-под земли -
Чиста, светла,
Она пришла.
Начать мы кладку не могли,
Пока не справимся с водой,
С такой нежданною бедой.
Не в океане корабли
В десятибалльный ураган, -
Тонули тут Мечта и труд,
За котлованом котлован.
В степной ковыльной тишине,
Хранящей память о войне,
Подземный вышел океан.
По зев трубы к нему прирос.
Качай, качай,
Беду встречай,
Спеши, насос, трудись, насос!
Вонзились фильтры, как штыки,
В земную хлябь, в кадык реки,
И обескровел этот плёс.
Но до победы далеко.
Весной опять Повоевать
Пришлось с водою.
Из оков
Освободился тихий Дон
И вдруг рванулся, разъярен,
На левый берег. Не легко
Пришлось строителям! Волна,
Глядишь, вот-вот Перехлестнет
Плотины, насыпи. Она
Не пощадит двухлетний труд -
Всё воды вешние сотрут.
Но люди встали, как стена,
И детище свое спасли,
Вступивши в бой
С донской весной
Во имя вёсен всей земли.
Да, не один поэт был прав,
В который раз в стихах сказав:
Огонь и воду мы прошли!
14
Триумфальная арка тринадцатого шлюза – не только донские ворота канала, она поставлена как памятник соединению наших войск в ноябре 1942 года. Золотыми буквами на ней написано: «Слава победоносной Советской Армии!», «Слава нашей великой Родине!» Бронзовые барельефы на арке изображают советских воинов в наступлении.
Уже светает – июльская ночь коротка. Вдали угадывается высокий, правый берег Дона. Нам осталось пройти по участку канала, вырытому комсомольско-молодежным земснарядом № 307.
Часов десять прошло с того момента, когда у волжского входа в канал была разрезана красная лента. Еще несколько километров – и наше путешествие по каналу будет завершено, мы войдем в Дон. Никто не спит в эту ночь на теплоходе, никому не хочется расставаться с каналом; даже немного грустно, что это чудесное путешествие завершается.

Теплоходом пройден сто один километр новой водной дороги с ее тринадцатью плотинами и дамбами и другими сооружениями – мостами, паромными переправами, пристанями и идущей вдоль канала автомобильной дорогой.
Канал соединил пять соленых морей. Я говорю о соленых морях потому, что сегодня утром нам предстоит начать плавание по новому, пресному морю – Цимлянскому.
Пока же, выйдя из русла канала и обогнув маяк, теплоход «Иосиф Сталин» начинает движение вверх по Дону. Мы идем к пристани Калач.
Многим из нас приходилось и раньше бывать в Калаче. В военных сводках Сталинградской битвы он не раз упоминался. Помнится сонная тишина этого городка, редко разбросанные казачьи курени, пустынные улицы…
С правого борта теплохода показались корпуса большого завода, за ними – ряды двухэтажных домов. В синеве раннего утра мы увидели большой город, край его терялся где-то в степи.
Великая стройка преобразила Калач: здесь находился ее штаб, здесь выросли клубы и школы, стадион и бесчисленные кварталы жилых домов и коттеджей. На окраине шеренгой стоят автобусы – красные с желтым, такие же, как в Москве. Трудовой день еще не начался, и автобусы ждут своего часа, чтобы выйти за пассажирами на асфальтированную магистраль, пересекающую город, – Октябрьский проспект.
Теплоход причаливает к пристани Калач-такому же просторному и светлому дебаркадеру, как тот, что стоит в Красноармейске у входа в канал со стороны Волги.
И здесь мы увидели могучий речной порт с линией портальных кранов, бетонными причалами и подведенной к пакгаузам железной дорогой.
Не было раньше такого порта – Калач; была лишь маленькая пустынная пристань, более пригодная для лодок, чем для пароходов. Дон не был судоходен в этих местах – пароходы ходили лишь в его низовьях и страдали от непрерывно меняющих свое местоположение мелей и перекатов.
Десятки пароходов приветственными гудками встретили приход флагманского корабля. Рейс теплохода «Иосиф Сталин» закончен. Завтра он пойдет в обратный рейс – в Москву, а мы будем продолжать свой путь – до Ростова-на-Дону.
Вслед за флагманом подошли к пристани Калач большие волжские пароходы, участвовавшие вчера в параде у Красноармейска, – «Сталинская Конституция» и «Марксист». Мы переходим на пароход «Сталинская Конституция», дружески прощаемся с командой флагмана. До следующей встречи!
С особенным волнением начинаем путешествие по Цимлянскому морю. Ведь этому морю всего несколько месяцев, и мы -одни из первых, кому предстоит проплыть по нему на пассажирском судне.
Бросаем прощальный взгляд на триумфальную арку тринадцатого шлюза, проходящую по левому борту судна, на маяк и дальнюю голубизну Карповского водохранилища.

Последний шлюз. И впереди – Могучий Дон.
Разлился он
И морем сделался. Гляди,
Оно колышется плеща,
Как складки синего плаща
У великана, на груди.
А знаешь, друг, еще вчера
И на месте том,
Что стало дном,
Станицы были, хутора,
Знакомый дом, зеленый сад,
Макитры на колах оград
И голубь посреди двора.
Снялись станицы с древних мест.
Шагай, шагай,
Казачий край,
Оставь извечный свой насест!
Вот так советский человек
Менял не только русла рек,
Но русло жизни. Переезд
Стал праздником. Хоть не легко Переезжать И покидать
Тропинку детства над рекой.
Станица говорит: «Иду!»
Дома на тракторном ходу
Ползут степями далеко.
Вот на машинах едет сад,
И птичий двор Свой разговор
Ведет с моторным шумом в лад.
Как будто в сказке, едет дом,
И над трубою дым столбом,
И голуби за ним летят.
Вдали, на высоких берегах, видны переселенные станицы. Их сразу отличишь по планировке улиц: люди устроились на новом месте по-новому, так, чтоб удобнее и радостнее было жить, расставили свои дома вдоль морского берега, протянули широкие улицы в глубь станицы, на самом видном месте поставили школы и клубы. Еще совсем молод и пока не густ зеленый наряд станиц, но деревья прижились на новом месте, а бахчи и огороды уже вдоволь напоены водой.