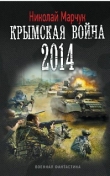Собрание сочинений. Том 6

Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Непонимание
Любимая,
испуг в глазах твоих.
Что сделать,
чтоб от страха излечилась?
Но я не знаю,
кто из нас двоих
растерян больше
тем, что так случилось…
И не терявшийся
среди убийц,
хамья,
постылой славы
или ресторанства,
перед твоей растерянностью
я
сам растерялся.
Мне жестко отвечая,
как вралю,
ты защищаешь
красоту и юность,
но все-таки звучит:
«Я вас люблю», —
когда ты говоришь:
«Я не люблю вас».
Любовь растет на свалках,
в лопухах
застенчивым беспомощным растеньицем.
В ней так же,
словно в истинных стихах, —
растерянность.
Самоуверенность
есть признак фальши чувств.
Я растерялся до изнеможенья,
и я как будто заново учусь
и говорить,
и совершать движенья.
Все кажется тебе,
что в дверь стучатся.
Дай губы нареченные твои,
в отчаянье нечаянного счастья
растерянность
навеки
раствори…
Гагра, октябрь 1972
Твои шаги
Закон непонимания един
в России,
на Таити
и в Японии…
Я вас любил,
я так с ума сходил,
а вы не поняли.
Над вами любопытство верх взяло.
Ну что ж,
вы это удовлетворили
и отвернулись после от всего,
что мне дало невидимые крылья.
«Любимая! Меня вы не любили…»
Есенин, —
та же самая беда,
и стало небылью
все то, что было былью,
а может, было небылью всегда.
А вы?
А ты?
Что чувствовала ты?
А может быть, не чувствовала даже,
и роль сыграл
простой закон продажи
за воображенные цветы?
Но я надеюсь…
Робко, но надеюсь,
что ты была со мной так жестока
лишь потому,
что внутреннее детство
внушило относиться свысока.
Надеюсь,
что когда б тебе сейчас
я кинул слово,
беззащитно-подлое,
ты бы сказала:
«Я любила вас,
а вы не поняли».
Гагра, октябрь 1972
О, только бы не привыкнуть
И все, что море ни играет,
когда над пальмами ни зги,
что ни нахрустывает гравий, —
твои шаги, твои шаги.
Ты там на севере проклятом,
тебя укравшем у меня,
и кеды выцветшие сняты
у лжекаминного огня.
И по дороге, без дороги
ко мне идут, как в забытьи,
такие маленькие ноги,
такие – Боже мой! – мои.
Как сквозь репьи, идут сквозь беды,
блестя белками на боках,
твои в колючках горных кеды,
в разводах соли на мысках.
Я вижу крошечные копья
концов шнурочных жестяных
и на шнурках – седые хлопья
носков абхазских шерстяных.
Твои шаги мне предрешают,
что мне себя не побороть.
Тебя их шорох воскрешает,
и шорох обретает плоть.
Жизнь без тебя не опустела.
Со мной, – горячечно дыша,
шагами слепленное тело,
шагами спетая душа.
И шепчут в мраке кинозала,
где на экране – сапоги, —
все то, что ты мне не сказала,
твои шаги, твои шаги.
Гагра,октябрь 1972
«Женщина всегда чуть-чуть, как море…»
О, только бы не привыкнуть
к Господнему чуду глаз
и в тысячный раз приникнуть
к губам, словно в первый раз!
Привычка со скукой на морде,
со спичкою в дуплах зубов,
как пресное море – не море,
привычка – уже не любовь.
Пусть лучше не вместе, а порознь,
но только не задави,
привычки товарный поезд,
живого ребенка любви!
Гагра, октябрь 1972
Ты вспомнишь обо мне
Женщина всегда чуть-чуть, как море.
Море в чем-то женщина чуть-чуть.
Ходят волны где-нибудь в каморке,
спрятанные в худенькую грудь.
Это волны чувств или предчувствий.
Будто бы над бездной роковой,
завитки причесочки причудной
чайками кричат над головой.
Женщина от пошлых пятен жирных
штормом очищается сама,
и под кожей в беззащитных жилках
закипают с грохотом шторма.
Там, на дне у памяти, сокрыты
столькие обломки – хоть кричи,
а надежды – радужные рыбы —
снова попадают на крючки.
Женщина, как море, так взывает,
но мужчины, словно корабли,
только сверху душу задевают —
глубиной они пренебрегли.
Женщина, как море, небо молит,
если штиль, послать хоть что-нибудь.
Женщина – особенное море,
то, что в море может утонуть.
Гагра, октябрь 1972
Несколько нежных дней
Забвенье ты зовешь
отчаянно на помощь,
но море заревет
с картины на стене.
Картину можно снять,
и все-таки ты вспомнишь,
лишь море вспомнишь ты, —
ты вспомнишь обо мне.
В диспансере твоем
рукав закатан чей-то,
но, поднимая шприц,
ты вздрогнешь: на руке
в веснушки якорь врыт,
и вдруг сетей ячейки
в глазах возникнут вновь,
и пена на песке.
С работы ты придешь.
Ты включишь телевизор.
Покажут, скажем, Кипр.
Красивая страна,
но вдруг, разбив экран,
тебе в колени – с визгом
собакою из Гагр —
эгейская волна.
И даже стирки плеск,
и пена лимонада
напомнят вновь прибой.
Шепча: «Исчезни! Сгинь!» —
ты примешься глотать
таблетки люминала,
но даже привкус их
покажется морским.
Союз наш закреплен,
как в тайном договоре,
чернилами тех волн,
и мы не врозь живем.
Пока есть в мире мы,
пока есть в мире море,
пока есть море в нас, —
мы навсегда вдвоем.
Гагра, октябрь 1972
«Жизнь, ты бьешь меня под вздох…»
Несколько нежных дней:
вздрагиванье камней
от прикасанья ступней,
пробующих прибой,
и на пушке щеки,
и на реке руки —
родинок островки,
пахнущие тобой.
Ночь была только одна:
билась о дамбу волна,
штора хотела с окна
прыгнуть в ревущую глубь.
Шторм берега разгромил
и пополам разломил
звездный огромный мир
пахнущих штормом губ.
Так вот горят на кострах —
спутаны страсть и страх.
Вечно – победа и крах,
словно сестра и брат.
Руки на мне сцепя,
больно зубами скрипя,
ты испугалась себя —
значит, я сам виноват.
Лишний – второй стакан.
Вскрикивает баклан.
Стонет подъемный кран,
мрачно таская песок.
Слева подушка пуста,
лишь на пустыне холста —
впившийся неспроста,
тоненький твой волосок.
Есть очень странный детдом:
плачут, как дети, в нем,
плачут и ночью и днем
дни и минуты любви.
Там, становясь все грустней,
бродят среди теней
несколько нежных дней:
дети твои и мои.
Гагра, октябрь 1972
«Бессердечность к себе…»
Жизнь, ты бьешь меня под вздох,
а не уложить.
До восьмидесяти трех
собираюсь жить.
Через сорок три годка —
потерпи, казак! —
вряд ли станет жизнь сладка,
но кисла не так.
Будет сорок семь тебе,
мой наследник Петр,
ну а батька в седине
все же будет бодр.
Будет он врагов бесить,
будет пить до дна
и на девочек косить
глазом скакуна.
Будет много кой-чего
через столько лет.
Результатец – кто кого —
будет не секрет.
Встретят улицы и рю
общую зарю.
Я в Мытищах закурю,
в Чили докурю.
Телевизор понесут
под колокола
на всемирный Страшный суд
за его дела.
Уничтожат люди рак,
бомбу, телефон.
Правда, выживет дурак,
но не так силен.
Зажужжат шкивы, ремни.
Полный оборот —
и машина времени
Пушкина вернет.
1972
Предел
Бессердечность к себе —
это тоже увечность.
Не пора ли тебе отдохнуть?
Прояви наконец сам к себе человечность —
сам с собою побудь.
Успокойся.
В хорошие книжки заройся.
Не стремись никому ничего доказать.
А того, что тебя позабудут, не бойся.
Все немедля сказать —
как себя наказать.
Успокойся на том,
чтобы мудрая тень Карадага,
пережившая столькие времена,
твои долгие ночи с тобой коротала
и Волошина мягкую тень привела.
Если рваться куда-то всю жизнь,
можно стать полоумным.
Ты позволь тишине
провести не спеша по твоим волосам.
Пусть предстанут в простом освещении лунном
революции,
войны,
искусство,
ты сам.
И прекрасна усталость, похожая на умиранье, —
потому что от подлинной смерти она далека,
и прекрасно пустое бумагомаранье —
потому что еще не застыла навеки рука.
Горе тоже прекрасно,
когда не последнее горе,
и прекрасно, что ты
не для пошлого счастья рожден,
и прекрасно какое-то полусоленое море,
разбавленное дождем…
Есть в желаньях опасность
смертельного пережеланья.
Хорошо ничего не желать,
хоть на время спешить отложив.
И тоска хороша —
это все-таки переживанье.
Одиночество – чудо.
Оно означает – ты жив.
Коктебель, 1972
«Уже тебя, как старца, под микитки…»
Предел на белом свете есть всему:
любви, терпенью, сердцу, и уму,
и мнимой беспредельности простора.
Тебя напрасно мучает, поэт,
небеспредельность сил твоих и лет:
поверь, в ней никакого нет позора.
А то, что ухмыляется подлец:
мол, вот он исписался наконец, —
пусть это будет от тебя отдельно.
Ты на пределе, а не оскудел.
Есть у любого гения предел —
лишь подлость человечья беспредельна.
1972
Семья
Уже тебя, как старца, под микитки
подхватывает нежно чья-то лесть,
уже давно смешны твои попытки
казаться величавей, чем ты есть.
И ты глядишь до отвращенья кротко,
сам утверждая собственную смерть,
как с дрожью диссертантка-идиотка
тебе сует свой опус – просмотреть.
И руки обессиленно повисли.
Сломала зубы молодость, и вот —
рассудочность сомнительные мысли
пластмассовою челюстью жует.
Какой же толк тогда в литературе
и в жизни обеззубевшей такой,
когда не бури ищешь ты, а тюри,
хотя, конечно, в тюре есть покой?..
1972
Свидание в больнице
И та, которую любил,
измучена тобой
и смотрит в страхе на тебя,
как будто на врага,
когда в репьях ночных безумств
приходишь ты домой,
дом оскверняя,
где тебе не сделали вреда.
И забивается твой пес
в испуге под кровать,
настолько пахнешь ты бедой
для дома своего.
Не подбегает утром сын
тебя поцеловать —
уже неведения нет
в глазенках у него.
Ты так старался отстоять
свободочку свою
от гнета собственной семьи.
Добился наконец.
Тот мещанин убогий,
кто мещанством счел семью,
кто, ставший мужем и отцом,
не муж и не отец.
Мысль о несчастности страшна.
Приятна между тем.
Подлинка сладенькая —
так оправдывать вину:
«Ах, я несчастный человек,
не понятый никем».
А ты попробовал понять
хотя б свою жену?
Защита грубостью – позор,
когда так беззащитен взор
той, чью единственную жизнь
посмел ты обокрасть,
а покаяние – уют,
где справку запросто дают,
что ты покаялся,
ты чист
и можешь снова – в грязь.
Но все же верит сын,
что ты велик и всемогущ,
и синева в его зрачках
до зависти свежа.
Ты головеночку его
случайно не расплющь,
когда ты хлопаешь дверьми,
к свободе вновь спеша.
Благослови, Господь, семью —
творения венец.
На головеночках детей
покоится земля.
Святая троица земли —
Ребенок, Мать, Отец,
и человечество само
не что-нибудь – семья.
Пора кончать весь этот бред,
пока еще презренья нет
к тебе ни в собственной жене,
ни в шелесте сосны,
пока сквозь ветви иногда
в окно еще глядит звезда
без отвращенья на тебя,
а с жалостью сестры.
1972
Гале
Кончики волос
Свидания с тобой теперь в больнице.
Медсестры —
как всевидящий конвой.
Лицо твое растерянно бодрится…
Оставьте мою милую живой!
Когда ты остаешься там,
в палате,
в своем казенном байковом халате,
я —
брошенный тобой ребенок твой.
Я сам тебя себе чужою сделал.
Что натворил я с нервами и с телом
единственной,
которую любил?
И вдруг ты говоришь не как чужому:
«Ты кашляешь?
Попил бы ты боржому.
Здесь есть в буфете.
Я схожу куплю».
Прости за исковерканные годы,
за все мои возвышенные оды
и низость плоти после этих од —
души и тела горестный разброд.
И то, что ты болеешь, разве странно?
Болезнь всегда первоначально – рана,
как эту рану ты ни назови.
К любви счастливой ощущая зависть,
болезни, как гадюки, заползают
в проломы душ,
в развалины любви.
Но почему за эти преступленья
ты платишь,
ну а я гуляю,
пью?
Пойду к врачам и встану на колени:
«Спасите мне любимую мою!
Вы можете ли знать,
товарищ доктор,
зондирующий тайны бытия,
какой она бывает к людям доброй,
а если злой бывает —
это я.
Вы можете ли знать,
товарищ доктор,
какой она узнала в жизни ад,
какой она узнала яд и деготь,
а я – ей снова деготь,
снова яд.
Вы можете ли знать,
товарищ доктор,
что если есть во мне какой-то свет,
то из ее души
его я добыл
и только беспросветность дал в ответ.
В меня свой дух,
в меня свое здоровье
она переливала:
– Не болей! —
Возьмите до последней капли крови
всю кровь мою
и перелейте ей».
Усталый,
как на поле боя Тушин,
мне доктор говорит
с такой тоской:
«Ей ничего не надо…
Только нужен
покой —
вы понимаете? —
покой!»
Покой?
Скажите, что это такое?
Как по-латыни формула покоя?
О, почему,
предчувствиям не вняв,
любимых сами в пропасть мы бросаем,
а после так заботливо спасаем,
когда лишь клочья платья на камнях?
1972
Ланни Мак Холти
«Я не играю в демократа…»
Было то свиданье над прудом
кратким, убивающим надежду.
Было понимание с трудом,
потому что столько было между
полюсами разными земли,
здесь на двух концах одной скамьи.
И мужчина с женщиной молчали,
заслонив две разные семьи,
словно две чужих страны, плечами.
И она сказала – не всерьез,
вполушутку, полувиновато:
«Только разве кончики волос
помнят, как ты гладил их когда-то».
Отводя сближенье, как беду,
крик внутри смогла переупрямить:
«Завтра к парикмахерше пойду —
вот и срежу даже эту память».
Ничего мужчина не сказал.
Он поцеловал ей тихо руку
и пошел к тебе, ночной вокзал, —
к пьяному и грязному, но другу.
И расстались вновь на много лет,
но кричала, словно неизбежность,
рана та, больней которой нет, —
вечная друг другу принадлежность.
1972
Помпея
Я не играю в демократа,
когда от Родины вдали
всей шкурой чувствую как брата
любого нищего земли.
Я не играю в гуманиста,
когда у драного плетня
под переборы гармониста
крестьянской песней ранен я.
Я не играю в либерала,
когда хочу, чтобы сперва
жизнь у людей не отбирала
их небольшие, но права.
Я не играю в патриота,
когда под волчье улюлю
хриплю в тайге в тисках болота:
«Россия, я тебя люблю».
Я не играю в гражданина
земного шара, если мне
так жаль тебя, парижский рынок,
с Арбатом старым наравне.
И ни в кого я не играю,
ни у кого не в кабале,
или в избе, или в вигваме,
на сцене или в кабаке.
Ни тем, ни этим не в угоду
я каждый день бросаюсь в бой
и умираю за свободу —
свободу быть самим собой.
1972
Детский крик
Человек
расползается,
тупея,
если стала
сила духа
в нем слаба.
Человек
погибает,
как Помпея,
вызывая
Везувий
на себя.
Жажда власти
или пошлая слава
человека закрутила,
повела,
но уже бурлит
в котле подземном лава,
та,
которой
сами люди – повара.
Не жалеет лава
храмов,
пьедесталов
и врывается,
в звонок не позвонив,
слепки делая с людей,
как их застала,
плоть сжигая,
сохраняя позы их.
Что оставит бездуховность?
Слепки лени,
слепки рабства,
слепки чванства без стыда,
слепки оргий,
деловых совокуплений,
а внутри всех этих слепков —
пустота.
Человеку лестью
хочется взбодриться.
В подхалимстве
он купается, урча,
нежась,
будто в бане мраморной
патриций,
а вулкан
уже дымит из-за плеча.
Человек сидит,
в подпитии пупея.
Он забыл,
что он давно не человек,
он забыл,
за что наказана Помпея,
а забвение всегда —
начало бед.
Как играют
пузырьки внутри бокала!
Но лежит уже
в Помпее кабака
черный пепел
раздраженного вулкана
на распятых
цыплятах табака.
1972
Признание властолюбца
Раздражающий детский крик,
вызывающий нервный тик
у любителей мертвого часа,
в Коктебель по-бунтарски проник,
и терпенья создателей книг,
так сказать, переполнилась чаша.
Никакой не поможет щит.
Что-то ползает, что-то пищит
под ногами у соцреализма.
Детский лозунг: «Война – творцам!»
Не в пример деловитым отцам,
дети, словно с цепи сорвались вы.
Мальчуган-курнопеля жесток.
Он свистит в милицейский свисток,
чтоб роман у папули не вышел.
И, скача на одной ноге,
швыранула дочь критика Г.
в его «Эрику» – косточки вишен.
Дети лают, коверкают «эр»,
дети папам сбивают размер,
то лягушку на стол им подложат,
то ревут, рифмовать не веля
«зрелость – смелость», «земля – Кремля»,
«трактор – трактом» и «площадь – полощет».
И в искусстве есть мертвый час,
убаюкивающий нас, —
лень, одышка, отрыжка, зевотца,
но не вечен духовный тупик —
будет чей-нибудь детский крик,
в мертвый час он прорвется, взорвется.
Детский крик по-язычески дик,
но что он справедлив и велик,
не поймет либо дуб, либо – дура.
Жизнь кричит, мертвечину поправ.
Детский крик раздражает? Он прав.
То же самое литература.
1972
Л. Палею
Под поездом
Быть может, в мире все – борьба за власть:
ораторство, кокетство, дружба, страсть.
Борьба за власть – у петуха, у квочки.
Власть над природой – это цель наук.
Природе без борьбы за власть – каюк,
и в детсадах – борьба за власть в песочке.
Поэты относились все века
к борьбе за власть как будто свысока,
но тщились быть духовными отцами.
Мне вроде никакой не нужен сан,
а между тем я – властолюбец сам:
борюсь за власть над чьими-то сердцами.
1972
Ты вся сжалась внутри.
Что тебе до признаний лирических,
если, будто бы Кедрин,
какою-то темной рукой
твой любимый был выброшен в двери одной электрички
и раздавлен
летящей навстречу другой.
Это было три года назад,
но в затравленной вдовьей придавленности
ты, пытаясь раскрыть свои губы навстречу моим,
в страхе шепчешь, меня оттолкнув:
«Я предательница!» —
и твой суд над собою палачески неумолим.
Ты боишься мужчин.
Всюду чудится скользкое, низкое.
Как спасательный крошечный круг,
обручальное светит кольцо
И когда утешаю неловко тебя,
«Вы неискренни!» —
защищаясь, бросаешь мне больно в лицо.
Ты на пляже лежишь.
Твое тело красиво и молодо.
Чьи-то сальные взгляды
купальник бесстыдно сдирают с тебя,
и не видит никто,
что колесами ты перемолота,
что грохочут они до сих пор,
твои ребра дробя.
Но не видишь и ты
мертвым взглядом, из времени выпавшим,
да и видеть не хочешь —
не веря мне, будто вралю, —
что я тоже под поезд любовью из поезда выброшен
и что я под колесами тоже предсмертно хриплю…
1972