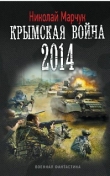Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Руслановские валенки
Будто разверзлись
и хлябь,
и твердь,
и никуда не деться.
Панчо, амиго,
где мы, —
ответь?
«В Зоне Последней Надежды».
Над Патагонией
ветер свистит,
а по движению,
справа,
так прозаично
табличка висит
и подтверждает,
что правда.
«Кэптеном»
Панчо, мой друг,
задымил:
«Символы – чушь.
Мы не дети.
Но, вообще, по-моему, —
мир
в зоне последней надежды».
Что твой обветренный лик,
бородач,
вдруг омрачился тенями?
«Сколько страдали мы —
не передашь!
Сколько надежд потеряли!
Вроде бы все хорошо сейчас.
В руки мы власть получили.
Как будет страшно,
если у нас
что-то сорвется в Чили…
Я – не мальчишка.
Я уже дед.
В жизни ничто не бесследно.
Это не страшно —
лишаться надежд.
Страшно
лишиться
последней».
Панчо,
тугие пришли времена.
Панчо,
но я полагаю:
если обманет надежда одна,
где-то забрезжит
другая.
И беспредельна,
словно любовь,
даже когда неутешна,
зона,
где нет пограничных столбов, —
зона последней надежды.
Пунта Аренас, Чили,июль 1971
Он любил тебя, жизнь
В двухсотмиллионном зале
Русланова по телевидению,
и все, что глаза не сказали,
подглазные тени выдали.
Немолоды плечи и волосы,
в глубоких морщинах —
надбровье,
и все же в искусстве нет возраста,
когда оно —
голос народа.
То церкви с размаху разламывая,
то их воскрешая старательно,
Россия
росла
под Русланову —
под песни с хрипинкой,
с царапинкой.
Теперь я вполне приоделся,
но все же забыть мне нельзя,
как в полуголодном детстве
Русланову слушал, —
нося
валенки,
валенки,
неподшиты,
стареньки.
И вот она вновь на виду,
столькое перетерпевшая,
в четырнадцатом году
солдатам Брусилова певшая.
Купец,
стеганувший кнутом,
и голод —
все было испытано.
Страданья артиста
потом
становятся праздником зрителя.
Поет,
как свершает обряд,
поет,
как в избе у окошка,
и слезы над ликом горят,
как горестный бисер кокошника.
И мы отстоим тебя,
Дон,
и мы отстоим тебя,
Волга,
от пошлых эстрадных мадонн
всемирно безликого толка.
Не выдадим песню свою,
как мы отстояли навеки
в Отечественную войну
отечественные реки,
когда мы с «Ура!» громовым
и с песнями в глотках рисковых
рванули вперед,
на Берлин
из страшных снегов подмосковных —
в валенках,
в валенках,
в неподшитых,
стареньких…
15 июля 1971
Он лежал, Марк Бернес.
Шли солдаты с ткачихами Пресни,
но ни смерть, ни болезнь
не смогли отобрать его песни.
И артист, и таксист
понимали, что плакать не стыдно.
«Я люблю тебя, жизнь», —
тихо пела над гробом пластинка.
Песни жили внутри
тех, кто к гробу цветы приносили,
песни, как фонари,
освещали дороги России.
Эти песни щемят
до сих пор у Балкан и Камчатки,
и на мачты шаланд
песни тихо садятся, как чайки.
Всем стараясь помочь,
он поет и поет, чуть усталый,
и про темную ночь,
и про парня за Нарвской заставой.
В чем Бернеса секрет?
Отчего его помнит планета?
В том, что, в сущности, нет
у него никакого секрета.
Пел Бернес не спеша,
пел негромко, но добро и гордо.
Голос – это душа,
а не просто луженое горло.
Вновь, пластинка, кружись,
настоящее прошлым наполни!
Он любил тебя, жизнь.
Ты люби его тоже и помни.
Июль 1971
Я написал эти совсем простые стихи на мелодию песни Э. Колмановского, используя строчку автора слов К. Ваншенкина, специально для вечера памяти Марка Бернеса, первого исполнителя и морального соавтора моей песни «Хотят ли русские войны?». Исполнить эту песню должен был тогда еще молодой Иосиф Кобзон. К сожалению, Ваншенкин категорически запретил это исполнение.
Бернес стал кумиром моего детства после замечательно сыгранной роли одессита в фильме «Два бойца» (1942). Две напетых им песни: «Шаланды, полные кефали» и «Темная ночь» – знали буквально все (см. «Балладу о шмоне»). Когда я получил новую квартиру, он чудом добыл где-то мне в подарок небесного цвета унитаз и торжественно внес его в наш дом. Соседи были потрясены видением кумира с унитазом и с того дня очень зауважали меня.
Три скульптораНеразделенная любовь
Голубкина, Мухина, Лебедева —
запасник вас все-таки спас.
Как жалко, что больше не лепите вы,
что умерли руки у вас.
Пустынная летняя выставка,
сказав мне: «Постой… Не спеши…» —
какую-то искорку высекла
из окаменевшей души.
И что-то в ней торкнулось, дрогнуло, —
в запаснике спрятанный стыд
и чувство искусства, как Родины,
которая лжи не простит.
Забылись все мелкие сволочи.
Лепя из осколков мой дух,
мерцали, как складень трехстворчатый,
три фото ушедших старух.
Душа моя, в стольком повинная,
бесчувственной быть перестав,
вновь делалась мягкою глиною
в невидимых женских перстах.
В нас проблески самые скудные
есть признак, что свет не погас.
Все женщины, в сущности, скульпторы,
которые лепят всех нас.
Все женщины входят вневременно
в искусство особым путем.
Вдвойне они сразу беременны:
искусством и просто дитем.
Есть подвиг – при девичьей статности
с нетронутым детским лицом
видение собственной старости
пророчески высечь резцом.
Есть подвиг – при женственной прелести,
как сивку, себя укатать
и в скулах железного Феликса
России судьбу угадать.
Кто сдался в искусстве, кто скурвился…
Мы ходим по залам, молчим.
Три женщины русских – три скульптора
сурово глядят на мужчин.
Август 1971
И. Кваше, исполнителю роли Сирано де Бержерака в спектакле театра «Современник»
Умирающий Блок
Любовь неразделенная страшна,
но тем, кому весь мир лишь биржа,
драка,
любовь неразделенная смешна,
как профиль Сирано де Бержерака.
Один мой деловитый соплеменник
сказал жене
в театре «Современник»:
«Ну что ты в Сирано своем нашла?
Вот дурень!
Я, к примеру, никогда бы
так не страдал из-за какой-то бабы…
Другую бы нашел —
и все дела».
В затравленных глазах его жены
забито проглянуло что-то вдовье.
Из мужа перло —
аж трещали швы! —
смертельное духовное здоровье.
О, сколько их,
таких здоровяков,
страдающих отсутствием страданий.
Для них есть бабы —
нет Прекрасной Дамы.
А разве сам я в чем-то не таков?
Зевая,
мы играем, как в картишки,
в засаленные, стертые страстишки,
боясь трагедий,
истинных страстей.
Наверное, мы с вами просто трусы,
когда мы подгоняем наши вкусы
под то, что подоступней,
попростей.
Не раз шептал мне внутренний подонок
из грязных подсознательных потемок:
«Э, братец,
эта – сложный матерьял», —
и я трусливо ускользал в несложность
и, может быть, великую возможность
любви неразделенной потерял.
Мужчина,
разыгравший все умно,
расчетом на взаимность обесчещен.
О, рыцарство печальных Сирано,
ты из мужчин переместилось в женщин.
В любви вы либо рыцарь,
либо вы
не любите.
Закон есть непреклонный:
в ком дара нет любви неразделенной,
в том нету дара божьего любви.
Дай бог познать страданий благодать
и трепет безответный,
но прекрасный,
и сладость безнадежно ожидать,
и счастье глупой верности несчастной.
И тянущийся тайно к мятежу
против своей души оледененной,
в полулюбви запутавшись,
брожу
с тоскою о любви неразделенной.
Август 1971
Когда Блок умирал, те, кто оскорблял его за то, что он принял революцию, присылали лекарства и давали советы, как его лечить.
В миг полуосени-полузимы
И когда шелестели:
«Он отходит…
Он плох», —
то привстал на постели
умирающий Блок.
Он стоял, как на плахе,
напрягая кадык,
в смертной белой рубахе,
на коленях худых.
Обострившийся профиль
и мятущийся дух,
будто что-то он проклял —
лишь не высказал вслух.
И, ощерясь клыкасто
на жалеющий писк,
стал швырять он лекарства
прямо об стену —
вдрызг!
Вдрызг —
все банки и склянки,
дуру-тумбочку – хрясь!
Сердобольные няньки,
так бы об стену вас!
Стыдно,
с горестным взглядом
поправляя кровать,
тем,
кто вскормлены ядом,
витамины давать.
Лицемерны укоры,
что больной так строптив.
Стыдно делать уколы,
в спину нож засадив.
Не лечите поэтов
поздней жалостью к ним.
Им не надо подсветов,
чтоб подсвечивать нимб.
Не учите поэтов.
Вы —
не поводыри.
Им не надо советов —
кроме тех,
что внутри.
Не советуй поэтам,
лживых плакальщиц рать,
как им жить,
что поведать
и за что умирать.
Вы – помощники смерти,
а поэту дана,
как сестра милосердья,
лишь Россия одна.
Вам поэт —
не болонка.
Среди вас —
он изгой.
И скопца
Аполлона
Блок в сердцах —
кочергой.
Как Везувий,
излился
гнев на вас,
пошляки,
Все кудряшки из гипса —
в черепки,
в черепки!
Усмехнулся не гордо
Блок,
уже не жилец:
«Эту жирную морду
я разбил наконец…»
И в искусстве слащавость —
будь то гипс или медь —
никогда не прощалась,
не простится и впредь.
Не продайтесь продаже
те, в ком юность и Бог,
как мятежен был —
даже
умирающий —
Блок.
Шахматово, 8 августа 1971
Вторая жизнь
В миг полуосени-полузимы
что твоя туфелька мне ворожила?
Мертвые листья она ворошила,
что-то выспрашивая у земли, —
только земля свой ответ отложила.
Туфелька, как беззащитный зверек,
ткнулась в ботинок мордочкой мокрой.
Был он какой-то растерянный, мертвый,
он от ответа себя уберег,
ну а вокруг шелестящие метлы
мертвые листья сгребали у ног.
Мертвые листья еще не дожгли.
Я был дожжен. Наша песенка спета,
если на взорванность чьей-то души
в собственной мы не находим ответа.
Нету мудрее и горше совета:
мертвые листья не вороши.
Рядом в песке твой ребенок играл.
В доме напротив твой муж фанатично
делал, так веря тебе безгранично,
маслом пейзаж, где закат умирал.
Я себя чувствовал подло, двулично,
словно я краски чужие украл.
Мертвые листья сжигали привычно.
Дым восходил, как беззвучный хорал.
Был на пейзаже хор воронья,
голые сучья, торчащие мглисто,
были те самые мертвые листья,
ты, твой ребенок, пустая скамья.
Господи, вдруг под провидческой кистью
вырасту тенью предательства я?
Жизнь не простила забавы мои.
Жадным я был. Эта детская жадность
переходила порой в беспощадность
к яблокам тем, что надкусывал и
сразу бросал. Ты преступна, всеядность,
если ты горе для чьей-то семьи.
Станет вина перед ближним – виной
передо всем человеческим родом.
Так же грешно, словно горе – народам,
горе семье принести хоть одной.
Подло ломать чью-то жизнь мимоходом,
если не можешь построить иной.
Колокол хриплый – трамвайный звонок.
Я на подножке. Летят мостовые.
Снова один. Ничего. Не впервые.
Лучше я буду совсем одинок,
чем, согреваючись, души живые
жечь, будто мертвые листья у ног.
Кончено все. Я иначе не мог.
Октябрь 1971
Когда звонят колокола
Искусство, как тонюсенькая нитка,
связует разведенные мосты.
Единственная, может быть, попытка
смерть победить, – искусство, это ты.
Поэты молодеют, умирая.
Смерть – это смерть для нравственных калек,
а смерть поэта – молодость вторая,
вторая жизнь, – теперь уже навек.
А прошлое, как под водою Китеж.
Там голоса, как колокольный звон,
и если камень в эту воду кинешь, —
шутя, его метнет назад Вийон.
Там прошлое целуется, смеется,
и, сочиняя полунаугад,
в трактире пьет заслушавшийся Моцарт
убийственный лишь для убийцы яд.
Там Пушкин на базаре кишиневском
припал губами к юному вину
и, хохоча, швыряет кошелек свой
цыганке, нагадавшей смерть ему.
Историю, как пыльную картину,
повешенную криво навсегда,
хотел бы я, как дерзкий Буратино,
проткнуть длиннющим носом, и – туда…
А там Ахматова, такая молодая,
в Париже утреннем, качающем мосты,
привстав на цыпочки, в окошко Модильяни
бросает красные тяжелые цветы.
6 ноября 1971
Нервы, нервы…
Ах, колокольчик под дугой,
ты, правда, крошечный такой,
но где-то спрятана в тебе
большого колокола грусть,
и звоном душу мужика
ты выражала все века
от колокольчика до колокола – Русь.
Когда звонят колокола,
роса особенно светла.
И замирают васильки – глаза небесные лугов.
Благословляет этот звон
героев павших вечный сон,
благословляет детский смех и чью-то первую любовь.
Когда звонят колокола,
они звонят, не помня зла,
но каждый колокол внутри – он затаенно не забыл,
что они были бунтари,
что их плетьми секли цари,
и, вырывая языки, везли их стражники в Сибирь.
Когда звонят колокола,
то просыпается зола
врагом сожженных деревень
на распроклятой той войне,
и в каждом колоколе скрыт
набат, который чутко спит,
и в каждом русском скрыт набат —
пусть где-то в самой глубине.
Когда звонят колокола,
им даль бескрайняя мала,
и птицы медные летят и по полям и по лесам,
и ты, смиряя в сердце дрожь,
глаза закроешь и плывешь
по зазвеневшим небесам, ну а куда —
не знаешь сам.
Август – ноябрь 1971
«Тихая» поэзия
Нервы,
нервы…
Разгулялись, однако, они на Руси.
«Первый я!»
«Нет, я первый!» —
и в поэзии,
и на стоянке такси.
Словно пропасть
меж людьми,
даже если впритирку трещащие швы.
«Что вы претесь?»
«Чего вы орете?»
«А вы?»
Обалденье
подкашивает людей
от галденья
магазинных,
автобусных,
прочих очередей.
Добыванье
ордеров и путевок,
бесчисленных справок,
сапог на меху —
это как добиванье
самих же себя на бегу.
Чтоб одеться красиво,
надо быть начеку.
Надо хищно,
крысино
урывать по клочку.
На колготки из Бельгии,
на румынскую брошь
наши женщины бедные
чуть не с криком: «Даешь!»
За серванты плюгавые,
за билеты в кино, —
это наши полтавы,
наши бородино.
От закрута,
замота,
от хрустенья хребта
что-то в душах
замолкло,
жабы прут изо рта.
Дух прокисших собесов
и нотариальных контор
пробуждает в нас бесов,
учиняющих ор.
Не по адресу
жажда мести,
не по адресу мат спьяна.
Плюнуть в ближнего легче,
если
не доплюнуть до тех,
чья вина.
Я,
измотанный в джунглях редакций,
злость срываю на ком? —
на жене,
а жена, чтобы не разрыдаться,
злость, усталость
срывает на мне.
А дитя,
к стене припадая,
в страхе плачет,
когда, свистя,
оголенными проводами
нервы взрослых
калечат дитя.
Лучше розги,
для ребенка,
чем дрязги,
где дело доходит почти до когтей.
Нервы взрослых,
пожалейте – молю! —
паутиночки-нервы детей.
Ноябрь 1971
Слова на ветер
В поэзии сегодня как-то рыхло.
Бубенчиков полно – набата нет.
Трибунная поэзия притихла,
а «тихая» криклива: «С нами Фет!»
Без спросу превращая Фета в фетиш,
бубенчики бренчат с прогнивших дуг:
«Эстрада, ты за все еще ответишь.
Ты горлопанством унижаешь дух».
Дух, значит, шепот, робкое дыханье,
и все? А где набат – народный глас?
За смирными чистюлями-стихами
не трусость ли скрывается подчас?
Опасен крик. Подальше от напасти!
Что в драку лезть! Подальше от греха.
Какое скупердяйство мысли, страсти!
Не Пушкины, а Плюшкины стиха.
Идет игра в свободу от эпохи,
но, прячась от сегодня во вчера,
помещичьи лирические вздохи
скрывают суть холопского нутра.
Мне дорог Фет, хоть есть поэты лучше,
но, как на расплодившихся котят,
с тоскою натыкаюсь я на кучи
мурлыкающих сереньких фетят.
Все это лжевозвышенное фетство,
мурлыканье с расчетом на века —
от крыс и от сраженья с ними бегство
в тот уголок, где блюдце молока.
Не рождена эстрадною франтихой
поэзия,
но нет в борьбе стыда.
Поэзия, будь громкой или тихой, —
не будь тихоней лживой никогда!
28 ноября 1971
Последняя ягода
Бросаю слова на ветер.
Не жалко. Пускай пропадают.
А люди, как листья, их вертят,
по ним, как по картам, гадают.
И мне придавая значенье,
которого, может, не стою,
слова возвышают священно
великой своей добротою.
Но если б девчонка замерзла,
беззвучно шепча мои строки,
вошла бы в меня, как заноза,
не гордость, а боль по сестренке.
И если бы кто-то печальный
в письме написал мне об этом,
письмо я не стал бы печатать
под собственным скорбным портретом,
Мне было бы важно дослезно
не то, что я понят был тонко,
а то, что замерзла, замерзла,
замерзла, замерзла девчонка.
И если бы пулями где-то
стихи мои были пробиты,
мне было бы важно не это,
а то, что ребята убиты.
Бросаю слова на ветер,
ревущий о стольких несчастьях.
Случайно – бросаю навеки.
С расчетом на вечность – на часик.
А ветер слова отнимает
и тащит на суд и расправу.
А ветер слова поднимает
и дарит им смерть или славу.
А ветер швыряет их с лета
туда, где их ждут, где им верят,
и страшно за каждое слово,
которое бросил на ветер.
Ноябрь 1971
Прогулка с сыном
Пора единственная,
самая любимая,
когда случается,
что тихо-тихо так
одна-единственная
ягода рябинная
еще качается
в заснеженных ветвях.
Она чуть с подчернью,
она уже неяркая,
темно-бордовая,
с морщинистым бочком,
совсем непрочная,
а изморозь ноябрьская
ее подернула
своим седым пушком.
Она не тешится.
Она над зимней слякотью,
такая маленькая,
знает обо всем:
что не удержится,
что тайна поздней сладости
умрет под валенками
или колесом.
К ней не дотянешься.
Она одна, заветная,
в порывах стонущих
над сучьями торчит.
Нет, не обманешься,
но на губах заветренных,
губах беспомощных
все ж чуточку горчит.
Ноябрь 1971
Любовь к одиночеству
Какой искристый легкий скрип
сапожек детских по снежку,
какой счастливый детский вскрик
о том, что белка на суку.
Какой пречистый Божий день,
когда с тобой ребенок твой,
и голубая его тень
скользит по снегу за тобой.
Ребенок взрослым не чета.
Он как упрек природы нам.
Жизнь без ребенка – нищета.
С ребенком – ты ребенок сам.
Глаза ребенка так блестят,
как будто в будущем гостят.
Слова ребенка так свежи,
как будто в мире нету лжи.
В ребенке дух бунтовщика.
Он словно жизнь – вся, целиком,
и дышит детская щека
морозом, солнцем, молоком.
Щека ребенка пахнет так,
как пахнет стружками верстак,
и как черемуховый сад,
и как арбуза алый взгляд,
и как пастуший козий сыр, —
как весь прекрасный вечный мир,
где так смешались яд и мед,
где тот, кто не ребенок, – мертв.
Ноябрь 1971
Памяти Жужи Раб, посмертно (Е. Е. – 2000)
В Будапеште,
на улице Лаци Лайоша,
в красном панцире листьев осенних
есть дом.
Ни мужчины,
ни кошки,
ни пса, утешительно лающего:
только женщина
с русской поэзией в нем.
Этой женщине надо при жизни
поставить бы памятник
за ее переводы
с мычанья рязанских коров,
с завыванья сибирской метели,
с подстрочников плах или папертей,
где кричит по-венгерски
не смытая русская кровь.
Это явочный дом.
В нем свиданья особые, тайные.
Под глазами хозяйки —
бессонницы синяки.
Пьет с ней водку Есенин.
С ней курит махорку Цветаева.
Пастернак с ней играет Шопена в четыре руки.
Но, невольно сама на себя доносчица,
забывая, что призраки —
рано ли, поздно —
уходят во мглу:
«Я люблю одиночество!
Я люблю одиночество!» —
защищаясь от ночи,
хозяйка стучит кулачком по столу.
Ой ли, милая Жужа, ой ли?
В этом крике – души нагота.
Одиночество любят от боли,
но от радости – никогда.
Тишину одиночество дарит,
избавляющую от обид.
Одиночество не ударит,
одиночество не оскорбит.
Одиночество понимает,
как мужчина не сможет понять.
Одиночество обнимает,
как мужчина не сможет обнять.
Но на голые нервы надето
платье —
все в раскаленных крючках!
«Я люблю одиночество!» —
это
«Мне не больно!» —
под пыткой кричать.
А ведь больно,
так, Господи, больно,
что прижать бы к себе хоть кого.
Одиночество любят тем больше,
чем сильней ненавидят его.
Женской боли
при жизни
поставить бы следует памятник,
чтоб стояла,
мужчин укоряя,
стояла века.
Холодильника вздох.
Пахнет паприкой, пеплом и «палинкой»,
и, стуча по ступеням,
скатываются груши-яблоки с чердака.
Боль – со всех языков
и с молчания переводчица.
Прокричать ненавистный подстрочник,
застрявший в груди:
«Я люблю одиночество!
Я люблю одиночество!» —
а потом прошептать перевод:
беззащитное – «Не уходи!».
Ноябрь 1971