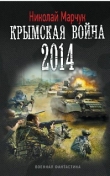Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Долгий дождь
Тринадцать мильонов тонн
спрессованной в бомбах смерти
на хрупкие синие стеклышки
рисовых мирных полей,
на крыши вьетнамских венеций,
где сушатся драные сети,
на велосипеды с розами,
растущими из рулей.
Не вчера ли вдоль села
по ухабам,
кочкам
эта розочка плыла
рядом со звоночком?
Сладок шин веселый бег.
Мимо пашен и воронок,
как железный буйволенок,
мчался вскачь велосипед,
Дождик путался в колесах,
всю макушку продолбил.
Дождик был из чуть раскосых —
он вьетнамцем тоже был.
И солдат крутил педали,
счастлив льющейся водой, —
то ли ехал на свиданье,
то ли просто молодой.
Сам не веря, что живой,
полный удивления,
в что-то полиэтиленовое
завернулся с головой.
Ах, ему бы мира,
мира,
малость риса да тепла,
только бомба,
яму вырыв,
его краешком нашла.
И непонято светилось
его мертвое лицо,
и крутилось,
и крутилось
над солдатом колесо.
И бумажной розе бедной
так хотелось бы,
солдат,
бить в звонок велосипедный,
словно в крошечный набат.
Тринадцать мильонов тонн
всех бомб – термитных, фугасных,
шариковых, игольчатых
и даже бабочек-бомб —
на люльки, как на корзины
цветов, кричаще прекрасных,
на коромысла бамбуковые,
выгнутые горбом.
Исполнено тайного смысла,
еще не вчера ли в лесу
той девушки коромысло
покачивалось на весу?
А в правой соломенной чаше
петух одноглазый сидел
и, зная о том, что он смертен,
собою прекрасно владел.
А в левой соломенной чаше,
как вся твоя доля, Вьетнам,
вповалку лежали гранаты
с бананами пополам.
Шла девушка шагом бесшумным,
сказала мне: «Тяо, ленсо…»[3]3
«Прощай, русский…» (вьетн.).
[Закрыть] —
и лампою под абажуром
под наном[4]4
Конусообразная соломенная шляпа.
[Закрыть] качнулось лицо.
И сердце мне мысль защемила,
что может на горном плато
она на тропе Хо Ши Мина
пропасть ни за что ни про что.
А впрочем, за что-то такое,
что видно ей в струях дождя,
когда она смотрит, – рукою
лианы и дождь отводя.
Но хитро придуманный шарик
ударит ей в детскую грудь,
и ей навсегда помешает
хоть раз, но счастливо вздохнуть.
Ладонь прижимая к заплатам,
она упадет на пути
с лицом от того виноватым,
что груз не смогла донести.
Увидит, что ноша повисла,
как радуга на кустах,
и щепочка от коромысла
застынет на мертвых устах.
Тринадцать мильонов тонн —
не слишком ли вы бескорыстны?
Тринадцать мильонов тонн —
достаточный в обществе вес.
Весами истории станьте, вьетнамские коромысла,
и взвесьте в соломенных чашах
все эти «подарки с небес».
Тринадцать мильонов тонн —
всю эту кровавую кашу,
и велосипедную розу,
и девушку на плато
история пусть бесстрастно
положит в левую чашу,
а в правую что угодно, —
не перетянет ничто.
Северный Вьетнам, 17-я параллель, декабрь 1971
Долог дождь,
долог дождь,
но не дольше, чем война.
Во Вьетнаме кто не тощ?
Только полная луна,
а народ худым-худой
сыт бедой,
бедой,
бедой
и водой,
водой
водой…
Во Вьетнаме кто солдат?
Тот, кто чуть крупней зерна.
Во Вьетнаме кто богат?
Только трупами земля.
Кто здесь лучше всех одет?
Кто одет в защитный цвет,
защитит он или нет —
лишь бомбежка даст ответ.
Каждый маленький рисенок,
что на цыпочки встает,
смотрит в страхе, как ребенок, —
не летит ли самолет.
Долог дождь,
долог дождь,
но не дольше, чем война.
Во Вьетнаме не найдешь
довоенного окна.
Долог дождь,
долог дождь,
но не дольше, чем война.
Как у нас в войну —
точь-в-точь
третья каждая —
вдова.
Глаз разрез у них иной
и язык иной,
но что сделано войной —
сделано войной.
Нашей русской бабы крик
рвется сквозь чужой язык:
«Я и лошадь,
я и бык,
я и баба,
и мужик».
Северный Вьетнам, 17-я параллель, декабрь 1971
1972
Рождество в Ханое
Рождество Христово во Вьетнаме —
отдых от антихристовых бомб.
Елочки с нейлонными ветвями
приоделись на углу любом.
Приоделись старость, юность, детство,
но не слишком пышен променад,
ибо это слово – «приодеться» —
ко Вьетнаму трудно применять.
Время не для шика, не для лоска,
но в прическе женщины любой
все-таки какая-нибудь блестка
светит вифлеемскою звездой.
И, за бедность не прося прощенья,
все-таки над каждым пиджаком
отсветом пеленок в той пещере —
беленький платочек – уголком.
Даже если холст дырявой робы
на плечах вьетнамских стариков,
их морщины – потайные тропы
трех неумирающих волхвов.
Ангелам, небось, просторно в небе,
а в соборе давка – просто страсть!
Здесь не то что яблоку, – здесь негде
рисовому зернышку упасть.
Нет, не фанатическая вера
собрала крестьян и весь Ханой, —
просто ежегодная премьера
этой взрослой сказки завозной.
Церковь, ты сейчас театр для бедных
или ты всегда такой была?
Сказкой желтых стала сказка белых,
но ни тех, ни этих не спасла.
Если рвутся бомбы, чье-то: «Амен!» —
где-нибудь в горящем городке,
словно позолоченный, но камень
у ребенка мертвого в руке.
Но красиво – до чего красиво! —
лишь Христа-младенца славит хор,
и громадой скального массива
в воздух поднимается собор.
Он летит над рисом юным-юным,
над землей, где каждый дом скорбит,
где почти забыто слово «умер»
и привычно слышится «убит».
Голоса все тоньше, тоньше, тоньше,
и бестактно целеустремлен
лишь японский телевизионщик,
с камерой взобравшись на амвон.
Не туда гляжу я, где посольства
на забронированных местах,
а туда, где маленькие солнца
детских лиц с молитвой на устах.
Матери в семянных тихих бусах,
прачки и крестьянки, держат их, —
крошечных раскосеньких Иисусов
на руках натруженных своих.
Но такая в женщинах усталость,
что, хотя ценою стольких мук
место в этом зале им досталось, —
полуспят, качаясь, как бамбук.
Спите… Все, что чисто, – все уместно,
спите… Бог не в церкви – в вас живет.
Пусть, на вас не обижаясь, месса
колыбельной бережно плывет.
Спите… Нету выше благодати,
чем ребенка к сердцу прижимать.
Есть одна на свете богоматерь —
это человеческая мать.
Спите… Ваши руки огрубели
от лопат, серпов, мотыг и кос,
но ребенок в каждой колыбели
для меня не меньше, чем Христос.
Мучеником не был он последним
в муках человеческой семьи.
Распят был он тридцатитрехлетним, —
распинали месячных в Сонгми.
Чем он выше всех детей убитых,
тех, что в душу смотрят молча нам,
этот – из всемирно знаменитых —
на стене собора мальчуган?
Ханой, январь 1972
Я писал эти строки, сидя в самолете Аэрофлота, летевшем из Ханоя в Москву. Была глубокая ночь. Все вокруг спали. Самолет шел ровно. Но как только я написал горько-саркастическую концовку в первом варианте: «Чем он лучше всех детей убитых, где-нибудь у пальм и у ракит – этот из всемирно знаменитых, все-таки счастливый вундеркинд?!» – самолет рухнул в воздушную яму. Стюардесса ударилась о металлический кухонный шкаф. Те, кто не привязался, взлетали и бухались головами о стены и потолки лайнера. Я немедленно убрал насмешливое слово «вундеркинд» и тут же написал новый, более деликатный вариант концовки. Самолет выровнялся…
Гордая бедностьВьетнамская самодеятельность
Сандалеты из автопокрышек
на ногах стариков и мальчишек.
Сорок донгов у грузчиц зарплата,
и к заплате прижалась заплата.
У лоточниц лишь пуговки, нитки,
и значки, и значки; их в избытке.
Но не любят, чтоб им выражалась
снисходительно чья-нибудь жалость.
И моральней любого богатства —
горькой бедности не пугаться.
Плачут женщины на пепелищах,
но ни разу не встретил я нищих.
Если руку протянут здесь, – только
чтобы взять в эту руку винтовку.
Все по карточкам – только не юмор.
Он в измученных людях не умер.
Люди ходят, не хныча, не горбясь.
Все по карточкам – только не гордость,
и по гордости с Ленинградом
эти люди в истории рядом.
В этой бедности гордой – победность.
В этом будущего черты,
если все-таки в гордую бедность
люди выбились из нищеты.
Ханой, январь 1972
Вьетнамский классик
Принасурмились оркестранты,
брови кисточкой навели.
Самодеятельные таланты
на эстраде рыжей земли.
Неуклюжи фанерные горы,
и по лесенке, скрытой от глаз,
то вздымаются в гору актеры,
то нисходят пророками масс.
Все актеры – солдаты Вьетнама.
Неумело положен их грим,
и идет полуфарс-полудрама
с пеньем сольным и хоровым.
Ловят девушка с парнем шпиона,
но потом среди роз восковых
переходит в любовь потаенно
комсомольская бдительность их.
Не целуются. Пошлость такую
режиссер не позволит ни в жизнь.
Революция и поцелуи
несовместны – вот главная мысль.
Но, следя за развязкой неясной, —
как бы кто не подвел на беду —
руководство за скатертью красной
напрягается в первом ряду.
Не подводят и губы отводят,
и ползут на коленях у пальм,
и носами так бдительно водят,
где окурок «Пэл Мэлла» упал.
Но сижу я, по счастию, с края,
и я вижу – за сценой смела,
та артистка, уже не играя,
парня в губы целует сама.
Ах, какая в агитке осечка!
Он выходит, поклоны творит,
а «предательское» сердечко
на размазанном гриме горит.
Руководство само не железно,
и смеется, простив этот грех,
Неживуча любая аскеза,
если есть поцелуи и смех.
Нет, не все режиссерам покорно.
Как спектакль режиссер ни реши,
происходит безрежиссерно
самодеятельность души.
Как профессионалки-воровки,
войны бродят по свету в крови,
но затягивает воронки
самодеятельность травы.
Самодеятельности улиток
служит сценой зеленый лист.
Самодеятельность улыбок —
на светящихся сценах лиц.
И на вечные-вечные годы,
человечество, благослови
самодеятельность природы,
самодеятельность любви…
Вьетнам, 17-я параллель, январь 1972
Китайский матрос
Вьетнамский классик
был ребенок лет семидесяти,
с лицом усталой мудрой черепахи.
Он не от собственной чрезмерной знаменитости
страдал,
а оттого,
что был он в страхе
за повеленье рыжего кота,
следившего за нами неспроста.
Кот возлежал на книжном стеллаже,
избрав циновкой томик Сен Джон Перса.
На блюдце бросив три стручочка перца,
вьетнамский классик был настороже,
хотя коты —
пусть впроголодь сидят, —
пожалуй, только перца не едят.
Прозаик,
ну а в сущности, поэт,
боясь не угостить, как надлежало бы, —
ни разу классик не упал до жалобы
на то, что в доме лишней корки нет.
Он каплю виски лил в стакан воды
и над спиртовкой,
хохоча раскатисто,
подогревал кусочки каракатицы —
засушенные лакомства войны.
В нем поражали,
за душу беря,
духовная выносливость буддиста
и на штанине велосипедиста
забытая прищепка для белья.
Рукою отстраняя пламя битв,
он говорил о Бо Цзю И,
Бодлере,
и думал я:
«Что может быть подлее —
такого человека погубить!»
И страх меня пронзил,
прошиб,
прожег:
кот
с книжной полки
совершил прыжок.
В нем голод распалившийся взыграл.
Кот приземлился около бутылки
и у меня зубами прямо с вилки
кусочек каракатицы содрал.
Хозяин по-вьетнамски крикнул:
«Шасть!»,
растерянный поступком нетактичным,
развел руками,
видимо, страшась,
что я сочту все это неприличным.
Я в руки взял невесело кота.
Был кот от кражи сам не слишком весел,
и омертвело я застыл,
когда
вдруг ощутил:
он ничего не весит.
Природы рыжая и теплая песчинка,
пытаясь выгнуть спину колесом,
он был в моих ладонях невесом,
как будто тополиная пушинка.
«Простите…» —
грустно брезжило в зрачках.
И ничего —
вам говорю по совести —
я тяжелее не держал в руках,
чем тяжесть этой страшной невесомости.
Ханой, январь 1972
Бомбами – по балалайкам
Я шел один Хайфонским портом,
где кранов слышался хорал,
где под китайским флагом гордым
корабль надменно загорал.
Был на трубе плакатный идол,
и проступало на борту
замазанное «Made in England»
сквозь ярко-красную звезду.
Но я увидел, как неловко
на верхнем деке, на краю
матросик вешал на веревку
тельняшку мокрую свою.
Был гол до пояса матросик,
матросик выглядел тощо —
полустарик, полуподросток,
но человек – живой еще.
Я сам не раз стирал тельняшки
и на авралах спину гнул
и по моряческой замашке
ему вполглаза подмигнул.
Он огляделся воровато
и, убедясь, что никого,
мне подмигнул чуть виновато, —
мол, понимаешь, каково.
Потом лицо как бы заснуло,
он отвернулся, и молчок,
но что-то в нем на миг блеснуло,
как будто слабый маячок.
Я никогда в Китае не был —
не потому, что недосуг,
но мне матросик тот не недруг,
хотя сейчас – увы! – не друг.
И если был бы жив Конфуций,
то, у обмана не в плену,
в каком бы горестном конфузе
он оглядел свою страну.
Тот гордый флаг упал так низко,
так складки все на нем горьки,
когда по пальцам пианистов
древком с размаху – сопляки.
Когда все молятся портрету
того, кто давит мысль и честь,
единомышленников нету —
лишь соумышленники есть.
Но верю всею горькой болью,
что где-то, прячась будто мышь,
безмысльем загнана в подполье,
скребет бумагу чья-то мысль.
Кто он? Простее нет разгадки.
Поэт… Они как воробьи.
Сначала бьют их из рогатки,
потом разводят «из любви».
В аду казарменного рая,
где заморочили народ,
в народе правда вымирает,
но, умирая, не умрет.
И там, затравленно скитаясь,
напишет правду страшных лет
мой брат неведомый китайский —
духовный лагерник поэт.
В его стихах без лжи парадной
предстанут мумии чинуш,
лжекоммунизма император
и оскопленье стольких душ.
Дай Бог, чтоб тайные тетрадки
пошли в печатные станки,
чтоб промахнулись все рогатки,
чтоб в цель попали все стихи!
Спасибо, худенький матросик,
за твой опасливый подмиг,
за то, что ложь ресницей сбросил —
пусть боязливо, пусть на миг.
Народ никто не уничтожит.
Проснется он когда-нибудь,
пока еще хоть кто-то может
по-человечьи подмигнуть.
Хайфон, январь 1972
26 января ультраправые экстремисты взорвали зажигательные бомбы в офисе известного импресарио С. Юрока, организующего гастроли советских артистов в США. При взрыве погибла секретарь С. Юрока – Айрис, еще тринадцать человек получили тяжелые ранения.
Два детектива ведут меня,
русского,
чьи-то портреты хрустят
под подошвами.
В сердце моем что-то тоже хрустнуло —
стоит искусство не так уж дешево.
Кто вы,
убийцы невидимолицые?
Бомбой в искусство —
не тонкость ли вкуса?
Выродки вы,
если даже полиция
стала от вас охранять искусство.
Кто-то сегодня звонит Барри Бойсу —
верному другу,
актеру прекрасному:
«Ты откажись —
или будет поздно! —
завтра читать комиссара красного!»
Барри, мы все-таки живы с тобою.
Барри,
мой кореш,
мы все-таки старше
девушки той,
подкошенной болью, —
той,
не повинной ни в чем секретарши.
Бедная Айрис,
жертвою века
пала ты,
хрупкая,
темноглазая, —
дымом задушенная еврейка,
словно в нацистской камере газовой.
Трудно отравленный воздух проветрить.
Пахнет Майданеком,
Бабьим Яром.
Если б Чайковский был жив
и приехал, —
вы тоже назвали его «комиссаром»?
Сколько друзей,
Соломон Израилевич,
в офисе вашем
в рамах под стеклами!
И на полу —
Станиславский израненный,
рядом —
Плисецкая полурастоптанная.
Там, где проклятая бомба шарахнула,
басом рычит возле чьих-то сережек
взрывом разбитый портрет Шаляпина
с надписью крупной:
«Тебе, Семенчик».
Свежего воздуха!
Страшно мне,
муторно.
Не удержаться от гневного крика:
В чем виноваты поэзия,
музыка?
В чем виноваты
гармошка и скрипка?
Вам бы хотелось побаловаться?
Вам бы хотелось в искусстве,
как в храме,
бомбами,
бомбами —
по балалайкам,
и по ногам балерин —
топорами?
Может быть, ради скандальчика остренького,
замаскированы для подстраховочки,
завтра вы финкой —
по струнам Ойстраха,
а послезавтра —
в бок Ростроповича?!
Слышу архангелов судные трубы.
Прокляты те,
кто дьяволу проданы,
те, кто хотел бы мосты из трупов
строить для дружбы между народами.
Ангел Искусства,
пою тебе оду!
Над сумасшедшими,
над прокаженными
вечно дети от народа к народу
с крыльями,
бомбами обожженными…
Нью-Йорк, в ночь с 27 на 28 января 1972 (по телефону)
Во время холодной войны была парадоксальная ситуация. Наши власти неохотно давали разрешения на зарубежные поездки независимо мыслящим музыкантам, поэтам, художникам, а чаще вообще запрещали их. Но когда мы приезжали на Запад, нас обвиняли в том, что мы посланы советским правительством для пропаганды. Плеснули кислотой на фрак музыканта, высыпали мешок белых мышей под ноги балерины, мне сломали два ребра ботинками в Сан-Поле, штат Миннеаполис. А началось все с крови в офисе Сола – или, как ласково звали его мы, – Семенчика Юрока…
БогемаСвятые джаза
«Богема… Сплошная богема…» —
за нашей усталой спиной
мещане шипят автогенно,
как пламенем, брызжа слюной.
В шипении этом есть зависть,
что тянется тайно к ножу,
и чтобы они не терзались,
я честно и грустно скажу:
«Мы не доросли до богемы.
Увязли в быту, как в дыре.
Танцуем на левой ноге мы,
а правой увязли в дерьме.
Богема не пьянство с развратцем,
как, видимо, кажется вам.
Богема – сестринство и братство,
где хлеб и цветы пополам.
В прелестной эпохе пленэра,
чьи краски и шарм не умрут,
есть сладкая сила примера,
как дружат пирушка и труд.
И вызов свой миру кидали,
нагие, с холстов озорных
любовницы, как маркитантки
искусства, воспевшего их.
А кто ты сегодня, художник?
Какою средой окружен?
Нет жен, на любовниц похожих,
любовниц, похожих на жен.
Внутри мы трусливы, рутинны,
а кистью творим антраша.
Абстрактны не только картины —
абстрактною стала душа.
А кто виноват? Не мы ль сами?
Нас жалкий кабак заманил,
и муз голубятню – мансарду —
гадюшничек нам заменил.
Мы стопочники-угрюмцы.
И, в пальцах неверных дрожа,
тоскуют бокалы и рюмки
по музыке кутежа.
Устал я от мелкого блуда.
Любовь? Эта штука страшит.
Какие-то возле ублюдки,
пока мой бумажник шуршит.
Какая-то возле мегера,
с которой полжизни прожил…
А вы говорите – богема.
Спасибо, но не заслужил».
Сан-Франциско, март 1972
В лесу
Играют святые джаза.
Качается в такт седина,
и старость, конечно, ужасна,
но старость, как юность, одна.
Грустна стариковская юркость,
но юности старость юней,
когда поумневшая юность
ударит по клавишам в ней.
Похожая на повариху,
мулатка наперекосяк
стучит по рояльчику лихо,
и пляшет он, черный толстяк.
К зеленым юнцам не ревнуя,
чудит на трубе старичок,
и падает в кружку пивную
отстегнутый воротничок.
Сосед накренился недужно,
но с хитрой шалавинкой глаз —
как пышненькую хохотушку,
пощипывает контрабас.
Ударника руки балетны.
Где старость в седом сорванце?
Улыбка, как белая леди,
танцует на черном лице.
Их глотки и мысли осипли,
а звуки свежи и юны —
то медленны, как Миссисипи,
то, как Ниагара, шальны.
Ах, сколько наворовали
отсюда джазисты всех стран,
но все-таки в Нью-Орлеане
не вывелся Нью-Орлеан.
Играют святые джаза —
великие старики.
Наш век-богохульник, ты сжалься, —
хоть этих святых сбереги!
На свете святого не густо,
и если хватило на нас,
то пусть это будет искусство —
хотя бы, по крайности, джаз.
Невольничий рынок эстрады
жесток, выжимая рабов,
и если рабы староваты,
их прячут в рояли гробов.
Жизнь катится под гору юзом,
но если уж выхода нет,
то пусть она катится блюзом,
закатно звеня напослед.
Закат не конец для поэта,
не смерть для тебя, музыкант.
Есть вечная сила рассвета
в тебе, благородный закат.
Нью-Орлеан, март 1 972
Зимы последние кусочки
чуть всхлипывают под ногой,
и так смущенно дышат кочки
незащищенностью нагой.
По колее, от хвои рыжей,
плывет оттаявшим леском
обломок чьей-то детской лыжи,
как туфля с загнутым носком.
В лесу и грязь совсем иная,
в лесу и сырость хороша,
когда, последний снег вминая,
идешь один и не спеша.
Я, словно вол, в эпоху впрягся.
Перенапрягся. Валит с ног.
Искавший общий выход в братстве,
как никогда я одинок.
Со мной усталость и собака.
Собаку что-то тянет вкось:
там из-под снега так запахло,
там прошлогодняя, но кость.
Ну а меня давно не тянет,
поддавшись запахам спроста,
играть обманными костями,
внутри которых – пустота.
Моих иллюзий ржавых груда
нимало мне не дорога.
И понял я, что зависть друга
страшней, чем ненависть врага.
Прощайте те, кто были милы,
кому теперь, по их словам,
я, как дубиною громилы,
переизданий шрифт сломал.
В ком злобы нет – тот из везушных.
Мне сожалительно смешна
эпистолярных выяснюшек
воинственная слабина.
Неплодотворно чувство мести:
«Лягнул меня – тебя лягну».
Хотя мы вряд ли будем вместе,
я вас жалею и люблю.
Прощаю вас, – без опасенья,
что вновь обрушитесь, клеймя,
и ради вашего спасенья
желаю вам простить меня.
Как хорошо в гостях у леса
брести тихонько по весне,
не проявляя интереса
к самоубийственной возне!
И, прикусив зубами почку,
войдя в прозрачные кусты,
найти единственную строчку
внутри зеленой горькоты.
Март 1972
Написано после прочтения двух писем оскорбленных соавторов одного халтурного пародийно-детективного романа, слишком нервозно отреагировавших на мою шутливую рецензию. Слава Богу, мы сейчас снова разговариваем по-дружески.