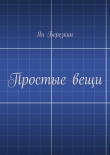Текст книги "Белая колоннада"
Автор книги: Евдокия Нагродская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– А как же Варховская была на балу в Мариинском театре?
– Дорогая, это был маскарад. Конечно, под маской можно идти куда угодно… А скажите, неужели это серьезно, что блестящий Жорж совсем покидает Петербург? Куда же он едет?
– В Париж… Николенька, мне бы хотелось уехать с вами вдвоем на несколько дней.
– Что вы, Китти, разве это возможно: что скажут! Вот когда мы будем мужем и женой…
– Мне надоело думать о том, что скажут, – немного капризно сказала она. – И не все ли равно – после поста будет наша свадьба. Как вы не понимаете, – продолжала она страстно, – что я вас настолько люблю, что остальное для меня не существует. Я не дорожу ничем! Я все принесу вам в жертву. Если бы я была замужем, я для вас бросила бы мужа… Мне иногда кажется, что вы меня не любите! – вдруг вырвалось у нее со слезами.
– Китти, я удивляюсь, что это с вами? Как вам не стыдно! Вы такая спокойная, сдержанная, ваша корректность во всем так меня восхищала. Я не хочу думать, что между нами могут происходить такие сцены, – вы просто расстроены чем-нибудь. Уж не отъездом ли милого Жоржа? Смотрите, я буду ревновать! А кстати, объясните мне действительные причины его отъезда. Я ничего не понимаю. Говорят, он едет к своему брату. Да что он, сошел с ума? Ведь это узнают, и его карьера окончена.
– А если он любит брата и хочет его видеть? – сказала Накатова немного сухо.
– Он мог с ним повидаться, не трезвоня об этом. Говорят, отец выгнал его. Как это все глупо!
– Я не нахожу. Впрочем, если и глупо, то смело.
– Конечно, женщинам нравятся безумные поступки, они называют это геройством. Но к лицу ли геройство нашему Жоржу? Отец не станет ему присылать денег, и он сам одумается. Наконец, кредиторы его не отпустят, – расхохотался Лопатов.
– Тетя Соня платит его долги и будет поддерживать его первое время.
– А, вот как… Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. А кстати, отчего вы, Китти, так редко бываете у вашей тетушки, право, это не хорошо, она так одинока. Хотите, пойдем к ней завтра?
– Хорошо, Николенька, но у нее страшно мрачно, она вечно плачет.
– Тем более ее надо развлечь.
Он встал, подошел к Накатовой и поцеловал ее в лоб. Она сразу просветлела, прижалась к его груди и тихо прошептала:
– Какой ты добрый, Николенька.
Лопатов и Накатова, раздеваясь в передней у тети Сони, слышали только обычный гам попугаев, но, проходя по гостиной, Екатерина Антоновна услыхала какие-то другие звуки. Она приостановилась.
– Что это? – тревожно спросила она.
Из будуара доносился захлебывающийся смех тетушки.
– Кажется, с тетей истерика – подождите меня здесь, – сказала она Лопатову. Откинув портьеру, она вошла в будуар и в изумлении остановилась. Тетушка хохотала.
Она переводила дух, взглядывая на Талю, которая тоже заливалась смехом, валяясь по дивану.
Попугай Васька, сидя на спинке дивана и глядя на Талю, неистово выкрикивал:
– Крокодил! Ах, крокодил!
– Тетя Соня, что с вами? – наконец произнесла ошеломленная этой сценой Накатова.
– Ах, это ты, Катюша… ох, как они меня насмешили! – заговорила тетушка оживленно. – Ты послушай, что говорит эта сумасшедшая девочка! Petites femmes! Понимаешь, petites femmes[10]10
Женушки (фр.).
[Закрыть]!
– Да в чем у вас дело?
– Екатерина Антоновна, милая, меня Ренан со смеху уморил! – кричала с дивана Таля. – Я никогда так над Джером-Джеромом не хохотала!
– Ах, крокодил, крокодил! – старается перекричать ее Васька.
Накатова зажала уши.
– Уймите его, Талечка, уймите! – кричит тетушка, махая руками. Таля хватает шаль и завертывает попугая, который неожиданно произносит:
– Оппопонакс! – и замолкает.
– Видишь, Катенька, – оживленно говорит тетушка, – мы читали с ней Ренана. Ну… ну, дошли мы до молитвы в саду Гефсиманском, а эта шальная девочка так и прыснула со смеху. В ладоши хлопает. «В чем дело?» – спрашиваю, а она кричит: «Все ждала, когда француз до petites femmes договорится! Вот и договорился! Одолжил, действительно. Не Христос смотрит на Иерусалим, а сам г-н Ренан с Монмартра на Париж!» – и со смеху на диван повалилась, а Васька испугался, проснулся, крылья расставил и говорит: «Вот и скандал». Просто потеха! Да ты садись, милая, как хорошо, что ты сегодня приехала. Погода-то какая чудесная!
– Значит, вы теперь выезжаете, тетя?
– Да что поделаешь, вот этот бесенок меня на выставку таскал! – указала она на Талю, которая, высвободив Ваську из-под шали, утешала его кусочком сахара.
– Вот спасибо Тале, что она вас оживляет, – сказала Накатова. – Только смотрите, не смешите тетушку – у нее слабое сердце, и ей вредно так хохотать.
– Ах, какая же вы, Софья Ивановна, отчего вы этого мне не сказали, когда я вас к Анисимовым в пятый этаж таскала? – с упреком воскликнула Таля.
– К каким Анисимовым? – удивилась Накатова.
– Так, Киттенька… Тут одно семейство бедное… ужасно бедное, вот Таля мне рассказала… Да это пустяки. Ну, как ты поживаешь?
– Тетя, я не одна, – вдруг вспомнила Накатова, – со мной Николай Платонович. Можно ему войти?
Чай пили в столовой, Таля хозяйничала, и опять Накатовой казалось, что это ее дочка, милая, веселая девочка, болтающая всякий вздор.
Ей приятно было видеть оживленное лицо тетушки.
– Знаешь, Киттенька, – жалобно заговорила тетушка, – вот прошу Талю ехать со мной на дачу, а она упирается. Что же это будет, если я останусь одна?
– А что моя мама скажет, как я домой не приеду? – спросила Таля, покачав головой.
– У вашей мамы вон сколько детей, неужели она мне хоть одну не может уступить? Я всегда одна…
– Помните, Таля, вы мне когда-то говорили, что вы считаете справедливым быть там, где вы нужнее, – оживленно заговорила Накатова. – Вы можете съездить домой и, повидавшись с родными, вернуться.
– Не бросайте меня, Талечка, как же я без вас… – сказала Софья Ивановна растерянно.
Таля вдруг бурно сорвалась с места и, подбежав к Софье Ивановне, обняла ее.
– Я вижу, Наталья Алексеевна вас полюбила больше родной матери и, конечно, уже не расстанется с вами, – насмешливо сказал Лопатов.
– Не больше, а одинаково! У меня много, много любви, на всех хватит! – весело воскликнула Таля, прижимаясь щекой к щеке тети Сони.
– Великолепно!
– Что такое, Николенька? – спросила удивленно Накатова, словно разбуженная этим восклицанием Николая Платоновича.
Автомобиль мерно покачивался, и ей приятно было уноситься в этом мерном движении с ним, с любимым. Она закрыла глаза и, прижавшись к нему, забыла все на свете. Весь мир, все люди казались ей такими далекими и ненужными. Пусть они там копошатся где-то, она была одна с ним, а за окном автомобиля не было ничего, да, ничего: там плыли какие-то ненужные люди-тени, может быть, попадая под колеса автомобиля, под колеса колесницы, везущей ее любовь. Да разве существует что-нибудь на свете, кроме ее любви!
Восклицание и резкое движение Лопатова словно пробуждают ее от чудного сна.
– Я восхищаюсь вашей протеже! Мне сначала она казалась дурочкой, а теперь я вижу, что она умница и большая шельма.
– Что вы говорите, Николенька?
– Ах, Китти, Китти, до чего вы наивны! Неужели вы не понимаете эту особу? Разве вы не видите, как она втерлась к вашей тетушке? Если это будет продолжаться, она окажется ее наследницей.
– Что вы, Николенька? Она? Эта наивная Таля? Нет, я слишком хорошо ее знаю, знаю, что она не умеет притворяться.
– Давно вы ее знаете? Всего каких-нибудь три месяца! Разве можно верить, что молоденькая девушка с удовольствием сидит с этой больной старушонкой! Это ловкая авантюристка и больше ничего! – раздраженно крикнул Лопатов.
Екатерина Антоновна смотрела на него с удивлением. Она никогда не видала его таким раздраженным, и ей бросились в глаза неприятные складки вокруг его румяных губ.
– Я не знаю, Николенька, – заговорила она, – почему вам пришло в голову. Ну допустите даже, что Таля притворяется, что она делает все с корыстной целью, но я вижу, что тетушка ожила, тетушка поздоровела и, видимо, счастлива. Она всегда была добра и сердечна, но ей как-то не приходило в голову кому-нибудь помочь, выручить кого-нибудь. Посмотрите, с каким удовольствием она теперь занялась всеми этими бедными курсистками, с которыми свела ее Таля. Что же тут дурного?
– А не приходит вам в голову, что эта барышня со своими бедными курсистками оберут вашу тетушку? Вы обратили внимание на этот рассказ, где тетушка будто бы обязана каким-то «воскресением» этой merveille[11]11
Прелесть, прелестная особа (фр.).
[Закрыть]. Смотрите, Китти, чтобы дом и дачи тетушки не перешли в руки этой проходимки. Я даже подозреваю, что ваш кузен Жорж за одно с нею, это, наверно, одна шайка! Что это он вдруг раскаялся? Всегда шлялся по кабакам… и по…
У Николая Платоновича вырвалось площадное слово, от которого Накатову передернуло, но он этого не заметил и продолжал все так же взволнованно:
– И вдруг тоже почувствовал воскресение. Наверное, если бы тетушка была ханжой, он бы пошел в монастырь, а если бы она занималась спиритизмом, он стал бы медиумом, но ваша тетушка только сентиментальна, и, конечно, роль возрожденного грешника – самая легкая. А вы любуетесь! Любуйтесь, а тетушкино наследство пройдет мимо вашего носа.
– Пусть! Я не нуждаюсь, и мне не надо этого наследства.
– Да вы знаете ли, сколько оно составляет, это наследство?
– Я никогда этим не интересовалась.
– Около двухсот тысяч, я это знаю наверное, а вы говорите: пусть! Я удивляюсь вашей доверчивости, вашей наивности. Женщина за тридцать лет рассуждает как институтка!
Он замолк и сердито стал смотреть в окно.
Она молчала, смотря на него с испугом.
Через минуту он, повернувшись к ней и заметив этот ее взгляд, схватил ее руки и весело и добродушно заговорил:
– Милая Китти, право, меня возмущает, когда доверчивого человека хотят обворовать. Вы знаете, как я люблю вас и как мне дороги ваши интересы. Я, делаясь вашим мужем, должен оберегать вас, Китти. Моя Китти!
Он властно притянул ее к себе и стал целовать ее губы.
Сначала эти губы были холодны, но потом потеплели и стали отвечать на поцелуи.
«Он меня любит, он волнуется за меня и заботится обо мне. Как он добр! – проносилось в ее отуманенной поцелуями голове. – Стоит ли нам ссориться из-за какой-то посторонней девушки или даже из-за тетушки?» Как они все далеки и не нужны ей, когда он целует ее.
– Ты придешь к обеду, Зиночка? – спрашивает худенькая пожилая дама, робко отворяя дверь в маленькую темную переднюю, наполненную кухонным чадом, где молодая девушка торопливо надевает пальто.
– Не знаю! Я от вашего чада теряю аппетит на целый день! – нетерпеливо отвечает девушка.
– Вернись пораньше, прислуга ночью будет стирать, и мне придется вставать, чтобы отворить дверь.
– Ну так я совсем не приду ночевать, пойду к подруге.
Девушка отворяет наружную дверь, готовая уйти.
– Нет, нет, Зиночка, лучше я подожду, только ты ночуй дома, я всегда беспокоюсь.
– Это еще что за насилие над моей личностью! Когда захочу, тогда и приду.
Девушка вышла на площадку лестницы, хлопнув дверью.
– Все, даже муфта пропахла этой гадостью, – ворчала девушка, спускаясь с лестницы.
Она была, очевидно, взволнованна: густые черные брови ее были сдвинуты, красивое личико пылало.
Она была брюнетка, судя по этим густым бровям и красивым темным глазам, но волосы ее выцвечены перекисью водорода до золотистого цвета.
Она знала, что она делала, – эти волосы удивительно идут к ней, и контраст черных глаз и золотых волос делает ее почти красавицей.
Ей всего двадцать лет, но сейчас, когда ее полные, яркие губы слегка надуты, а все лицо выражает гнев и беспокойство, она кажется старше.
Сегодня словно нарочно все сложилось так, чтобы расстраивать и злить ее.
Отец отказал ей в десяти рублях, а ей нужны, необходимы белые туфли: на драматических курсах у них вечер – она читает мелодекламацию. У отца нет денег, это она знает, но от этого ей не легче.
Ах, как ее томит вся эта обстановка, этот кухонный чад, эти вечные отказы. Скоро ли это кончится! А самое главное, что ее грызет, это то, что не ладится самое главное, то, от чего зависит вся ее дальнейшая жизнь…
Зиночка торопливыми шагами входит в ворота большого казенного здания.
На мрачном казарменном дворе солдаты, звонко стуча, ломами скалывают лед. Грязные брызги летят во все стороны. Молодые безусые лица в бескозырках кажутся совершенно одинаковыми.
Зиночка всегда торопится перейти этот двор: ей кажется, что все эти одинаковые солдаты знают, что она идет к поручику Лопатову, у которого живет его брат, и пересмеиваются. Она терпеть не может заходить к нему в этот «офицерский флигель», но делать нечего: последнее время эти свидания было так сложно устраивать! Дома принимать его она ни за что не хотела. Конечно, она так поставила себя в семье, что ни отцу, ни матери не давала отчета в своих знакомствах, но дома была ужасная обстановка: вечно пахло кухней, и прислуживала растрепанная баба в грязном переднике и стоптанных туфлях.
Зина познакомилась с Лопатовым год тому назад в концерте в пользу чего-то, где она имела такой шумный успех в танцах à la Дункан[12]12
В стиле, на манер Дункан (фр.).
[Закрыть].
Первое время она была уверена, что блестящий молодой человек даст ей блестящую обстановку, о которой она мечтала, но в этом пришлось скоро разочароваться. Он не скрыл от нее, что дела его запутаны, долги огромны, и, если он не поправит своих дел богатой женитьбой, ему придется оставить службу и придворную должность и уехать к теткам в провинцию.
Ей сначала льстило его ухаживание, но потом она влюбилась в него, эта страсть была так сильна, что почти заглушала желание роскоши и блеска.
Эта женитьба его, пока она была в проекте, не тревожила ее, ей она казалась выходом из теперешнего, угнетавшего ее положения.
Он даст ей роскошь, туалеты и сделает ей карьеру. Она, вращаясь в театральных кругах, хорошо понимала, как первые шаги к сценической славе трудны без денег или без покровительства.
Ну что же, если он и будет женат? Это только придаст особенную пикантность их любви.
Ей всегда нравилась роль «демонической женщины», эти роли она с особенным удовольствием играла на сцене, но в жизни они ей не удавались.
Первый ее любовник бросил ее для другой женщины. Это ее так оскорбило, что она хотела умереть, но тут за ней стал ухаживать известный артист, и самолюбие ее было удовлетворено. И на этот раз роль «демонической натуры» принадлежала скорей ему. Артист уехал, но на этот раз она не пришла в отчаяние, она только что поступила на драматические курсы и увлеклась ими.
Она подавала большие надежды и заняла между ученицами первое место.
У нее были молодость, красота, но не было рамки, а эту рамку могла ей дать только богатая женитьба Лопатова.
Но когда эта женитьба стала решенным делом, Зину охватила ревность, ее стала ужасать мысль, что Николай Платонович может вдруг полюбить свою жену. Накатова совсем не подходила к созданному Зиной типу забитой, жалкой девы, которую она собиралась презрительно жалеть.
Отчего он стал как будто холодней к ней, Зине, отчего избегает свиданий под предлогом сплетен? Теперь, идя к нему, она волновалась до боли в груди.
За дверью послышались шаги, и молодой белокурый солдат пропустил Зину в узкую, светлую переднюю.
– Дома? – спросила она.
– Никого нет, но, должно, скоро будут, – весело улыбаясь, отрапортовал солдат.
Она поморщилась, ей и эта улыбка на глуповатом лице показалась насмешливой.
– Я подожду, дай чаю! – резко сказала она, проходя в комнату.
Эта комната так хорошо была ей знакома: с большим письменным столом, восточною мебелью и оружием, развешенным над тахтой.
На стенах оленьи рога, на полу медвежьи и волчьи шкуры – трофеи охоты Николая Платоновича.
Около простеночного зеркала две гравюры, изображающие скачки, и над письменным столом портрет покойного отца Лопатова в форме того же полка, в котором теперь служил брат Лопатова.
Зина сбросила пальто, муфту и шляпу на кресло и, подойдя к зеркалу, поправила волосы.
«Я лучше, конечно, лучше этой Накатовой», – мелькнуло у нее в голове.
Она вынула карандаш, провела им по своим и без того темным ресницам, слегка подкрасила губы, попудрила нос. Все необходимые для этого грима снадобья она вытаскивала из сумочки синей кожи, которую достала из своей огромной муфты.
Взглянув еще раз в зеркало, она взяла книгу и легла на диван. Читать она не читала, а чутко прислушивалась, не раздается ли звонок в передней, но все было тихо, и слышалась только неровная стукотня ломов, скалывающих лед.
Боль в груди не проходила, это ожидание было мучительно; она составляла сцену между ней и им.
Отчего эти сцены ей не удаются с ним? Отчего она, усвоившая себе капризно-повелительный тон со всеми мужчинами, как-то пасует перед ним, Лопатовым?
Зачем она его так любит?
О, как бы она хотела полюбить другого теперь, а ему бросить презрение, заставить его мучиться, ревновать!
В передней раздался звонок.
Зина быстро выдернула шпильки из волос, приняла грациозную позу спящей, спустив с дивана ногу в ажурном чулке, и закрыла глаза.
Лопатов отдавал какие-то приказания в передней, потом открыл двери в комнату, где лежала Зина. Она не шевельнулась, тогда он тихонько попятился опять в переднюю и закрыл дверь.
Зина подождала несколько секунд, потом вскочила. Ей пришла мысль, что Лопатов оденется и уйдет, так и не повидавшись с нею.
– Николай! – позвала она.
– Сейчас, – отозвался он из спальни. Она быстро побежала к двери и дернула ее.
Лопатов стоял, нагнувшись у туалетного зеркала, старательно приглаживая пробор щеткой.
Черный галстук как-то смешно выглядел на белоснежной рубашке.
Николай Платонович, увидав входящую в комнату Зину, слегка поморщился.
– Мне нужно говорить с вами, – гордо сказала она.
– Милая моя, я страшно тороплюсь.
– Вы всегда торопитесь!
Эту фразу она хотела сказать насмешливо и гордо, но слова сами собой сказались почти жалобно.
– Ты прекрасно знаешь, что я занят.
– Я должна знать правду, слышите! – возвысила она голос.
– Ну хорошо, я заеду вечером.
– Я не верю вам, вы всегда теперь находите предлоги не приходить. Я должна говорить с вами.
– Пожалуйста, отложим до вечера.
– Нет, сейчас! Неужели вы смеете считать меня за женщину, которой можно пренебрегать! – закричала она почти истерически.
– Иди, Степан, – приказал Лопатов, и, когда дверь за денщиком закрылась, он повернулся к Зине и строго произнес: – Вы меня удивляете, что это за ежедневные сцены?
– Я не переношу вашего бесцеремонного отношения ко мне! Разве я из тех женщин, с которыми можно поступать, как с вещами? Я горда! Вы это знаете; если вы сейчас не останетесь здесь со мной, я ухожу, и ухожу от вас навсегда.
– Если вы собираетесь делать мне сцены, то лучше уж вам действительно уйти, – говорит Лопатов строго. Она хочет быть стойкой, гордой, уйти и потом заставить его прийти и валяться у нее в ногах, но она уже понимает, что ничего из этого не выйдет, что он не придет и она останется одна, одна, а она не может быть без него.
Гадкий, мучительный ком подкатывается к горлу, она дрожит вся, зубы стучат.
– Это подло, мерзко так говорить со мной! – визгливо вырывается у нее.
– Никакой подлости нет, а мне нужно ехать, и я поеду.
– Не поедешь! – бросилась она к двери.
– Да перестань ты делать сцены!
– Я хочу, хочу знать правду! Слышишь! Я вижу, что ты лжешь, избегаешь меня. О, я знаю! И ты думаешь, что я не буду бороться за свою любовь!
– Ну, довольно истерики! – сказал он опять строго.
– Слышишь, я не пущу тебя! Не пущу! – она схватила его за руку, чувствуя, что в глазах ее темнеет и она не владеет собой.
– Отстань ты, наконец! – крикнул он, выходя из себя.
– А-а! Значит, ты ее любишь? Говори сейчас, не смей лгать! – она повалилась на пол, рыдая.
Он стоял над ней, бледный от злости, сжав кулаки.
– Степан, – крикнул он решительно, – давай шинель!
– Не уходи, не уходи, – закричала она, – не мучай меня, скажи правду! Если ты уйдешь, я разобью стекла и выброшусь на улицу!
Она вскочила с пола и бросилась к окну.
Он поймал ее за руку и заговорил, стараясь говорить ласково:
– Ну, ну, перестань. Утри слезы и поговорим.
Он отвел ее на диван в кабинет и подал ей воды. Она все еще дрожала и, тихо всхлипывая, пила воду.
Ей было невыносимо тяжело.
Надо было уйти, расхохотавшись ему в лицо, сказать, что он ей противен или что-нибудь в этом роде, но она не может, опять эта желанная роль женщины, играющей мужскими сердцами, не удается ей.
Она так привыкла рассказывать своим подругам как она третирует и мучает мужчин, а они лежат у ее ног, покорные и робкие, а на самом деле она сама валялась сейчас у ног этого самодовольного человека.
Она даже застонала от боли.
– Успокоилась ли ты наконец, можешь ты меня выслушать? – спросил он.
Она кивнула головой.
– Хорошо, ты знаешь, что обстоятельства заставляют меня жениться. Раньше ты к этому относилась вполне разумно, а теперь начинаешь мне устраивать скандалы. Ты желаешь устроить свою карьеру, так ты же должна знать, что я ничем не могу помочь тебе, если эта женитьба не состоится. А ты собираешься мне закатывать скандалы! Я этого не потерплю, слышишь? Я прошу тебя и не думать о таких выходках больше. Пока нам надо реже видеться, чтобы не вышло сплетен, – я тебе уже говорил об этом.
– А ты влюблен в эту Накатову! – крикнула она.
– Да уймись ты, глупая женщина! – нетерпеливо крикнул он.
Она притихла и беспомощно прижалась мокрой от слез щекой к подушке дивана.
– Повторяю тебе, что если ты сделаешь скандал, ты меня не удержишь, я тебе этого не прощу, так будь же умницей, и тебе же будет хорошо.
– Поклянись мне, что ты ее не любишь!
– Клянусь. Это я тебе говорю совершенно искренно, но она милая женщина, и я не желаю, чтобы у нее были хотя бы малейшие неприятности из-за меня.
– Николай, я не могу жить без тебя, я покончу с собой, если ты меня разлюбишь.
– Ну, ну, будь благоразумна, успокойся и иди домой, – он говорил это, ласково проводя рукой по ее спутанным волосам.
Она тихо заплакала:
– Ты, Коля, моя жизнь, мое счастье, мое все!
Он нехотя обнял ее, торопясь окончить неприятную сцену. Ему нужно было ехать, он торопился и боялся опоздать.
Зина, измученная слезами, задремала на диване. Она решила не уходить и дождаться Лопатова. Лучше она посидит тут, пошлет за закуской в офицерское собрание, будет читать книгу. Ведь к ночи он вернется – и они «помирятся», как это всегда бывает.
Было уже совсем темно, когда Степан робко стукнул в дверь.
– Барышня, г-н Тархин спрашивают вас, – почтительно доложил он, просовывая голову в дверь.
– Пусть подождет минутку, – отозвалась Зина, торопливо зажигая электричество у зеркала.
Она хотела было причесать волосы, но они были так красивы в своем беспорядке, что она раздумала и, только поспешно проведя пуховкой по лицу, крикнула: «Войдите».
В комнату не вошел, а как-то проскользнул маленький господин средних лет, с моноклем в глазу и с черными подстриженными усиками.
Он поцеловал руку Зины и шутливо заговорил:
– Я даже доволен, что не застал Николая и неожиданно вижу вас. Давненько, давненько мы не видались!
Она рассеянно улыбнулась:
– Вы меня извините, что я так растрепана, – у меня болит голова!
Он подвинул стул и сел около дивана.
Константин Николаевич Тархин знал в Петербурге все и всех, и не было того круга или общества, где бы его не считали своим.
Маленький, юркий, всегда элегантный, он был всегда и везде приятным гостем, с последней новостью на устах, с последним модным словечком.
Он восхищался только новоиспеченными знаменитостями и только новыми «направлениями».
В данную минуту он восторгался футуризмом.
Служил он в каком-то министерстве и занимал невидное, но крупное место.
Средства у него были хорошие, но он был скуповат.
В компании молодежи его любили как неподражаемого рассказчика неприличных анекдотов и неподражаемого исполнителя всевозможных шансонеток и куплетов.
Ему было уже далеко за сорок, но он почему-то считался молодым человеком. Он был всегда галантен со всеми женщинами. Дружен со всеми артистками, певицами, наездницами, никто никогда не знал о его собственных похождениях, но он был du courant всей vie galante[13]13
В курсе всех любовных интриг (фр.)
[Закрыть] всего Петербурга. Странность его заключалась в том, что, способствуя всегда интрижкам своих приятелей, он не выносил collage’а[14]14
Постоянная любовная связь (фр.).
[Закрыть], и когда кто-нибудь заводил постоянную связь, он всеми силами старался «развести этих несчастных».
Зина знала эту слабость, о которой он, шутя, рассказывал ей, боялась его и не любила.
Но в данную минуту ей так было тоскливо, что она обрадовалась даже ему, – все же он был мужчина, и мужчина любезный, начитанный, перед которым можно блеснуть умом, продекламировать новые стихи, – Зина очень недурно писала стихи, – он может оценить и ее небрежную прическу, и ножку в ажурном чулке.
– Жаль, жаль, что не застал Николая, я хотел было тащить его и вас где-нибудь послушать музыку с шампанским, – а где он в настоящую минуту?
– Поехал уверять свою невесту в своей верной любви, – насмешливо сказала Зина.
– Молодец вы, барышня! Вот настоящая женщина! А сознайтесь, не грызет вас это, ну, хоть немножко? – прищурил он свои ласковые глазки.
– Нисколько! – немного натянуто рассмеялась она. – Неужели, Константин Николаевич, вы воображаете, что если бы я не захотела этого брака, он бы состоялся?
Она легла, подперев руками голову и придав своему лицу самое демоническое выражение.
– А почему это вам необходимо?
– Я нахожу нашу любовь слишком пресной. Вы знаете мой характер. Он не совсем обыкновенный, во мне много жестокости; мне кажется, что любовь только тогда и хороша, когда она доставляет кому-нибудь страдание. Я читала в каком-то романе, что любовники, носясь на автомобиле, переехали какого-то человека – и только тогда они испытали настоящую страсть! О, как я их понимаю! Страсть, рожденная в крови и предсмертных судорогах! Разве это не красиво? Разве женщина в эту минуту не чувствует себя божеством, богиней Воли!
– Ой, да я вас начинаю бояться! – шутливо заметил Тархин.
– Я сама иногда боюсь себя, – произнесла она значительно. – Вы испытывали когда-нибудь предсмертный ужас? Впрочем, – откинулась она грациозно на подушки, – я не хочу думать об этом, я сама сознаю, что я слишком жестока… Лучше расскажите мне что-нибудь, ну, как прошел французский бал?
– Блестяще. Но… но позвольте, ведь Николай был на этом балу.
– Как это? – спросила она удивленно.
– Да я, кажется, проболтался, но вы лишены ревности, и я не жалею. Конечно, он был с Маркизет.
– Почему же вы думаете, что он был с Маркизет? Просто он встретился с нею, она за ним бегает, – сказала Зина пренебрежительно, но чувствуя, что ее сердце словно похолодело. Она знала теперь это ощущение, она часто его испытывала. Как она его просила свезти ее на этот бал! Он отговаривался тем, что боится сплетен и что, наконец, ее туалет будет слишком дорого стоить.
– Бегает ли она за ним или он за нею, это неизвестно, но он каждый вечер бывает у нее.
– Неправда, он сидит у своей невесты.
– Э, только до одиннадцати! Небось, он вам не сознался, какой изумрудный кулон поднес в бенефис Маркизет. Да и сегодня он у нее обедает, а потом там устраиваются какие-то шарады. Николай неосторожен, ведь Накатова может узнать.
Зина молчала, ей казалось, что кто-то ударил ее по голове, а холод в груди делался все сильнее и сильнее, – ей казалось, что она умирает.
Константин Николаевич продолжал болтать, рассказывая уже о чем-то другом, когда Зина поднялась с дивана и, смотря вперед каким-то остановившимся взглядом, с трудом выговорила:
– Пойдемте сейчас туда! Пойдемте, я ударю его в лицо, а ее… ее… – Она не договорила и в истерике упала на диван.
Тархин возился с Зиной очень долго: отпаивал водой, послал за валерьяновыми каплями.
Он немного струсил.
Он уговаривал ее не ехать к Маркизет, уверяя, что ничего серьезного между Лопатовым и артисткой нет, что не стоит огорчаться.
Он ушел только тогда, когда она успокоилась и обещала не предпринимать ничего «героического».
– Вы только доставите удовольствие Маркизет: чужие страдания, по вашей теории, только усиливают сладость любви.
Эти последние слова подействовали больше всего на Зину.
Спускаясь с лестницы, Тархин бранил себя за то, что проговорился, но не мог отделаться от приятного чувства, что ему удалось рассорить «засидевшихся любовников».
После визита к тете Соне Накатова все время оставалась задумчивой.
Она не переставала уверять себя, что Лопатов прав, что Таля именно такова, какой он ее представлял себе, но Таля, изредка забегавшая к ней по поручению тетушки, как-то сразу, однако, одним своим видом рассеивала все подозрения.
Неужели можно лгать этой светлой улыбкой, этим чистым детским взглядом?
Если она, Таля, хитрит, кому же верить?
Значит, нельзя верить и ему? Значит, можно сомневаться в его любви? Но как же можно в этом сомневаться, ведь он дает ей самое ясное доказательство: он женится на ней и так еще торопит свадьбу…
Вдруг она побледнела и схватилась за доску камина, около которого стояла. Ей вспомнился кузен Жорж и его признания.
«Нет, нет, что за глупости! Как я смею оскорблять его такими мыслями, сравнивать его, рыцарски-благородного, с беспутным Жоржем!»
Она выпрямилась и, прижав руки к сердцу, вслух сказала:
– Какие глупости! Он прав, я нервничаю. Это смешно и нелепо.
В то время когда Накатова думала свои тяжелые думы, Зина металась по маленькой казенной квартире, ломая голову, что предпринять ей, чтобы заставить вернуться Лопатова.
Нервы ее были до такой степени натянуты, что она уже забыла, в чем ее главное горе.
Ей припомнились все обиды, все неудачи ее такой еще коротенькой жизни.
Она ходила по комнатам, ломая руки.
Что с ней делают люди? Как ее измучили и истерзали! Гадкие, мелкие людишки! В семье ее никто не понимает!
В ее отуманенной голове ее участие в любительских спектаклях вырастало в какую-то высокую миссию, попытки писать стихи – в опыты гения, безличные, дышащие над ней родители – в угнетателей.
Лопатов опозорил и бросил ее; предыдущие романы, в момент этих истерических судорог, не шли в счет. Прошлые драмы забылись – настоящая была самая тяжелая.
Ей казалось, что разлука с Лопатовым покроет ее несмываемым позором. Ведь для нее самым позорным и ужасным казалось то, что она брошена, покинута, что другая «отбила» у нее любимого человека. Ведь они будут издеваться над нею! Ведь ни одна из этих завистниц не откажет себе в удовольствии прийти и ткнуть иголкой в ее рану.
«Подлые, подлые!» – твердила она, представляя себе лица своих «задушевных подруг».
Что он женится – это пустяки, она уже всем объяснила, что причина женитьбы – любовь к ней: он хочет принести себя в жертву, чтобы дать ей счастье и роскошь. Она так сама была уверена в этом, и вдруг другая женщина отнимает у нее эту роскошь, отнимает его любовь и, конечно, будет издеваться над «побежденной соперницей». Иначе она себе не представляла.