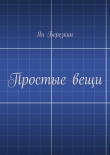Текст книги "Белая колоннада"
Автор книги: Евдокия Нагродская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Е. НАГРОДСКАЯ
БЕЛАЯ КОЛОННАДА (1914)
Посвящается
Марии Владимировне
Неболсиной
Я видел свет, его я вспоминаю,
И все редеет утренний туман.
М. Кузмин
Было холодно и туманно. В этом тумане обнаженные деревья кладбища казались грешными душами одного из кругов Дантова Ада.
Екатерина Антоновна Накатова поддерживала рыдающую тетю Соню, поминутно оступаясь на узких мостках и попадая в лужи своими изящными ножками.
Знакомые, почтившие своим присутствием погребение ее дядюшки, Петра Петровича Вольтова, почти все уже разъехались – осталась небольшая группа родных и самых близких друзей.
Смерть Волынова никого особенно не огорчила, но, видя горе его жены, все родственники немного поплакали, и даже блестящий кузен Жорж, вынув из глаза монокль, два раза высморкался.
У ворот кладбища Накатова усадила тетю Соню в свой автомобиль, решив не оставлять ее одну с ее горем.
Ехали по пустынным, незнакомым, плохо вымощенным улицам.
Путь с Волкова кладбища на Петербургскую, где жила тетя Соня, – не близкий, и Накатова побаивалась, как бы с теткой не случилось сердечного припадка, которыми та страдала.
Екатерина Антоновна рассеянно смотрела в окно на мелькавшие перед ней грязные улицы и чувствовала некоторое угрызение совести.
Она так мало была огорчена смертью дядюшки! Его неожиданная смерть так досадно выбила ее из колеи.
Теперь придется возиться с тетушкой, недели три носить траур, не бывать на балах и в театре!..
От этих мыслей она смутилась, опять упрекнула себя за бессердечие и взглянула на тетю Соню, такую маленькую, беспомощную, жалобно прижавшуюся в уголке автомобиля, к заплаканному личику которой так не шел трагический креп.
Это чисто русское лицо было бы милее и трогательней в трауре русской крестьянки – в холщовом белом платочке.
Екатерина Антоновна даже покраснела при мысли, что она при известии о смерти дядюшки воскликнула: «Ах, как не вовремя!»
Ну, право же, было не вовремя! В этот день Лопатов достал ей ложу на «Лоэнгрина».
Она опять покраснела, но уже по другой причине.
Лопатов ей нравился, даже слишком нравился – это ее смущало.
Воспитанная в строгих светских правилах, двадцати лет была выдана замуж за пожилого сановника и прожила с ним шесть лет. После его смерти, которой предшествовала долгая болезнь, Накатова, оставшись вдовой, как будто легче вздохнула.
Она была свободна, независима. К крупному состоянию, доставшемуся ей от родителей, прибавилось не менее крупное состояние, оставленное ей мужем по завещанию. Она умела себя «поставить» в обществе, даже самые злые языки ничего не могли сказать о ней.
Жила она открыто: принимала, выезжала.
Ей нравилась и льстила репутация безукоризненной добродетели, установившаяся за ней.
За ней ухаживали. Это ей тоже нравилось, но она тщательно скрывала это и немного стыдилась своего тщеславия. Ни одному из своих поклонников она не отдавала предпочтения. Боже сохрани!
Может быть, иногда ее сердце и билось сильнее, но она была слишком самолюбива и больше всего боялась «неверного шага».
Кроме того, она так привыкла к свободе и покою, что теперь, когда она начала чувствовать, что Николай Платонович Лопатов, такой красивый и блестящий, начал нарушать этот покой, она испугалась.
С Лопатовым она познакомилась в прошлом году на concurs hippique[1]1
Конкур-иппик, конные состязания (Фр.)
[Закрыть].
Молодой человек был ей представлен графиней Сагановой, почтенной дамой, всегда покровительствующей молодой вдове.
– Китти, было бы не дурно, если бы вы обратили внимание на Nicolas, – довольно вам вдоветь, – уронила как бы невзначай эта дама, когда Лопатов отошел от них.
Через неделю у той же Сагановой Накатова сидела с ним рядом за обедом и очень оживленно разговаривала, через два дня у Таревич танцевала с ним на балу, после которого он ей сделал визит, и знакомство завязалось.
Летом, за границей, они встретились на модном курорте, и Екатерина Антоновна, почувствовав, что сердце ее забилось слишком быстро и тревожно, сократила там свое пребывание и вернулась в Петербург.
Ей приходилось теперь ловить себя все чаще и чаще на том, что она мечтает о нем, что она ждет его прихода и слегка вздрагивает, увидев его неожиданно на улице или в театре. Последние дни это чувство сделалось так интенсивно, что она боялась чем-нибудь выдать себя.
Следует ли ей выходить замуж? Иначе она не допускала любви.
Теперь ей живется так хорошо и покойно. Ах, кто знает, что за волнения и беспокойства может принести эта любовь! Может быть, она, Накатова, и не нравится ему, может быть, он о ней и не думает…
Вначале он действительно словно не обратил на нее внимания, держался почтительно, но равнодушно, но теперь она не может не замечать, что он ищет встречи с нею, что он смотрит на нее пристальным многозначительным взглядом…
Накатова, погруженная в эти мысли, вдруг очнулась от резкого движения тети Сони.
– Тетечка, тебе худо? – с тревогой спросила она.
– Да, да… скорей домой! – едва проговорила Софья Ивановна, хватаясь за сердце.
Накатова велела шоферу ехать скорей и достала флакончик с солью.
В эту минуту в глубине двора какого-то низенького деревянного дома она увидела высокую, великолепную белую колоннаду с широкой лестницей, ведущей к ней.
Все это промелькнуло так быстро за окном, что Накатова только успела подумать: «Что это за здание?»
Софья Ивановна, задыхаясь, беспомощно лежала на плече племянницы.
В первую минуту Екатерина Антоновна растерялась, но потом сообразила, что ей надо делать.
– Это какая улица? – спросила она шофера.
– Ямская, – ответил он.
– Мы близко от дома?
– Минут десять.
– Поезжайте скорей домой.
Она решила везти тетку к себе и послать за доктором, живущим в том же доме.
Отдавая это приказание, она подумала:
– Белая колоннада на холме, где-то вблизи Ямской… Как это странно.
Но это только промелькнуло в ее голове, и она сейчас же забыла об этом.
Тетушка почти две недели пролежала у Екатерины Антоновны и потом была со всеми предосторожностями перевезена домой. За эти две недели Накатова прямо измучилась. Ей, так не привыкшей к беспокойству и хлопотам, пришлось возиться с больной, заниматься ее делами, принимать родню и чуть не ежедневно ездить на Петербургскую сторону – проведывать попугаев тетушки, оставшихся сиротами.
Когда наконец она осталась одна и, надев просторное, домашнее плюшевое платье, уселась на диван в своем уютном кабинете, она сразу почувствовала, что неодолимо хочет видеть Николая Платоновича.
Поддавшись этому желанию, она встала и, подойдя к письменному столу, решила написать ему записку, но остановилась.
Ей припомнились слова ее приятельницы Варховской, очень бойкой дамы:
– Никогда не пиши мужчине, с которым флиртуешь, записок – даже невинного содержания. Женщина любит изливаться в письмах и всегда на этом попадается.
Но ведь ее письмо будет самое невинное:
«Многоуважаемый (даже не дорогой) Николай Платонович, не придете ли Вы поскучать со мной, если у Вас нет в виду чего-нибудь интереснее»… Нет, нет, это невозможно, вдруг кто-нибудь прочтет подобную записку!
Не написать ли: «У меня будет кое-кто из друзей».
Вот тогда можно, тогда письмо теряет смысл приглашения на свидание… Ну а потом? Он придет и увидит, что она одна, поймет, в чем дело… Она делает первый шаг? Никогда она его не сделает!
Приходится отказаться от желания видеть его.
Она отошла от стола и опять уселась на диван.
Ах, как ей хотелось, чтобы он был тут, рядом с нею, смотрел бы на нее пристальным, ласкающим взглядом…
Было бы так хорошо… Его, казалось, всегда окружала какая-то теплая атмосфера, и словно пахло яблоками.
Не позвонить ли по телефону?.. Спросить?.. Он вчера приезжал с визитом и не застал… В эту минуту затрещал звонок телефона.
Что если он? Нет, он не станет звонить… Она взяла трубку, страшно желая в душе, чтобы это был он.
– Слушаю.
– Это вы, Екатерина Антоновна?
Она сразу узнала его голос и вздрогнула от радости.
– Я два раза заезжал к вам и очень жалел, что не застал вас. Когда вы мне разрешите видеть вас?
– Право, не знаю, – сказала она, стараясь говорить равнодушно, между тем как рука ее, державшая трубку телефона, дрожала от волнения, – я почти весь день провожу у тети… вот разве вечером… Ну хоть сегодня… я не собираюсь выехать.
– О, благодарю вас!
– За что? – спросила она насмешливо.
– За позволение видеть вас.
– Какой вы смешной. Ну приезжайте, только не позже как через полчаса – я сегодня рано лягу спать, – поспешно прибавила она.
Она ложилась поздно, но ей хотелось видеть его скорей, скорей!
– Я выезжаю сию минуту!
Она отошла от телефона с горящими щеками, чувствуя, что сердце ее наполняется каким-то счастливым весельем, и почему-то мелькнула в голове опять высокая, изящная колоннада.
В таком квартале… так странно. Надо посмотреть, что это такое.
Но эта мысль быстро сменилась другой. Она повернула электрическую кнопку и оглядела себя в зеркале.
Она осталась довольна собой.
Екатерину Антоновну никто не назвал бы «хорошенькой», «миленькой», «интересной».
Всякий сказал бы, что она «красива». Она красива немного строгой и холодной красотой. Высока, очень стройна. Все движения ее спокойны и изящны.
Ее темные густые волосы всегда причесаны гладко. Она никогда не позволяла себе в туалете чего-нибудь крикливого и оригинального.
Все в ней было полно каким-то изящным distinction[2]2
Изысканность, благородство (фр.).
[Закрыть].
Ей шел уже тридцать второй год, но ей никто бы не дал больше двадцати шести-двадцати семи лет.
Великолепный цвет лица и некоторая худощавость очень молодили ее.
Сегодня, когда щеки ее пылали, а глаза горели, в зеркале отражалось почти юное лицо.
Кабинет Екатерины Антоновны не походил на дамский, хотя ничем не напоминал мужского кабинета.
Мебель была старинная, карельской березы, с бронзовыми украшениями, крытая штофом; шелковые желтые занавеси без подборов на бронзовых кольцах и акварели в узких рамках на стенах.
Один только мягкий широкий диван нарушал этот строгий стиль. Накатова к этому дивану придвинула было низкий столик. Как хорошо будет посидеть с «ним» тут, на этом диване, пить чай и тихо разговаривать.
Но потом она раздумала, ей показалось слишком интимным принять его здесь. Нет, она примет его в гостиной, а чай будет сервирован в столовой, хотя она не любит своей столовой и называет ее «автомобильный гараж».
Когда у нее бывает не больше пяти человек гостей, чай пьют всегда в ее кабинете, но сегодня она почему-то не решилась на эту вольность.
Накатова плохо сдерживала свое волнение, приветствуя Лопатова.
Она говорила нервно о том, что она очень устала, что огорчена смертью дяди и болезнью тетушки.
Она старалась не смотреть на Лопатова, потому что ее смущал пристальный, влюбленный взгляд его темных глаз.
Он был очень красив и эффектен с густыми темными усами над полным красным ртом.
Фигура у него была сильная, высокая, пожалуй, немного полная, и от нее веяло здоровьем и силой.
– Ну, теперь вы отделались от ваших скучных дел? – спросил он, ласково улыбнувшись и сверкнув своими белыми зубами.
– Если хотите, я еще долго от этого не отделаюсь. Тетя теперь так одинока, она совсем растерялась, и мне придется посвящать ей очень много времени.
– Это не весело.
– Ах нет, я очень люблю тетю, и мне не трудно похлопотать для нее.
Накатова старалась убедить себя, что ей жалко тетку, и, досадуя, что она ею тяготится, заговорила, чтобы разжалобить себя:
– Она ужасно одинока и притом больна. Хорошо, что я, возвращаясь с кладбища, догадалась ее привезти ко мне, – бедняжка могла бы умереть по дороге домой… Ах, кстати, вы не знаете, что это за здание где-то там, в том quartier[3]3
Квартал (фр.).
[Закрыть], где Ямская… Великолепная колоннада, с мраморной широкой лестницей.
– На какой улице?
– Не знаю. Мы ехали очень быстро и, кажется, два раза повернули, пока приехали на Ямскую.
– Я редко бывал в этих местах, мне бы, наверное, бросилась в глаза эта колоннада, но я ничего подобного не помню.
– С улицы – это небольшой деревянный дом, колоннада в глубине двора.
– Странно… но почему вас это так занимает? – рассмеялся он.
– Право, не знаю… Это было так красиво: освещенный солнцем белый мрамор… – она вдруг замолчала и растерянно взглянула на него.
Освещенный солнцем? Но день был туманный… шел мелкий дождь.
Но она ясно видела, что колоннада была освещена солнцем, она видела голубое небо над красивым портиком. Что за чушь! Неужели ей это показалось?
Конечно, показалось.
Но что показалось? Само здание или это освещение?
Конечно, освещение – само здание она видела ясно.
– Мне бы хотелось узнать… Впрочем, все это пустяки… Скажите, вы тогда были на «Лоэнгрине»? Какова была публика?
– Не знаю, я не был, – улыбнулся он опять своей широкой улыбкой, – я отдал ложу товарищу.
– Почему? – спросила она и сейчас же упрекнула себя.
Конечно, он ответит: «Потому что не было вас».
– Потому что не было вас, – действительно сказал он значительно.
– Ах, какие пустяки! – пожала она плечами и приказала подавать чай в столовую.
Проходя по темной зале, он схватил ее руку и крепко прижал к губам. Она выдернула руку и сделала вид, что рассердилась, в душе сознавая, что рассердилась бы больше, если бы он этого не сделал.
В столовой, в присутствии лакея, разговор шел о пустяках, но его взгляды были так красноречивы, а ее лицо так пылало!
– Вы не сердитесь на меня за мою дерзость? – спросил он, когда лакей вышел, и тут же опять повторил эту дерзость.
На этот раз она не выдернула руки, взволнованная, счастливая, чувствуя, что ее голова приятно кружится.
Как в полусне, слушала она его слова.
Он говорил о любви с первого взгляда, о том, как он измучился, не решаясь заговорить об этой любви.
Она подняла на него глаза и засмеялась счастливым смехом, ей не хотелось слов, ей хотелось поцелуев, но вошел лакей, и он опять заговорил о безразличных вещах.
Ей хотелось послушать страстных речей на свободе, чтобы никто не мешал, ей хотелось, чтобы ее обняли и поцеловали, хотелось возвратить эти поцелуи, но она, конечно, не решалась даже услать лакея, и они чинно сидели за накрытым столом в большой, торжественной столовой.
Лопатов заговорил было по-французски, но она поспешно шепнула, показав бровями на лакея: «Он понимает».
– Отошлите его.
– Неловко.
– Милая…
– Семен, вы можете идти, – сказала она смущенно.
Она всегда отсылала Семена совершенно спокойно, даже когда у нее сидел одинокий гость, но сегодня ей показалось, что Семен усмехнулся в свои седые бакенбарды, хотя тот никогда бы себе этого не позволил, а в данном случае если и удивлялся, то только тому, что Екатерина Антоновна так долго не говорит ему: «Вы можете идти».
Едва Семен вышел, Лопатов быстро встал и, подойдя к Накатовой, взял ее за голову.
– Бога ради… прислуга может войти… – начала было она, но он зажал ей рот поцелуем. Она подняла руки и, закинув их ему на плечи, сама тесно прижалась к нему.
– Маша, – сказала Екатерина Антоновна, когда горничная раздевала ее, – я выхожу замуж.
Маша радостно взвизгнула и поцеловала ручку барыни.
На другой день Лопатов явился с букетом.
Накатова приняла его уже в своем кабинете.
Они сидели, прижавшись друг к другу, на диване и, смеясь, составляли список приглашенных. Свадьбу решили отпраздновать перед масленицей. Лопатов выражал досаду на такую проволочку, но Накатова уверяла, что так «приличнее», да и до рождественского поста они не успеют устроиться.
Это его нетерпение трогало Накатову. Она огорчалась только, что он не может получить отпуска, им не удастся поехать за границу. После свадьбы ей хотелось бы провести весну и часть лета где-нибудь в Италии, с ним вдвоем.
– Как жаль, что мы не можем уехать на всю весну и лето. Как бы было это хорошо, – воскликнула она. – Я бы снова взглянула на все милые, знакомые места с тобою вместе, обошла с тобой картинные галереи…
– Дорогая Китти, – поморщился он, – это так вульгарно: поездка в Италию после свадьбы – словно какие-нибудь купцы! Да и, признаться вам, я не особенно люблю «проверять Бедекер», как говорят… Не лучше ли съездить к вам в имение на несколько дней… Мы будем там одни, а то эта вечная отельная толпа…
– Может быть, вы и правы, но я так люблю Италию. Я помню, еще ребенком я почему-то расплакалась, подъезжая на пароходе к Капри. Меня спрашивали, отчего я плачу, я не могла объяснить, но теперь, вспоминая, я понимаю. Я заплакала от восторга, мне показалось, что там я найду что-то новое… что-то совсем непохожее на то, что я видела до сих пор, так меня поразили эти белые здания на фоне синего блестящего неба!
Она вдруг остановилась.
– Николенька, – сказала она поспешно, – узнайте мне, пожалуйста, что это за здание я видела тогда, когда ехала с кладбища.
– Какое здание? – удивился он.
– Помните, я вам рассказывала – белая колоннада.
– Хорошо, узнаю… А скажите, где мы устроимся? Здесь, у вас, или будем искать квартиру? Я живу в казенной. Найдется ли мне уголок у моей милой жены? – спросил он, ласково целуя ее руку.
– Квартиру придется менять… Но… но… вы так равнодушно отнеслись к моей просьбе узнать о том, что меня интересует.
– Узнаю, узнаю. Это такой пустяк.
Ей вдруг стало обидно.
– Для меня это не пустяк. Я хочу знать, – сказала она немного раздраженно.
– Я не знал, что вы такой ребенок, – удивился он, – это как-то не вяжется с моим представлением о вас. Отчего вас интересует этот пустяк?
– Ну… ну… оттого, что это была моя просьба, первая просьба… Конечно, это пустяк, но тем более вы должны были это исполнить, – сказала она, нахмурив брови.
– Конечно, конечно, дорогая, об этом не может быть и речи. Я узнаю и за обедом сообщу вам, – засмеялся он примирительно.
– Да, да, приезжайте пораньше, – оживилась она. – Я позвала всех родственников и добрых друзей, мы за обедом удивим их, объявив нашу новость. Это будет coup de foudre[4]4
Как гром средь ясного неба (фр.).
[Закрыть]! А знаете, ведь кузен Жорж будет сражен!
Она весело засмеялась, закидывая руки ему на плечи.
Обед прошел весело. Было выпито шампанское. Все действительно были удивлены и рассыпались в пожеланиях счастья, более или менее искренних.
Кузен Жорж имел несколько убитый вид.
Накатова года на три была старше своего кузена, но это не мешало ей быть с ним очень дружной в детстве.
Потом эта дружба как-то охладела. Жорж в семье считался способным, но кутилой. Фатовские замашки, приобретенные им в привилегированном училище, не нравились Накатовой, и она часто подсмеивалась над ним, а он обижался.
Его отец, почтенный сановник, был скуповат, очень урезывал своих сыновей, а они делали долги. Очень часто между отцом и сыновьями из-за этого происходили сцены.
Года два тому назад старший брат Степан вдруг изменился, перестал кутить и как будто занялся делом.
Отец обрадовался, но ненадолго. Степана арестовали. Старика чуть не хватил удар, он запретил говорить о старшем сыне и стал снисходительней относиться к младшему, но младший стал кутить еще больше. Происходили домашние сцены, но от времени до времени, с большим скандалом, долги кое-как погашались.
Со времени вдовства Накатовой периодически кузен Жорж вдруг начинал ухаживать за своей кузиной, но ненадолго. Накатова всегда относилась насмешливо к этим ухаживаниям, хотя и не сердилась на Жоржа. Жорж считался блестящим молодым человеком, был неглуп, отличный спортсмен во всех областях спорта, а его ухаживание было очень почтительное и сдержанное.
Накатова даже жалела его. Ей казалось, что чувство Жоржа к ней очень сильно, – ведь несмотря на ее насмешки, он всегда возвращался к ней.
И теперь, когда он на этом парадном обеде сидел задумчивый и даже печальный, она почувствовала к нему нежность, хотя эта нежность не лишена была некоторой насмешливости.
Странно, но голос его звучал так искренно, когда он пожелал ей счастья, пожалуй, гораздо искренней, чем голоса ее лучших приятельниц. В их поздравлениях звучала какая-то фальшивая нотка.
– Как люди не любят видеть счастливых людей, – сказала Накатова, когда гости разъехались, – они не прощают чужого счастья, а я… я так счастлива… Ах да, а вы узнали мне что-нибудь об этом здании?
– Как же, как же! Три посыльных бегали и ничего подобного не нашли.
– А вы сами? Вы сами… не справлялись?
– Представьте, желая вам угодить, справлялся по телефону у пристава той части города, и он мне ответил, что подобного здания не существует.
– Но надо же найти! – Она вдруг спохватилась и сама, рассмеявшись, заговорила о другом.
Слегка морозило.
Накатова, отпустив автомобиль на Лиговке, решила пройти пешком, – так было удобнее.
Сегодня утром она отправилась в путь, с твердой уверенностью, что, пройдя по тем улицам, по которым она тогда проезжала, она найдет это красивое здание, так поразившее ее.
Она не знала улицы, но хорошо помнила этот небольшой деревянный дом темно-красноватого цвета, в один этаж, с мезонином в три окна и с некрашеными, потемневшими воротами, во дворе которого возвышалась колоннада высоко-высоко над лестницей из белого мрамора.
Екатерина Антоновна зорко смотрела по сторонам.
«Здесь, наверно, где-то здесь. Надо у кого-нибудь спросить», – подумала она и решительно подошла к молодой девушке, шедшей ей навстречу.
Девушка была небольшого роста, с светло-русыми волосами, которые, выбиваясь из-под шапочки, легкими завитками окружали ее круглое румяное лицо со вздернутым носом и большими светлыми глазами.
Личико было совсем детское.
Одета она была очень скромно – в темное пальто с меховым воротником, сшитое, однако, по-модному, в виде капотика.
– Простите, – обратилась к ней Накатова. – Не знаете ли вы, где здесь поблизости есть красивое большое здание с колоннадой? – начала было она.
– Здесь? Колоннада? – переспросила девушка. – Я не знаю. Разве здесь есть такое?
– Я видела мельком, я проезжала здесь с месяц назад… Это было очень красиво, мне захотелось еще раз посмотреть. Лестница широкая, и по бокам огромные вазы, – вдруг припомнила эту подробность Екатерина Антоновна.
– А где вы видели? – живо заинтересовалась девушка, пристально смотря в лицо Накатовой.
– В том-то и дело, что не знаю.
– Ах, как бы я хотела посмотреть! Вы говорите, что это красиво?
– Да, красиво, удивительно красиво! И освещено солнцем… т. е. тогда было освещено солнцем… впрочем, может быть, мне это показалось.
– Вот что, пойдемте искать вместе! Будем спрашивать и найдем, – предложила девушка, – если все улицы обойдем, так и увидим.
Девушку звали Таля, т. е. Наталья Алексеевна Карпакина.
Она сейчас же назвалась и с простодушной наивностью, даже болтливостью, как-то зараз выложила Екатерине Антоновне все сведения о себе и своей семье.
Она учится здесь, в Петербурге, на курсах. Родители живут в провинции, на далеком севере: отец – лесопромышленник.
– Папа не бедный, но детей у нас – страсть! Одиннадцать человек. Девять мальчиков и две девочки – я и самая старшая сестра, – она уже замужем. Два брата тоже женаты, один холостой – студент, остальные растут… Папа на учение не жалеет, но, подумайте, всю эту ораву младших-то содержать! Мы в детстве босые ходили и только тогда, когда в гимназию поступали, получали права гражданства и башмаки.
Таля болтала весело и без умолку, а Екатерина Антоновна слушала ее с каким-то непонятным интересом: переспрашивала, справлялась о подробностях, как будто все это было необыкновенно важно для нее.
Она уже давно взяла Талю под руку, и они шли из улицы в улицу, словно были давным-давно знакомы и увидались наконец после долгой разлуки. Они совершенно забыли, что только что встретились и пошли искать какую-то белую колоннаду.
Первая вспомнила об этом Таля – она вдруг остановилась и сказала:
– А где же колоннада?
– Ах да, нужно у кого-нибудь спросить, – спохватилась Накатова.
Они спрашивали прохожих, городовых, дворников, заходили в мелочные лавки – но ничего не узнали.
– Что же нам делать? – спросила Таля растерянно.
– Не знаю. Я начинаю думать, что мне это показалось, – смущенно ответила Накатова.
– Ах нет, нет, – воскликнула Таля, – мне не хочется, чтобы этого не было, мне хочется тоже посмотреть! Почему бы вам это показалось? Что вы в то время думали?
– Ничего не думала, – слегка смутилась Екатерина Антоновна.
– Разве можно ни о чем не думать! Наверно, думали же о чем-нибудь – пожалуйста, припомните!
Таля стояла, комкая свою муфту и нетерпеливо переступая с ноги на ногу.
– Я думала об одном человеке, – начала, все более и более смущаясь, Накатова, – об одном человеке, которого… который теперь стал моим женихом.
– Значит, вы не думали о картине, которую увидали, значит, она не показалась. Вспомните-ка все подробности.
Накатова задумалась и даже закрыла глаза, и вдруг, открыв их, растерянно взглянула на Талю и произнесла как бы с испугом:
– Теперь я знаю, что мне это все показалось. Я помню, в белых вазах росли цветы, красновато-желтые цветы, и спускались из ваз. Ну где же могли быть цветы в конце октября?
– Вот настурции очень долго цветут… А может быть, это были искусственные цветы?
– Ну кто же станет выставлять искусственные цветы под дождь… да и потом – искусственные цветы так не идут к белому мрамору.
– Да, да, вы правы, там не надо искусственных цветов, это, может быть, были настурции.
– Теперь я понимаю, что все это мне показалось! – неожиданно воскликнула Екатерина Антоновна.
– Почему?
– Потому что я припомнила еще одну подробность: около здания росло несколько сосен.
– Боже мой! Отчего же там не расти соснам!
– Это была сосна южная, итальянская пина. Я теперь хорошо помню. Да, да, теперь помню и лавровые деревья.
– Деревья могли быть в кадках!
– Шел дождь, а я видела все это залитое солнцем.
– Так что ж! В эту минуту могло выглянуть солнце! – топнула Таля ногой.
Вдруг они обе словно опомнились.
– Послушайте, да о чем же мы спорим? Ведь ясно же, что это все мне показалось.
Таля вдруг неожиданно уткнулась в свою муфту и всхлипнула.
– Милая, деточка, не плачьте! О чем же вы плачете? – с испугом спросила Накатова.
– Так, мне жалко, что вы этого вот сейчас не увидите еще раз, это было так красиво, а вы мимо проехали – и не рассмотрели даже хорошенько, – бормотала Таля, поспешно доставая платок из муфты.
– Все это мне показалось! Конечно, жалко, но что же делать? – печально сказала Екатерина Антоновна.
– Конечно, нечего делать! Может быть, когда-нибудь и еще увидите. Вот-то хорошо будет!
– Но ведь это мне только показалось.
– А, не все ли равно! Вы видели эту колоннаду! Пусть бы мне жизнь моя казалась прекрасной, а на самом деле я бы лежала, прокаженная, в яме! В самой глубокой и тесной яме. И что бы мне за сладость была жить в прекрасном дворце и чувствовать себя в яме! Как нам кажется, так оно и есть.
Таля вытерла глаза и еще раз высморкалась.
– Что же, пойдемте домой, – ласково взяла она под руку Накатову.
– Пойдемте, – тихонько ответила Накатова. Они пошли молча, под руку.
Медленно и молча шли они в сгустившихся сумерках, тесно прижавшись друг к другу, и Екатерине Антоновне, никогда не имевшей детей, казалось, что рядом с ней идет ее дочка, маленькая, любимая, самое дорогое ей существо на свете.
– Вы, Таля, приходите ко мне, пожалуйста.
– Я приду непременно, – отозвалась та.
– Когда?
– А вот послезавтра, с лекций, часа в два.
– Так не забудьте смотрите, я буду вас ждать к завтраку.
– А где вы живете?
– Я живу… – начала было Накатова и вдруг опомнилась.
Что это с ней сделалось? Встретилась с какой-то курсисткой и приглашает ее к себе, восчувствовала какую-то особенную симпатию! С чего?
Какая-то полоумная девчонка!
Накатова оставила руку Тали и сухо сказала:
– Я живу на Литейном, дом 96, моя фамилия Накатова.
– Я непременно приеду.
– Буду очень рада, до свидания, – и, холодно пожав руку девушке, Екатерина Антоновна взяла первого попавшегося извозчика.
Она ехала домой, все больше и больше сердясь на себя:
«Эта девица, очевидно, дура или ненормальная, какую чепуху она говорила… Впрочем, и она, Накатова, хороша! Тоже могла показаться ненормальной. И что такое случилось с ней? Нервы это или начало какой-нибудь болезни? Боже мой, как это все глупо и как ей стыдно за себя».
Лопатов, придя к обеду, заметил, что она не в духе.
– Что с вами, Китти? – спросил он ласково.
Она слегка покраснела:
– Мне стыдно рассказывать вам, Николенька, как я невозможно вела себя. Я не поверила вам и отправилась сама искать белую колоннаду. Во время этих поисков встретила какую-то курсистку, и мы принялись за поиски уже вместе…
– Какая нелепость! Ну и что же? – смеясь спросил Лопатов.
– Конечно, ничего не нашли. Теперь я сама вижу, что это мне показалось, я припомнила подробности.
– Ну и слава Богу. Я так и думал, что ничего подобного не существует.
– Отчего «слава Богу»? Разве не лучше бы было, если бы существовало такое красивое здание?
– Ну на что это вам? Не все ли равно вам?
Екатерине Антоновне вдруг стало досадно: вот он, близкий, любимый, и так равнодушно отнесся к ней, а «та», чужая, заинтересовалась, искренно приняла участие, Она помолчала и вдруг неожиданно спросила:
– А вам не жаль, Nicolas, что вы не видали моей колоннады?
– Да что с вами, Китти, как подобный пустяк может занять такую серьезную женщину, как вы? – удивился он.
– Да, да, конечно, – все это глупости, – засмеялась она. – Всего глупее, что я пригласила к себе эту барышню. Смешная такая провинциалочка, из купеческой семьи.
– Ах, какой красивый у вас кабинет! – восклицала Таля, стоя посреди комнаты.
– Очень рада, что вам нравится у меня, – сказала Накатова, глядя на девушку.
«Какая она хорошенькая и славная», – мелькнуло у нее в уме, когда она глядела на юное смеющееся личико, раскрасневшееся от мороза, с сияющими глазами и смеющимся ртом.
Уголки этого рта как-то забавно приподымались вверх. Разрыв больших, светлых глаз был тоже кверху, и брови от переносицы поднимались к вискам. Это розовое личико все словно летело вверх, даже завитки непокорных русых волос летели куда-то.
– Славная комната! – между тем говорила Таля, усаживаясь на кресло, предложенное хозяйкой, и опять оглядываясь кругом. – Вы именно и должны жить в такой комнате.
– Почему? – спросила, улыбаясь Екатерина Антоновна.
– А потому, что вся комната такая же, как вы: красивая, спокойная, немного гордая и разумная.
– Вы меня считаете разумной? – удивилась Накатова. – А я, представьте, была уверена, что вы меня приняли за сумасшедшую.
– Почему? – удивилась в свою очередь Таля.
– А как я искала белую колоннаду? Согласитесь, что это было смешно.
– Не знаю. Мне было не смешно, – покачала Таля головой. – Я не люблю людей без колоннады.
– Я вас не понимаю?
– Я не люблю людей, которые… Ну… которым никогда ничего «не кажется». Я не умею вам объяснить, но всегда лучше, когда человек думает: а вот есть где-то что-то хорошее, доброе, красивое. Может быть, здесь этого и не увидишь, а только «там», – Таля неопределенно махнула рукой, – но все равно, оно есть!