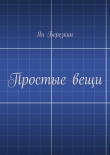Текст книги "Белая колоннада"
Автор книги: Евдокия Нагродская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Где это «там»? В будущей жизни? – улыбнувшись, спросила Екатерина Антоновна.
– Конечно, – уверенно отвечала Таля. – А то как же иначе? Если в это не верить, так сейчас ерунда получается. Точно тараканы бегают – хлоп! И нет. Так зачем же они думают, чувствуют, видят? Я уверена, что жизнь есть приготовление, переход к другой, более важной жизни, и я должна готовиться к ней добросовестно и стараться быть доброй, хорошей, и даже жизнь свою отдать за других, если понадобится… А если эта жизнь и есть одна только, так, наоборот, надо как можно слаще и лучше ее прожить, хотя бы во вред другим.
– Значит, вы ждете иной жизни, а эта вас не радует?
– Как не радует? – всплеснула руками Таля… – Да я все люблю. Если бы я думала, что она одна и есть, то, конечно, я бы не могла на нее радоваться, а так… так я все люблю! Вот идешь по улице и радуешься. И на туман, и на дождь, и на то, что извозчик ждет, даже на то, что сегодня вторник или среда, потому что на душе есть главная радость – будущее счастье, а человеку всегда все кругом мило и радостно, когда он какого-нибудь счастья ждет… Вот невесте перед свадьбой, может быть, тоже и дождь и извозчики милы. А главное, то радует, что все это любить хочешь и любить можешь!
– Всех нельзя любить, есть очень много дурных людей, Таля.
– Что же, они, значит, не знают этого света душевного, они сами несчастны. Я не могу себе представить счастливого злодея, веселого, радостного, и мне его жаль, и я его тоже любить буду.
– Значит, не надо противиться злу?
– Что?!
Таля даже привстала с кресла:
– Злу надо противиться всем сердцем, всей душой, всеми чувствами! Злом только не надо противиться злу, а жизнь свою отдать, сопротивляясь ему, и можно и должно. Но от этого я не меньше люблю жизнь! Я ее очень люблю. Она хорошенькая, хрупкая, маленькая!
Вот что мы знаем,
Вот что мы любим,
За то, что хрупко, —
Трижды целуем!
И я трижды все целую и в три раза больше люблю каждый вершок земли!
Таля вскочила, взмахнула руками и засмеялась счастливым смехом. Екатерина Антоновна с лаской смотрела на нее, и ей хотелось сказать этой девочке что-нибудь милое, ласковое, но раздались шаги, и в комнату вошел Лопатов.
За завтраком Таля, сначала притихшая, разговорилась.
Она рассказывала о какой-то выставке картин, о балете, в который ей достала билет одна приятельница, о Карсавиной, которая «сказка, а не женщина», о шляпке, которую она видела в магазине.
После завтрака она заторопилась уходить.
– Вы приходите еще, Таля, – сказала Екатерина Антоновна, целуя ее.
– Приду, приду, и вы ко мне приходите, я на Васильевском острове живу, 14-я линия.
– Хорошенькая девочка, только уж очень глупенькая, – сказал Лопатов.
– Да, она, кажется, глупенькая, – нерешительно согласилась Екатерина Антоновна.
Накатова устала.
Сегодня целый день они с Николаем Платоновичем ездили искать квартиру. Теперешняя ее была мала, и никак нельзя было выкроить из нее приличного кабинета.
Екатерине Антоновне было очень грустно покидать свое жилище. В этой квартире она жила со смерти мужа вот уже лет пять. К ней она привыкла и устроила ее по своему вкусу. Ей не хотелось переезжать в другую часть города, менее чистую и спокойную и более отдаленную от центра, но та была удобнее для ее будущего мужа.
Теперь очень часто ее вкусы, привычки и понятия не совпадали со вкусами и привычками этого «будущего мужа».
Один табачный дым чего стоил!
– Николенька, – сказала она один раз, – вы не можете не курить? Сделайте это для меня.
Он обещал, но она видела, что он томится, уезжает раньше, хмурится и стал даже менее ласков с нею.
Она сама зажгла спичку и, поднося ему, сказала:
– Бог с вами, уж курите – я постараюсь привыкнуть.
Она приносила эти жертвы с удовольствием, она чувствовала, что ее любовь к нему растет с каждым днем, но все же это были жертвы, правда, маленькие, но многочисленные и ежедневные.
Она не сердилась, не жаловалась, когда приходилось изменять своим привычкам, она теперь как-то ничего не замечала вне своей любви, она сделалась равнодушна ко всем и ко всему, для нее стало все безразлично, что так или иначе не касалось ее любви. Она даже стала равнодушна к своим друзьям – ее уже не трогали, как прежде, чужие горести и радости; она могла радоваться и огорчаться только тем, что теперь составляло ее жизнь, – т. е. любовью к Лопатову.
Она была сначала ему благодарна за его сдержанность и почтительность, но последнее время эта сдержанность ее иногда огорчала, – ей захотелось видеть в нем больше страсти.
На другой день эта усталость не прошла, так как утром опять они ездили и хлопотали, покупая мебель.
Настроение Накатовой еще более испортила маленькая размолвка с женихом, и не сама размолвка оставила дурное впечатление, а то, что она могла произойти из-за таких пустяков, как портьеры в гостиной.
К золоченой мебели Luis XV[5]5
В стиле Людовика XV (фр.).
[Закрыть], крытой обюссоном, так бы подошел светло-серый шелк, перемешанный с блекло-розовым плюшем, а Николай Платонович хотел непременно, чтобы портьеры были ярко-вишневого цвета.
Поспорив немножко, он, конечно, согласился с нею, но с видом человека, уступающего чужому капризу.
Это огорчило ее. Конечно, надо сделать по его вкусу, чтобы он не думал, что она мелочна и капризна, но ей казалось ужасным иметь такую безвкусную гостиную.
И вот этот ужас перед пустяком ее больше всего расстроил.
Если бы Лопатов остался с ней, конечно, она бы не думала об этом, но он был занят, куда-то спешил.
Ей не хотелось ехать домой, не хотелось что-нибудь делать.
Она было думала заехать к какой-нибудь из своих приятельниц, но сейчас же отказалась от этой мысли.
Она расстроена, и нервы у нее расшалились, приятельницы сейчас это заметят, и начнут расспрашивать, или будут делать потом всевозможные предположения.
Лучше всего проехаться, и она велела шоферу ехать куда-нибудь подальше и где меньше народу.
Шофер повез ее на Васильевский остров.
«Заеду-ка я к этой девочке. Она такая болтунья и жизнерадостная, она меня рассмешит и рассеет», – решила Накатова.
Таля жила в пятом этаже, в квартире, которую хозяйка по комнатам сдавала жильцам, сама ютясь в маленькой кухне.
Комната Тали была довольно большая и светлая, но почти без мебели.
Широкое окно выходило куда-то на крыши, и из него была видна Нева.
– И Исаакий, и Адмиралтейство от меня видно! Такая красота, посмотрите! – болтала Таля, помогая Екатерине Антоновне снимать шубку. – Какой славный мех! Как он называется? – спросила она, прикладывая муфту Накатовой к своей розовой щеке.
– Шеншиля.
– А, так вот он какой! Я слышала, но никогда не видела. Говорят, он страшно дорогой.
– Да, эта муфта и воротник стоили шестьсот рублей.
– Ой-ой! Ну, за такую прелесть и не жалко, такая душка!
Таля провела муфтой по своему лицу:
– Точно какой-то сон по утру! Мяконький, уютный – не то, что моя «перепетуя».
– Какая «перепетуя»? – улыбнулась Накатова, чувствуя, что на душе у нее стало сразу светлее при взгляде на это летящее личико.
– Когда я покупала себе шубку, приказчик так мудрено назвал мех на воротнике, что-то вроде «перепетуи», а хозяйка уверяет, что это просто стриженый и выкрашенный кролик! – смеясь, рассказывала Таля.
Уже стемнело, и Таля зажгла лампу на большом некрашеном столе, покрытом темной салфеткой, который заменял письменный, а Накатова все сидела в старом кожаном кресле, и ей не хотелось уходить.
Таля показывала ей альбом домашних фотографий и, стоя коленями на стуле, давала объяснения.
– Это мама! Мама несет корзину с яблоками, а Дима и Сема в лапту играют. Это Ефим – наш работник, Орлика чистит, а вот это, правда, красиво? Точно картина! Это старший брат с женой рыбу удят. А это самый маленький, Кука – ему только четыре года. Его зовут Василий, но мы его все звали Куколка да Куколка, он и сам стал звать себя так. Только вместо Куклы у него Кука выходило – так он и остался Кукой. Вы любите слова?
– Как это слова? – словно проснувшись от какого-то безмятежного сна, спросила Накатова.
– А так, просто слова! Другие слова такие милые-милые, а другие смешные. Когда я кого-нибудь люблю, я ужасно слов много говорю: и золото, и кошечка, и водичка, и свечечка… и сама даже иногда не знаю что! А вы любите – любить?
Накатова расхохоталась.
– Отчего вы смеетесь? – спросила Таля, садясь на пол перед Екатериной Антоновной и облокачиваясь на ее колени. – Разве не весело, не светло и не радостно – любить?
– Не всегда весело любить, и не все светло в любви.
– Как так?
– А если вам не ответят на вашу любовь?
– Но почему же, если я буду любить, меня не полюбят? Да я всех люблю, и все меня любят. Право! Меня только те не любят, кого я не люблю, но я думаю, что понемногу я буду любить всех.
– Ах, вы о такой любви говорите… Но вы можете влюбиться, а к вам останутся равнодушны.
Сказав это, Накатова подумала, что было бы с ней, если бы у нее отняли любовь ее Николеньки. Могла бы она тогда жить?
– Ах, вы говорите о такой любви… – совершенно так же протянула Таля. – Ну так это в счет не идет – это любовь телесная, от нее, конечно, может вроде болезни случиться, потому что она от тела.
– Но ведь от нее много люди страдают, больше, чем от чего-нибудь другого.
– Так и зубная боль бывает страшно мучительна, или мигрень. От любви люди найдут лекарство и будут лечить тех, с кем такое горе приключится. Потому что это чувство такое, наверно, как у беременных: вот хочу моченых яблоков и именно анисовки – никакого другого! Вы знаете, у нас в городе одна женщина в таком положении убила топором соседку за то, что та не хотела ей этих яблок дать. А какая была добрая и кроткая женщина.
– Вы рассуждаете так, потому что вы слишком молоды и еще не любили.
– Ах, рассказала бы я вам одну историю, да брату моему, Антону, я дала слово никому не рассказывать – хоть и сама не знаю почему… А вы меня любите? – вдруг спросила Таля, ласково положив свою руку на руку Накатовой.
Екатерина Антоновна взяла Талю за голову и нежно поцеловала ее румяную щеку.
– И я вас люблю. Очень люблю, – радостно улыбнулась девушка.
– Вы всех любите?
– Ах, нет! Если бы я всех могла любить, я бы очень счастлива была,– вот как мой друг, Мирончик.
– Кто он такой?
– Один мальчик, ему четырнадцать лет, он живет тут, в другой комнате, с матерью. Его мать в правлении одном служит. Хотите, я вас с ним познакомлю? Пойдемте к нему.
– Позовите его лучше сюда.
– Он не может ходить, у него ноги отнялись.
– Несчастный!
– Совсем даже не несчастный. Несчастен тот, кто себя несчастным чувствует, а кто чувствует себя счастливым, – тот и счастлив. Помните, я как-то раз говорила про яму? Ну что бы мне была за радость жить во дворце и чтобы все завидовали моему счастью, а мне бы казалось, что в тесной яме лежу! Правда?
– Маленький мой философ, вы так молоды! В эти годы все ямы дворцами кажутся, – улыбнулась Накатова, гладя рукой русые вьющиеся волосы Тали и чувствуя опять, как сердце ее наполняется нежностью и опять ей кажется, что это ее ребенок, ее дочка прижалась к ее коленям. Сердце ее как будто расширяется, и тихий радостный свет наполняет его.
– Как вы ошибаетесь, – тихонько заговорила Таля, смотря пристальным, серьезным взглядом в глаза Екатерины Антоновны, – как вы ошибаетесь. Разве вы не замечали, что молодые чаще убивают себя? Что молодые чаще недовольны жизнью, что они нетерпеливей переносят невзгоды и не умеют справляться с горем. Вы говорите, что я радостна и весела, потому что я молода… А радости этой я научилась у старого, старого старичка – ему почти восемьдесят лет было, а он всем протягивал руки и учил любить и радоваться. Он говорил мне еще, – как-то внушительно строго продолжала Таля, кладя снова свою руку на руку Накатовой, – думай о том, что надо любить, как можно больше любить! Сначала полюби хоть тех, кто тебе симпатичен, не скрывай этого, подходи и говори прямо этим людям, что любишь их. Не думай, что ты можешь показаться смешной и нелепой. Будь как дитя в любви своей, и люди, может быть и насмехаясь над тобой, дадут тебе частицу любви своей, и у них посветлеет на сердце… А представьте себе, люди так полюбили… Сколько радости, сколько счастливых минут, какая победа над мелким, злым и жестоким! А красота! Красота во всем – даже в некрасивом! Вот еще он говорил: нельзя не любить искусство, потому что оно учит находить красоту во всем! Нарисует художник грязную улицу, опишет поэт страдание, и это красиво, и радостно, и любишь все это. Ах, я не умею говорить, как он, милый, говорил! И как я его любила!
Она говорила все восторженней и восторженней и при последних словах припала к коленям Накатовой, охватив руками ее стан.
– Кто же он был такой? – спросила, помолчав, Накатова.
– Столяр. Он давно был к нам сослан по политическому процессу, да так и остался у нас в городе. В тюрьме и на каторге он научился столярничать, а до ссылки он саперным офицером был. Вот в прошлом году он умер, так светло, радостно умер, что я ни жалеть, ни плакать о нем не смею, а его так любила! Больше всех на свете, и вот теперь эту огромную любовь могу всем дать, со всеми поделиться, все приходите! Она как огонь – сколько ни бери, все будет столько же!
Таля взмахнула широко руками и засмеялась счастливым смехом.
– Если мы подружимся, я вам много, много расскажу, – прибавила она. – Вам не скучно меня слушать?
– Нет, нет, Таля, мне не скучно, – поспешно сказала Накатова, сжимая руку девушки.
Она глубоко задумалась и неподвижным взглядом смотрела в окно, где на небе, слабо освещенном заревом города, темными силуэтами выделялись контуры Исаакия.
Таля тоже сидела молча, опять положив голову на колени Екатерины Антоновны. Шаги и голоса в коридоре заставили вздрогнуть Накатову, она спохватилась, что уже шестой час, пора домой, что к обеду у нее гости и Лопатов. Она заторопилась.
Таля, помогая ей одеваться, весело болтала:
– А я сегодня во французский театр пойду! Мне одна барышня уступила билет на галерею. Мирончик очень любит, когда я бываю в театре, я ему потом все в лицах разыгрываю. Наверное, увижу самые модные туалеты и сестре напишу, моя сестра страшно туалеты любит… Теперь платья носят с такими коротенькими кринолинчиками. Мне на журнале показалось безобразным, а вправду оказалось очень красиво. У вас есть платье с кринолинчиком? Ах, вы мне покажите, когда я к вам приду, и вы приходите скорей ко мне. Что? Обедать? Вот славно, я давно как следует не обедала… А у вас кринолинчик чем обшит? Очень красиво, когда обшивать мехом, – болтала она, перегнувшись через перила, пока Накатова спускалась с лестницы.
– Сохрани вас Господь, – вдруг неожиданно заключила Таля и, перекрестив широким крестом Накатову, скрылась.
Лопатов за обедом был в довольно скверном настроении духа, и Екатерину Антоновну это расстраивало. Ей захотелось загладить утреннюю ссору, которой она приписывала его расположение духа.
Она так этим волновалась, что едва могла исполнять свою роль внимательной и любезной хозяйки.
Едва гости разошлись, она опустилась на колени перед Лопатовым и заговорила ласково:
– Простите меня, Николенька, я сознаю, что была несносна. Не все ли равно, какие будут портьеры.
– Полно, Китти, – засмеялся он, – хорошенькая женщина должна иметь капризы, это так естественно.
– Нет, нет, не то… не говорите так! Я огорчена тем, что наш спор имел вид ссоры из-за такого пустяка.
Она обняла его и прижалась лицом к его груди.
– Не будем об этом вспоминать! – весело сказал он. – Если вы подумаете хорошенько, вы увидите, что вишневый цвет гораздо красивее и оживит комнату.
– Да, да, – шептала она, еще тесней прижимаясь к его груди. Она чувствовала, что ее любовь охватывает ее все сильнее и сильнее, что счастливые радостные слезы подступают к горлу от сознания, что он здесь, с ней, любит ее. – Я вас так люблю, Николенька, – прошептала она.
– Так, значит, мы решили сделать портьеры вишневые… Я сейчас позвоню обойщику по телефону. Я знал, что вы сами, подумав, это поймете.
Слезы Накатовой как-то остановились в горле, под своей пылающей щекой она сразу почувствовала жесткое сукно его сюртука.
Она шевельнулась, подняла голову, взглянула ему в лицо, потом поднялась и тихо сказала:
– Да, позвоните. Мне все равно.
Пока он вел разговор с обойщиком, она медленно ходила из угла в угол, твердя про себя: «Ну вишневые – так вишневые».
Лопатов ушел рано, ему нужно было ехать на какой-то товарищеский ужин.
Накатова всегда чувствовала пустоту, когда он уходил, особенно по вечерам ей хотелось, чтобы он был тут, с нею. Ее огорчало, что, собственно говоря, он мало уделяет ей времени.
Он бы мог меньше бывать со своими товарищами: ведь товарищи не могут обижаться на то, что он не принимает участия в их пирушках, они знают, что он жених.
Она думала это, сидя в уголку дивана, поджав ноги и устремив глаза в пылающий камин.
От камина по комнате ходили тени, и красный круг на паркете то темнел, то ширился и светлел. В этом освещении было что-то уютное и в то же время тревожное.
Отчего он не остался? Товарищеский ужин затянется до утра, он мог бы посидеть с ней хоть до двух часов и не опоздать. Посидеть вот тут, у камина, в этой милой комнате и тихо, тихо она бы говорила ему о своей любви.
Накатова опустила голову на подушку и закрыла глаза.
Отчего ласки его так сдержанны? Отчего он ни разу не забылся, не потерял голову от ее поцелуев.
Она всегда возмущалась, когда ее поклонники позволяли себе хоть одно слишком страстное слово, но ему она дает право! Ведь их любовь прочная, это не флирт, не ухаживание, не интрижка – это любовь.
– Моя любовь не нуждается в словах. Настоящая любовь «молчалива», – сказал он ей, но неужели ее любовь не настоящая? Ведь ей постоянно хочется говорить ему о ней, ей хочется давать ласковые названия… Ей хочется настоящих (не «почтительных») поцелуев. Пусть он дерзко и грубо обнимет ее – она простит ему это.
Перед закрытыми глазами Накатовой плывут зеленые пятна, в горле сворачивается комок слез, вот-вот она сейчас заплачет.
В дверь слышен стук.
«Неужели вернулся? Милый!»
Но появился Семен.
– Георгий Владимирович спрашивают, не слишком ли поздно и примет ли его барыня, – почтительно докладывает он.
– Просите, – говорит она равнодушно. Пусть идет кузен Жорж, – все же лучше сидеть с ним, чем одной и рыться в своей душе, тем более что вот уже больше месяца, с самой своей помолвки, она не видела кузена Жоржа.
Жорж входит, спрашивает о ее здоровье, извиняется за позднее посещение, целует у нее руку и садится у камина.
– Ну, расскажите что-нибудь, Жоржик, – говорит она лениво, – расскажите, что делается в балете? Ах да, теперь, я слышала, у вас с балетом покончено и на очереди оперетка… Я слышала, что вчера ставили какую-то новинку, вы ее видели?
– Да, видел, – отвечает Жорж.
– Стоит посмотреть или не стоит?
– Как вам сказать… я не знаю… по-моему, не стоит. Впрочем, она, кажется, имела успех.
Странный тон, которым говорит Жорж, заставляет Екатерину Антоновну пристальней вглядеться, и она замечает какую-то странную перемену в лице кузена.
Пробор его так же безукоризнен, лицо так же гладко выбрито, монокль плотно держится в глазу, и Накатова не может уловить, в чем состоит эта перемена,
Не то он похудел и осунулся, не то похорошел.
Сидел он спокойно, заложив ногу на ногу и сложив на колене руки, пристально смотрел в огонь.
– Что с вами, Жорж? – спросила она невольно.
Жорж вздрогнул и вдруг не свойственным ему тоном тихой жалобы, заговорил:
– Скучно, кузина, все как-то надоело – даже противно, словно все окружающее видишь в другие очки, и все не нравится… Хорошо бы было что-то изменить в себе и в других. А что, неизвестно.
– Бедный Жорж, у вас сплин, – засмеялась она.
– Нет, это не сплин… Вы знаете, Катюша, я вас очень люблю и ужасно рад, что вы не вышли за меня замуж, когда я вам делал предложение.
– Почему? – спросила она, немного удивленная.
– Можно мне говорить с вами откровенно, вы не обидитесь?
– Конечно, нет.
– Вы, Катюша, очень красивая женщина, но как женщина вы мне никогда не нравились.
– Так зачем же вы столько лет изображали влюбленного? – спросила она, вдруг странно задетая.
– Зачем? Я вам этого не скажу, очень уж чувства и мысли мои некрасивы – мне даже вспоминать о них стыдно… Вообще, все чувства, все мои мысли всегда были либо пошлы и глупы, либо скверны, но вчера со мною случилась странная вещь, и вдруг стало тошно смотреть на себя самого и на окружающее, – понимаете, физически тошно.
Жорж неожиданно хрустнул пальцами.
– Что же случилось с вами?
– Собственно говоря, ничего не случилось, но все это… Катюша, милая, ведь вы меня знаете как свои пять пальцев, мне не надо ломаться перед вами и что-то разыгрывать. Мне вот захотелось прийти к вам и поговорить по душе. Все равно вы уж знаете меня. Как человеку с каким-нибудь физическим недостатком легче раздеваться перед людьми, которые все равно уж об этом знают.
Он встал, постоял несколько минут, словно собираясь с духом, потом опять опустился в кресло. Екатерина Антоновна смотрела на него, улыбалась, и насмешливо спросила:
– Что это еще за новый жанр? Самоунижение?
– Не думайте, Катюша, что я опять ломаюсь, и мне, право, не до этого. Вы умная женщина, вы всегда меня понимали, ценили по заслугам, т. е. не особенно высоко, так поймите меня и теперь. Вы меня всегда насквозь видели и всегда осуждали, и не любили, а я вас всегда очень любил – даже, пожалуй, больше всех на свете.
Его голос вздрогнул и зазвенел.
– Постойте, Жорж, но вы только что мне сказали, что я вам не нравлюсь, значит, вы меня не можете любить.
– Ах, вы о «такой» любви говорите, – вдруг протянул Жорж.
Накатова даже вздрогнула, ей воспомнилась Таля. Та же фраза, сказанная тем же тоном.
– Да разве вы не знаете, что я жениться на вас хотел, чтобы иметь деньги и чтобы вот эту самую «такую» любовь на эти деньги покупать! Вот… вот вам!
Он вдруг упал головой на ручку кресла и, закрыв лицо руками,заплакал.
Накатова приподнялась с дивана.
Ей хотелось закричать от оскорбления, затопать ногами, выгнать Жоржа, так он был ей гадок в эту минуту.
– Господи, если бы вы знали, как я себе гадок и противен теперь, – заговорил он, вытирая глаза, – и так я вас люблю, Катюша. Верьте мне, что никого у меня нет ближе и дороже вас, и, если вот теперь вы меня не оттолкнете и выслушаете, вы увидите, что я говорю не пустые слова. Позвольте мне говорить, Катюша.
– Ну говорите, – с трудом пересиливая себя, сказала Накатова.
– Вы знаете, Катюша, сами, каково было мое воспитание, и знаете, каков мой характер? Я тряпка, а в доме моих родителей как-то все было устроено, чтобы я вырос таким, каков я есть. Я не виню родителей, не могу сваливать моих недостатков на воспитание. Ведь брат Степа вышел другим человеком, настоящим. Ведь ушел он от нас. Степу так ругали, осуждали, отец его знать не хотел, а он все перетерпел и пошел своей дорогой.
– А, кстати, где Степа? – неожиданно спросила Накатова.
– После отбытия наказания он уехал за границу и живет теперь в Париже – нашел занятия, работает и счастлив. А ведь мы воспитывались одинаково, даже учились в одном и том же училище. И он был прежде такой же пшют, как и я, а потом вдруг сразу изменился. Я его раз спросил, что произошло с ним, отчего он вдруг перестал быть прежним, а он мне отвечает словами Пушкина:
Он имел одно виденье,
Непостижное уму.
А когда я стал приставать к нему и убеждать, что он делает глупости, что он просто дурит, он сказал: «В жизни человека бывает иногда минута, когда он почувствует и ясно увидит что-то иное, лучшее, чем окружающая его обстановка. Представь, что, блуждая по грязным улицам скверного городишка, ты вдруг увидишь великолепный храм, белый».
– С колоннадой? – вдруг вскрикнула Екатерина Антоновна.
– Что, Катюша?
– Нет, нет ничего. Рассказывайте дальше, – слегка смутилась она.
– Вот он и говорит: «Один пройдет мимо и внимания не обратит, а другой уже не захочет жить в грязном городишке и будет добиваться, чтобы хоть на ступеньке храма примоститься с надеждой, что и до дверей доберешься в конце концов».
– А отчего вы, Жорж, вдруг вспомнили об этом? – спросила Накатова, пристально вглядываясь в его лицо, теперь едва видное. Камин догорал, и только угли еще краснели, и капризные огоньки, вздрагивая, пробегали по ним.
– Вспомнил я об этом оттого, что со мной случилось то же.
– Вы тоже видели белую колоннаду? – странно равнодушно спросила она.
– Нет, конечно, никаких видений у меня не было, но была у меня встреча… очень обыкновенная, очень незначительная сама по себе и… и… вдруг стало… стало страшно. Страшно за то, что я ползу, ведомый каким-то роком, словно я не человек, а один моллюск, знаете, есть моллюски «низких глубин». Вот это чувство какого-то луча, прорвавшего мрак, я первый раз испытал в Неаполитанском городском аквариуме. Я стоял и смотрел через стекло, как эти твари «низких глубин» живут. Ползет какой-нибудь медленно, словно непроизвольно, ухватит другого, случайно подвернувшегося, и, пока отправляет его в желудок, на него самого случайно наползает третий и проглатывает тоже случайно, «по не зависящим от него самого причинам». И вдруг моя гордость возмутилась! Я не хотел, не мог перенести мысли, что я игрушка какой-то слепой силы – случая. Я разумное существо! Я хочу знать, что есть что-то и кто-то, к кому я могу обратиться и кто может мне «дать»! И этот кто-то, это что-то так огромно, так бесконечно прекрасно и светло, что быть подобным ему, хотя бы в миниатюре, удовлетворило бы самую огромную гордость. А то я – царь, я – высшее существо вдруг «случайно» падаю, идя гулять, в выгребную яму и тону в отбросах! Нет, я вижу, что, как ни величайся человек и ни называй себя сверхчеловеком и богом, ничего не поможет: упал кирпич, наехал трамвай, и от этого земного бога или сверхчеловека клякса осталась. Нет, мне этого земного сверхчеловека не надо! Я хочу свободы действия! Я хочу, хочу не слепого рока, я хочу знать, что есть сила, есть слово, что всегда придет мне на помощь, и с ними я могу изменить даже законы природы! И я призывал эту силу, хотел слиться с ней – молил ее прорвать эту черную мглу, эту «большую глубину», давящую меня.
– Ну и что же?
– Это я думал, стоя перед стеклом аквариума, пока остальная компания осматривала другие отделения. В это время я слышу голос рядом со мной, говорящий по-русски: «Хорошо, если бы вы не забыли то, о чем сейчас думали». Я обернулся. Рядом со мной стояла седая дама с худощавым господином. Фраза эта, конечно, не относилась ко мне. В это время компания моя вернулась, мы поехали на Позилипо, я напился – и все пошло по-старому. Это случилось года четыре тому назад. Спустя два года умерла мама. Я был очень огорчен. Вы, Катюша, как и все другие, не верили, что я огорчен, потому что вечером, после первой панихиды, меня видели в кабинете у «Медведя» с Mimi Dragond… Я понимаю, что на вид это было возмутительно, но, уверяю вас, я был в таком настроении, что боялся остаться один. Мне не под силу было притворяться, а вы знаете сами, как перед друзьями и знакомыми приходится притворяться… А тут я ревел сколько хотел, а Mimi плакала и рассказала мне о смерти ее pauvre mère, une charmante femme, une comtesse[6]6
Бедная мать, очаровательная женщина, графиня… (фр.).
[Закрыть]… Конечно, она все врала, и мать ее жива и служит zouvreouse'ой[7]7
Билетерша (фр.).
[Закрыть] в «Одеоне»… Но она плакала со мной, и мне было легче, – не осмеяла моих слез, как бы сделали другие…
– Ну дальше.
– В такое состояние я пришел, потому что, стоя у гроба матери, вдруг вспомнил, как я ей вечно лгал, вечно ее обманывал, как даже иногда издевался над ней за глаза… И пришла мне мысль, что я даже не человек, а какое-то низшее животное, которое живет только инстинктами тела, с примесью глупого, пошлого тщеславия… Думая это, поднимаю глаза и вижу по ту сторону гроба мою неаполитанскую даму. Она прямо и упорно смотрит на меня – глаза у нее светлые и ясные… После панихиды меня задержали разговорами родные. Народу было много – и я так и не узнал, кто эта дама. Опять я закружился, опять все забыл, и мои эти мысли мне самому смешными казались. Но вчера я получил письмо от Степы, он ведь мне изредка пишет, и опять мне стало противно все окружающее, до такой степени противно, что я, сидя в театре на этой новой оперетке, вдруг взмолился кому-то: да неужели невозможно мне из этой жизни вылезти, неужели у меня столько друзей и приятелей, и не к кому мне обратиться в моем духовном смятении! Смотрю, а в третьем ряду сидит моя дама. Ну, на этот раз я ее не упустил, проследил, когда она вышла, и узнал, кто она такая.
– Кто же она? – нетерпеливо спросила Накатова.
– Какая-то Ксения Нестеровна Райнер, приехала она к своей дочери, г-же Полкановой. Эта Полканова была знакома с моей матерью, так что нет ничего удивительного, что г-жа Райнер пришла на панихиду.
– Да вы не влюбились ли в нее? – принужденно рассмеялась Екатерина Антоновна.
– Не надо… Не надо так говорить, Катя! – жалобно сморщился он. – Мне прямо больно говорить так об этой женщине, да и невозможно, она совсем седая.
– Ну опишите мне ее.
– Высокая, худощавая. Лицо круглое, румяное, одета без претензий, скорей по-старушечьи, но очень элегантно… на шее соболье боа… волосы совсем белые… глаза светлые… Что еще… не знаю…
– Что же вы думаете делать? – спросила Накатова после долгого молчания.
– Я поеду к Степе в Париж! – решительно произнес он.
– Счастливый!
Он удивленно посмотрел на нее. Она словно спохватилась:
– Я очень люблю Париж и очень сожалею, что в этом году весной мне не удастся побывать там, у Nicolas нет отпуска.
Камин потух, и они только теперь заметили, что сидят в темноте.
Она встала, пошарив, нашла кнопку, и комната осветилась.
Этот свет произвел странное впечатление на обоих, как будто им стало стыдно предыдущего разговора.
У Накатовой явилось даже ощущение, что в темной комнате было светло, а теперь наступил мрак.
– Вы знаете, что Николай Платонович очень занят. Мы даже не знаем, поедем ли мы в Холмистое.
– Да, да, конечно, – вяло произнес Жорж, вставляя монокль в глаз. – Что это у вас, кузина, новая статуэтка? Не дурна!
Он взял с камина бронзовую статуэтку Меркурия и вертел ее в руках.
– Да. Говорят, что это эпохи Renaissance[8]8
Ренессанс, эпоха Возрождения (фр.).
[Закрыть].
– Помоложе, много помоложе, кузина, но вещица очень недурна. Дорого заплатили?
– Это подарок Николая Платоновича.
– А-а. Ну, до свидания, кузина, не буду вам больше надоедать, я думаю, вам пора спать.
Она его не удерживала.
Ее смущало то, что у нее на миг проснулось к этому Жоржу чувство нежности, которое она испытывала когда-то в детстве, когда, бывало, взобравшись на дерево, она передавала куски хлеба с маслом оставленному без обеда маленькому мальчику в матросском костюме.