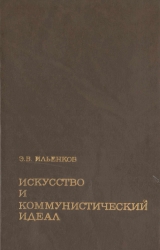
Текст книги "Искусство и коммунистический идеал"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Конечно, вы всегда можете сделать финт, сказав, что математики, рассуждая об «идеальных объектах», на самом деле неведомо для себя «имеют в виду» нечто совсем иное, нежели философия, а именно «материальное», объективный мир естественно-природных и общественно-исторических явлений, только выражаются при этом неточно. Но это, разумеется, только финт, и на самом деле вы еще глубже увязнете в трудностях. Так просто этот вопрос не решается, и вам придется объяснять математикам, что же «на самом деле» скрывается за этим названием.
Если вы ответите им на это, что, скажем, «топологическая структура» есть на самом деле объект вполне материальный, а не идеальный, как они привыкли думать, то вы рискуете вызвать недоумение любого сведущего в математике человека. Вам укажут, что топологическая структура (и если бы только она одна!) есть всё же математический образ, а никак не сама материальная действительность, и добавят, что уж кому-кому, а философу следовало бы чуть тоньше разбираться в различиях между материальным объектом и математической конструкцией.
И математики будут в этом пункте совершенно правы, так как они хорошо знают, что в мире чувственно созерцаемых явлений, в мире физических фактов «топологическую структуру» искать бесполезно. Столь же хорошо они понимают, что объявить ту же топологическую структуру исключительно «психическим» явлением (как это склонен делать субъективный идеализм, в частности «методологический солипсизм» Рудольфа Карнапа и его последователей) – значит совершить не менее непростительный грех, значит отказать математической науке, а в конце концов и всему математическому естествознанию в объективном и необходимом значении их построений.
И тогда Карл Поппер скажет, что мир «идеальных объектов» современной науки – это и не «физический мир» и не «психический мир», а некоторый явно «третий мир», существующий каким-то загадочным образом наряду с двумя перечисленными и от них обоих явно отличающийся. От мира физических явлений, наблюдаемых в синхрофазотронах, осциллографах и прочих хитроумных приборах, – своей явной «бестелесностью» и «интеллигибельностью» (то есть своим чисто умопостигаемым характером), а от мира психических явлений – своей столь же очевидной собственной организованностью и независимостью от психики как отдельного лица, так и коллектива таких лиц, то есть своей очень своеобразной объективностью и необходимостью.
И такое объяснение наверняка покажется представителю современного математического естествознания куда более убедительным и приемлемым, нежели объяснение, исходящее из позиции доморощенного – стихийного и чуждого диалектике – материализма.
Для недиалектического, для додиалектического материализма ситуация тут получается действительно безвыходная и коварная. И единственная философская позиция, способная защитить в этом случае честь материализма, заключается в том, чтобы решительно отказаться от старого – метафизического – понимания «идеальности» и столь же решительно принять то ее диалектико-материалистическое толкование, которое было разработано Карлом Марксом. Вначале на пути критически-материалистического преобразования гегелевской диалектики, исходившей из допущения «идеальности» самих по себе явлений внешнего мира, вне и до человека с его головой, а затем еще более конкретно – в ходе позитивного решения проблемы «формы стоимости» и доказательства ее принципиального отличия от самой стоимости – этого типичнейшего случая противоположности между «формой чисто идеальной» и ее собственным материальным прообразом.
Этим и интересен, этим и актуален по сей день «Капитал», где эта проблема решена блистательно-диалектически и притом вполне конкретно – и в плане общефилософском, и в плане специально-экономическом, и в плане грамотно-философского различения между «идеальной формой» выражения реального экономического факта и самим этим реальным, материальным, фактом.
Вполне рациональное, очищенное от всякой мистики понимание «идеального», как «идеальной формы» реального, материального по своей субстанции мира, в общей форме было достигнуто К. Марксом как раз в ходе конструктивно-критического преодоления гегелевской концепции идеальности, а в частной форме – как решение вопроса о форме стоимости через критику политической экономии, то есть классической трудовой теории стоимости. Идеальность формы стоимости – типичнейший и характернейший случай идеальности вообще, и поэтому на марксовской концепции формы стоимости могут быть конкретно продемонстрированы все преимущества диалектико-материалистического взгляда на идеальность и на «идеальное».
Форма стоимости понимается в «Капитале» именно как овеществленная (представленная или «представшая» как вещь, как отношение вещей) форма общественно-человеческой жизнедеятельности. Непосредственно она и предстает перед нами как телесное, физически осязаемое «воплощение» чего-то «иного», и этим «иным» не может быть какое-то иное физически осязаемое «тело», другая «вещь», или «вещество», или субстанция, понимаемая как вещество, как некоторая физически осязаемая материя.
Единственной альтернативой тут оказывается допущение некоторой бестелесной субстанции, некоторого «невещественного вещества», и классическая философия подсказывала тут достаточно логическое решение: такой странной «субстанцией» может быть только деятельность, «чистая деятельность», «чистая формообразующая активность». Но в сфере экономической деятельности эта субстанция, естественно, расшифровывалась как труд, как физический труд человека, преобразующий физическое тело природы, а «стоимость» – как осуществленный труд, как «воплощенный» акт труда.
Поэтому именно в политической экономии научная мысль и сделала первый решительный шаг к разгадке существа «идеальности». И уже Смит и Рикардо – люди, достаточно от философии далекие, – ясно разглядели «субстанцию» загадочных стоимостных определений в труде.
Однако понятая со стороны «субстанции» стоимость так и осталась загадочной со стороны ее «формы», классическая трудовая теория стоимости так и не смогла уразуметь, почему эта субстанция выражается именно так, а не как-нибудь иначе? Классическую буржуазную традицию этот вопрос, впрочем, не очень-то и интересовал, и Маркс ясно показал причину ее равнодушия к этой теме. Так или иначе, а «дедукция», то есть теоретическое выведение формы стоимости из ее «субстанции», для буржуазной науки так и осталось непосильной задачей. В итоге по-прежнему загадочной и мистической осталась тут и идеальность этой формы.
Поскольку же теоретики упирались, можно сказать, носом в таинственные – физически неосязаемые – свойства этой формы, постольку они вновь и вновь возвращались на проторенные пути толкования «идеальности», отсюда и представление о существовании неких «идеальных атомов стоимости», весьма напоминавших лейбницевские монады, невещественные и непротяженные кванты «духовной субстанции».
Марксу, как экономисту, здесь и помогло то обстоятельство, что он не был столь наивен в философии, как Смит и Рикардо.
Увидев в фихтеанско-гегелевской концепции «идеальности» как «чистой идеальности» абстрактно-мистифицирующее описание реального, физически осязаемого труда общественного человека, процесса физического преобразования физической природы, совершаемого физическим же телом человека, он и получил теоретический ключ к разгадке идеальности формы стоимости.
Стоимость вещи предстала как овеществленный труд человека, и, стало быть, форма стоимости оказалась не чем иным, как овеществленной формой этого труда, формой человеческой жизнедеятельности, представшей перед человеком формой преобразованной ею вещи.
И тот факт, что это вовсе не форма вещи самой по себе (то есть вещи в ее естественно-природной определенности), а воплощенная в вещество природы форма общественно-человеческого труда или формообразующей деятельности общественного человека, – этот факт и заключал в себе разгадку «идеальности». Вполне рациональную, фактическую разгадку, материалистическую интерпретацию всех мистически-загадочных определений стоимостной формы как идеальной формы.
Идеальная форма вещи – это не форма вещи «в себе», а положенная как форма вещи, форма общественно-человеческой жизнедеятельности. Это форма человеческой жизнедеятельности, но существующая вне этой жизнедеятельности, а именно как форма внешней вещи. И наоборот, это форма вещи, но вне этой вещи, и именно как форма жизнедеятельности человека, в человеке, «внутри человека».
А поскольку в развитых ее стадиях жизнедеятельность человека имеет всегда целесообразный, то есть сознательно-волевой, характер, то идеальность и предстает как форма сознания и воли – как закон, управляющий сознанием и волей человека, как объективно-принудительная схема сознательно-волевой деятельности. Поэтому-то так легко и оказывается изобразить «идеальное» исключительно как форму сознания и самосознания, исключительно как «трансцендентальную» схему психики и реализующей эту схему воли.
А если так, то платоновско-гегелевская концепция «идеальности» начинает казаться только недозволительной проекцией форм сознания и воли (формы мышления) на «внешний мир», а «критика» Гегеля сводится к упрекам его в том, что он «онтологизировал», «гипостазировал» (то есть истолковал как определения вне сознания индивида существующего мира) чисто субъективные формы человеческой психики. Совершенно логично получается отсюда, что все категории мышления («количество», «мера», «необходимость», «сущность» и проч. и проч.) суть только «идеальные», то бишь только трансцендентально-психологические, схемы деятельности субъекта – и ничего более.
У Маркса, разумеется, была совсем иная концепция, согласно которой все без исключения логические категории суть только идеализированные (то есть превратившиеся в формы человеческой жизнедеятельности, прежде всего внешней, чувственно-предметной, а затем и «духовной») всеобщие формы существования объективной реальности, внешнего мира.
И никак не проекции форм психического мира на мир «физический». Концепция, как нетрудно усмотреть, как раз обратная в своей последовательности «теоретической дедукции».
Такое понимание «идеальности» основывается у Маркса прежде всего на материалистическом понимании специфики общественного – человеческого – отношения к миру (и его принципиального отличия от отношений животного к миру, от чисто биологического отношения): «Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания» [24]24
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 42, с. 93.
[Закрыть].
Это значит: деятельность животного направлена только на внешние предметы. Деятельность же человека – не только на них, а и на свои собственные формы жизнедеятельности. Это деятельность, направленная на самое себя – то, что немецкая классическая философия изобразила как специфическую особенность «духа», как «рефлексию» как «самосознание».
В процитированном рассуждении Маркса – и именно потому, что оно взято из ранних произведений, – не подчеркнута еще с достаточной остротой принципиально важная деталь, которая именно и отличает его позицию от фихтевско-гегелевского понимания «рефлексии» (отношения к самому себе как к «другому»). В силу этого цитированную мысль можно прочитать и так, что человек именно потому обретает новый, второй план жизнедеятельности, что у него имеется сознание и воля, которых не было у животного.
Между тем дело-то обстоит как раз наоборот: сознание и воля проявляются у человека только потому, что у человека уже имеется особый, отсутствующий в животном мире, план жизнедеятельности, деятельность, направленная на усвоение специфически общественных, чисто социальных по своему происхождению и существу и потому никак не закодированных в нем биологически форм жизнедеятельности.
Родившееся животное имеет перед собой внешний мир. Формы же жизнедеятельности врождены ему вместе с морфологией его тела, и ему не требуется совершать особую деятельность их «присвоения», оно нуждается лишь в упражнении закодированных в нем форм поведения.
Развитие состоит единственно в развитии инстинктов, врожденных ему реакций на вещи и ситуации. Среда лишь корректирует это развитие.
Совсем иное – человек. Родившееся дитя человеческое имеет перед собой, вне себя не только внешний мир, но и колоссально сложную систему культуры, требующую от него таких «способов поведения», которые генетически (морфологически) в его теле вообще никак не «закодированы», вообще никак не представлены. Здесь речь идет не о корректировании готовых схем поведения, а об усвоении таких способов жизнедеятельности, которые не имеют вообще никакого отношения к биологически необходимым формам реакции его организма на вещи и ситуации.
Это относится даже к тем «поведенческим актам», которые непосредственно связаны с удовлетворением биологически врожденных потребностей: потребность в пище биологически закодирована в нем, но необходимость принимать пищу с помощью тарелки и ложки, ножа и вилки, притом сидя на стуле за столом и т. д. и т. п., врождена ему так же мало, как и синтаксические формы того языка, на котором он учится говорить. По отношению к морфологии тела человека это такие же чистые и такие же внешние условности, как и правила игры в шахматы.
Это – чистые формы внешнего (вне индивидуального тела существующего) мира, которые он только еще должен превратить в формы своей индивидуальной жизнедеятельности, в схемы и способы своей деятельности, чтобы стать человеком.
Вот этот-то мир форм общественно-человеческой жизнедеятельности и противостоит родившемуся человеку (точнее – биологическому организму вида homo sapiens) как та ближайшая объективность, к которой он вынужден приспосабливать всё свое «поведение», все отправления своего органического тела, тот объект, на присвоение которого взрослые и направляют всю его деятельность.
Наличие этого специфически человеческого объекта, мира вещей, созданных человеком для человека, стало быть – вещей, формы которых суть овеществленные формы человеческой деятельности (труда), а вовсе не от природы свойственные им формы, и есть условие сознания и воли. И никак не наоборот, не сознание и воля – условие и предпосылка этого своеобразного объекта, тем более – его «причина».
Сознание и воля, возникающие в психике человеческого индивида, – это прямое следствие того факта, что ему противостоит (в качестве объекта его жизнедеятельности) не природа как таковая, а природа, преобразованная трудом предшествующих поколений, оформленная человеческим трудом, природа в формах человеческой жизнедеятельности.
Сознание и воля делаются необходимыми формами психики там, и только там, где индивид оказывается вынужден управлять своим собственным органическим телом, руководствуясь при этом не органическими (природными) потребностями этого тела, а требованиями, предъявляемыми ему извне, «правилами», принятыми в том обществе, в котором он родился. Только в этих условиях индивид и вынужден отличать «себя» от своего собственного органического тела. От рождения, через «гены», эти правила ему никак не передаются, они задаются ему извне, диктуются ему культурой, а не природой.
Только тут-то и появляется неведомое животному отношение к самому себе как к единичному представителю «другого». Человеческий индивид вынужден держать свои собственные действия под контролем «правил» и «схем», которые он должен усвоить как особый предмет, чтобы превратить в правила и схемы жизнедеятельности своего собственного тела.
Вначале они противостоят ему именно как внешний предмет, как формы и отношения вещей, созданные и воссоздаваемые человеческим трудом.
Усваивая предметы природы в формах, созданных и воссоздаваемых трудом людей, индивид впервые и становится человеком, становится представителем «рода», в то время как до этого он был лишь представителем биологического вида.
Наличие этого чисто социального наследования форм жизнедеятельности, то есть наследования таких ее форм, которые ни в коем случае не передаются через гены, через морфологию органического тела, а только через воспитание, только через приобщение к наличной культуре, только через процесс, в ходе которого органическое тело индивида превращается в представителя, в полномочного представителя рода (то есть всей конкретной совокупности людей, связанных узами общественных отношений), – наличие этого специфического отношения только и вызывает к жизни и сознание и волю как специфически человеческие формы психики.
Сознание, собственно, только и возникает там, где индивид оказывается вынужден смотреть на самого себя как бы со стороны, как бы глазами другого человека, глазами всех других людей, – только там, где он вынужден соразмерять свои индивидуальные действия с действиями другого человека, то есть только в рамках совместно осуществляемой жизнедеятельности. Только тут, собственно, требуется и воля, как умение насильственно подчинять свои собственные влечения и побуждения некоторому закону, некоторому требованию, диктуемому вовсе не индивидуальной органикой собственного тела, а организацией «коллективного тела», коллектива, завязавшегося вокруг некоторого общего дела.
Здесь-то, и только здесь, и возникает, собственно, идеальный план жизнедеятельности, неведомый животному. Сознание и воля – не «причина» появления этого нового плана отношений индивида к внешнему миру, а только психические формы его выражения, иными словами, его следствие. Причем не случайная, а необходимая форма его обнаружения, его выражения, его осуществления.
В более пространное рассмотрение сознания и воли (и их отношения к «идеальности») мы входить не будем, тут уже начинается специальная область психологии. Проблема же «идеальности» в ее общей форме, одинаково значимой и для психологии, и для лингвистики, для любой социально-исторической дисциплины, выходит, естественно, за пределы психологии как таковой и должна рассматриваться независимо от подробностей чисто психологического (как и политико-экономического) плана.
Психология вынуждена исходить из того обстоятельства, что между индивидуальным сознанием и объективной реальностью находится такое «опосредствующее звено», как исторически сложившаяся культура, выступающая как предпосылка и условие индивидуальной психики. Это – и экономические, и правовые формы отношений между людьми, и сложившиеся формы быта, и формы языка и т. д. и т. п. Для индивидуальной психики (для сознания и воли индивида) эта культура непосредственно выступает как «система значений», «овеществленных» и противостоящих ей вполне предметно, как «непсихологическая», как внепсихологическая реальность.
Это обстоятельство в его фундаментальном значении для психологии специально подчеркивает А.Н. Леонтьев: «Итак, значения преломляют мир в сознании человека. Хотя носителем значений является язык, но язык не демиург значений. За языковыми значениями скрываются общественно выработанные способы (операции) действия, в процессе которых люди изменяют и познают объективную реальность. Иначе говоря, в значениях представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной общественной практикой. Поэтому значения сами по себе, то есть в абстракции от их функционирования в индивидуальном сознании, столь же не “психологичны”, как и та общественно познанная реальность, которая лежит за ними» [25]25
Леонтьев А.Н. Деятельность и сознание /Вопросы философии, 12, 1972, с. 134.
[Закрыть].
Поэтому-то превращение проблемы «идеальности» в психологическую (или, что еще хуже, психофизиологическую) проблему прямиком заводит материалистическую науку в тупик, ибо тайну «идеальности» хотят в этом случае раскрыть совсем не там, где она в действительности и возникает и разрешается, не в пространстве, где разыгрывается история реальных взаимоотношений между общественным человеком и природой, а внутри черепа, в материальных отношениях между нейронами. А это такая же нелепая затея, как и намерение обнаружить форму стоимости путем химического анализа золота или банкнот, в которых эта форма представлена взору и осязанию. Тот же самый фетишизм, то же самое приписывание естественно-природному веществу свойств, которые на самом деле принадлежат вовсе не ему как таковому, а лишь представленным в нем формам общественно-человеческого труда, формам общественных отношений человека к человеку.
А ведь фетишизм – это и есть самая грубая, самая первобытная и дикая форма идеализма, наделяющего (в фантазии, разумеется) всеми атрибутами «духа» кусок бревна, украшенный ракушками и перьями. Та самая грубая форма идеализма, которая ничем не отличается от поведения животного, пытающегося облизывать и кусать электрическую лампочку, служащую для него (с легкой руки экспериментатора) сигналом приема пищи. Для животного, как и для фетишиста, лампочка и бревно вовсе не «сигналы», не обозначения «чего-то другого», а самая что ни на есть физическая часть физической ситуации, непосредственно определяющей их поведение. Так и китайцы нещадно избивают слепленного из глины идола, если тот не желает ниспослать дождь на их поле.
Загадка и разгадка «идеализма» лежит именно тут, в особенностях психики, не умеющей различать в составе чувственно осязаемой ею, вне мозга существующей «достоверности» две принципиально разные, и даже противоположные, категории явлений – естественно-природные свойства вещей, с одной стороны, и те их свойства, коим они обязаны не природе, а общественно-человеческому труду, в этих вещах воплощенному, в этих вещах осуществленному и осуществляемому.
Это тот самый пункт, где непосредственно сливаются такие противоположности, как грубо наивный материализм и столь же грубо наивный идеализм, то есть происходит прямое отождествление материального с идеальным и наоборот, происходящее не от большого ума масштаба Платона и Гегеля, а как раз от недостатка этого ума, без раздумья принимающего всё то, что существует вне головы, вне психики, за «материальное», а «идеальным» именующего всё то, что находится «в голове», «в сознании».
Маркс именно так и понимает суть той путаницы, из которой так и не смогла найти выход буржуазная политическая экономия. В подготовительных рукописях к «Капиталу» он пишет: «Грубый материализм экономистов, рассматривающих общественные производственные отношения людей и определения, приобретаемые вещами, когда они подчинены этим отношениям, как природные свойства вещей, равнозначен столь же грубому идеализму и даже фетишизму, который приписывает вещам общественные отношения в качестве имманентных им определений и тем самым мистифицирует их» [26]26
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. II, с. 198.
[Закрыть].
Действительный, научный, а не грубый материализм в данном случае заключается вовсе не в том, чтобы объявлять «первичным» всё то, что находится вне мозга индивида, называя это «первичное» «материальным», а всё, что находится «в голове», – «вторичным» и «идеальным». Научный материализм состоит в умении проводить принципиальную границу в составе самих чувственно осязаемых, чувственно воспринимаемых «вещей» и «явлений», в умении там, а не где-нибудь видеть различие и противоположность «материального» и «идеального».
Именно такой материализм и обязывает понимать это различие не как понятное каждому обывателю различие между «реальными и воображаемыми талерами» (долларами, рублями или юанями), а как различие, лежащее куда глубже, а именно в самой природе общественно-человеческой жизнедеятельности, в ее принципиальных отличиях от жизнедеятельности как любого животного, так и от биологической жизнедеятельности своего собственного организма.
В состав «идеального» плана действительности входит только и исключительно только то, что и в самом человеке, и в той части природы, в которой он живет и действует, создано трудом. То, что ежедневно и ежечасно, с тех пор как существует человек, производится и воспроизводится его собственной, общественно-человеческой и потому целесообразной преобразующей деятельностью.
Поэтому-то говорить о наличии «идеального плана» у животного (как и у нецивилизованного, чисто биологически развитого, «человека») и не приходится, не отступая от строго установленного философией смысла этого слова. Поэтому-то при несомненном наличии у животного психики и даже, может быть, каких-то проблесков «сознания» (в которых очень трудно отказать очеловеченным собакам) ни о каком «идеальном» грамотной речи тут быть не может. Человек обретает «идеальный» план жизнедеятельности исключительно в ходе приобщения к исторически развившимся формам общественной жизнедеятельности, только вместе с социальным планом существования, только вместе с культурой. «Идеальность» и есть не что иное, как аспект культуры, как ее измерение, определенность, свойство. По отношению к психике (к психической деятельности мозга) это такой же объективный компонент, как горы и деревья, как луна и звездное небо, как процессы обмена веществ в собственном органическом теле индивида.
Потому-то, а не в силу «глупости идеалистов» люди (и вовсе не только и даже не столько философы) и путают «идеальное» с «материальным», то и дело принимая одно за другое. Философия же, даже платоновско-гегелевская, есть единственный путь к распутыванию этой наивной первобытно-обывательской путаницы, хотя обыватель-то как раз больше всех и кичится превосходством своего «трезвого ума» над «мистическими конструкциями Платона и Гегеля».
Идеализм – не плод недомыслия, а законный и естественный плод того мира, где «вещи обретают человеческие свойства, а люди опускаются до уровня вещественной силы…» [27]27
Лифшиц Мих. Карл Маркс. Искусство и общественный идеал. Москва, 1972, с. 130.
[Закрыть], где вещи наделяются «духом», а человеческие существа этого «духа» начисто лишаются. «“Товарный фетишизм” и все вытекающие из него на более конкретной стадии экономического анализа оттенки той же закономерности – нечто действительно существующее, продукт реальной исторической метаморфозы» [28]28
Там же.
[Закрыть], как точно формулирует в своей книге о Марксе Мих. Лифшиц. Объективная реальность «идеальных форм» – это не досужая выдумка злокозненных идеалистов, как то кажется псевдоматериалистам, знающим на одной стороне «внешний мир», а на другой – только «сознающий мозг» (или «сознание как свойство и функцию мозга»). Этот псевдоматериализм, при всех своих благих намерениях, обеими ногами стоит в той же самой мистической трясине фетишизма, что и его оппонент – принципиальный идеализм. Это тоже фетишизм, только уже не бревна, бронзового идола или «логоса», а фетишизм нервной ткани, фетишизм нейронов, аксонов и дезоксирибонуклеиновых кислот, которые заключают в себе на самом-то деле так же мало «идеального», как и любой валяющийся на дороге камень. Так же мало, как мало «стоимости» заключает в себе еще не отысканный алмаз, каким бы огромным и тяжелым он ни был.
Другое дело – мозг, отшлифованный и пересозданный трудом. Он-то только и становится органом, более того, полномочным представителем «идеальности», идеального плана жизнедеятельности, свойственного только человеку или подобному ему общественно производящему свою материальную жизнь существу. В этом и заключается действительный научный материализм, умеющий справиться с проблемой «идеального».
И когда Маркс определяет «идеальное» как «материальное», «пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней», то он имеет в виду именно человеческую голову, а не орган тела особи вида homo sapiens, растущий на шее этой особи по милости матушки-природы. Об этой разнице многие «материалисты» нередко как раз и забывают.
В голове же, понимаемой натуралистически (то есть так, как ее именно и рассматривает врач, анатом, биолог, физиолог высшей нервной деятельности, биохимик и др.), никакого «идеального» нет, не было и никогда не будет. Что там есть – так это единственно материальные «механизмы», своей сложнейшей динамикой обеспечивающие деятельность человека вообще, и в том числе деятельность в идеальном плане, в согласии с «идеальным планом», который мозгу противостоит как особый предмет, как тем или иным образом овеществленная форма общественно-человеческой жизнедеятельности, как цель – неотъемлемый компонент этой жизнедеятельности, как человеческое значение вещи.
Поэтому-то «материалисты», толкающие физиологов на нелепые поиски «идеального» в мозгу, в толще нервной ткани коры, в глубине «церебральных микроструктур» и тому подобных вещах, в конце концов добиваются только одного – полной дискредитации материализма как принципа научного мышления. Ибо никакого «идеального» физиологи под черепной крышкой так и не находят, сколько ни ищут. Ибо его там и нет, потому-то такие псевдоматериалисты наносят науке о человеке и об «идеальном» куда больший вред, чем Платон с Гегелем, вместе взятые. Последние, при умном их прочтении, оказывают даже пользу, которую никак не в состоянии принести глупые «материалисты», то есть материалисты философски малограмотные, не прошедшие школу диалектики, но зато кичащиеся своим мнимым материализмом.
С сознанием и волей «идеальность» действительно связана необходимым образом, но вовсе не так, как изображал эту связь старый, домарксовский материализм. Не идеальность есть «аспект» или «форма проявления» сознательно-волевой сферы, а как раз наоборот, сознательно-волевой характер человеческой психики есть форма проявления, «аспект» или психическое обнаружение идеального (то есть социально-исторически возникшего) плана отношений человека к природе.
Идеальность есть характеристика вещей, но не их естественно-природной определенности, а той определенности, которой они обязаны труду, преобразующе-формообразующей деятельности общественного человека, его целесообразной чувственно-предметной активности.
Идеальная форма – это форма вещи, созданная общественно-человеческим трудом. Или, наоборот, форма труда, осуществленная в веществе природы, «воплощенная» в нем, «отчужденная» в нем, «реализованная» в нем и потому представшая перед самим творцом как форма вещи или как отношение между вещами, в которое их (вещи) поставил человек, его труд, и в которое они сами по себе никогда не встали бы.
Именно поэтому человек и созерцает «идеальное» как вне себя, вне своего глаза, вне своей головы существующую объективную реальность. Поэтому, и только поэтому, он так часто и так легко и путает «идеальное» с «материальным», принимая те формы и отношения вещей, которые он сам же и создал, за естественно-природные формы и отношения этих вещей, исторически-социально «положенные» в них формы – за природно-врожденные им свойства, исторически преходящие формы и отношения – за вечные и не могущие быть измененными формы и отношения между вещами, за отношения, диктуемые «законами природы».



