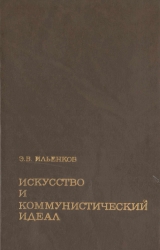
Текст книги "Искусство и коммунистический идеал"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Обломками таких идолов усеян весь путь человечества. Вначале это были примитивно-антропоморфные изображения бородатых отцов – благодетелей рода человеческого, вроде Зевса, Ягве или Вотана, потом, с прогрессом просвещения, стали поклоняться божественному Логосу, Абсолютному Понятию и не менее абсолютному Государству. Претендовали на вакантное место божества и еще менее симпатичные объекты и субъекты. И пора бы уж, кажется, понять, что ничего хорошего из обожествления чего бы то и кого бы то ни было для люден не происходит. Так нет же. Нет бога? Вот как. Так давайте его скорее искать. Давайте его строить. Конструировать. Моделировать. Благо теперь в нашем распоряжении вся мощь современной науки и техники, благо можно теперь использовать всю магическую власть современной науки [41] над умами людей! А то без бога как же? Без бога пропадем! И мозги у нас несовершенные – всего-то десять миллиардов клеток каких-то жалких, и не в силах мы поэтому ни отношения свои взаимные наладить, ни пропорции производства рассчитать, ни смысла сложных событий охватить… Вот и сделаем сверхчеловека – пущай он за нас думает, пущай он за все отвечает, а мы его будем слушаться. За всех думает сверхчеловек! А кому не нравится – с того взыщем строго, с невежды, с реакционера!
Ох, не нравятся мне сии мечтания! Знакомые мечтания. Только и нового в них, что хотят их навязать людям не старыми дедовскими способами, а какими-нибудь более эффективными и оптимальными. Нынче это – кибернетика. Завтра – еще что-нибудь.
Да еще говорят, что все сие на пользу человека. А как же? Разве иначе его в такой рай заманишь? Он ведь, стервец, эгоист, все больше про свою собственную пользу думает, знать не хочет высших интересов. Ну ничего, проведем его. Прикинемся для начала эдаким услужливым «кибером», а там поглядим!
Вот эти-то умонастроения и вызвали у меня сочинительский зуд. Особенно возмутилось во мне мое человеческое естество от удивительно высокомерного отношения к «эмоциям». В рассуждениях «отчаянных кибернетиков» – то бишь сочинителей кибернетической мифологии – постоянно встречаешь такой мотив: ах, не нравятся тебе наши затеи, не хочешь, чтобы тобой бездушная Машина командовала? Сам собой управлять желаешь? Мало ли чего тебе желается! Это в тебе все «иррациональные эмоции» бунтуют! Вбил себе в голову, будто ты и есть венец творения, предел совершенства. Вот мы тебе покажем, какой ты венец. И показывают. Пока, к счастью, только на бумаге. Наука! Так что смирись, гордый человек, склони свою голову!
Эмоции и в самом деле бунтуют. Но так ли уж они «иррациональны»? А ну как в них больше подлинного разума, чем в ученом высокомерии, в желании во что бы то ни стало перемоделировать весь мир по образу и подобию абстрактно-математической схемы? Тогда как? А ну как не пожелает этот мир становиться тенью своей собственной тени? Призовете электронно-кибернетическую милицию? Наложите запрет на эмоции, связанные с чувством человеческого достоинства? Тем самым чувством, которое всегда было – и, надеемся, будет – фундаментом и [42] стержнем всей нравственно-эстетической культуры человечества, всей «культуры чувств»?
Это чувство вовсе не столь иррационально, хотя согласны – в алгоритмах математической логики его «промоделировать» и «запрограммировать» не так-то просто, а может быть, и вовсе невозможно. Ну и что из того? Разве математическая логика с ее строго однозначным языком – синоним Логики вообще?
И так ли уж необходимо его «моделировать» на языке математики и кибернетики? Человечество ведь давно создало весьма совершенный язык, на котором это чувство моделируется гораздо более успешно. Язык настоящей поэзии, настоящей музыки, настоящей живописи. Хороший, точный язык, и, главное, понятный… И истина, которая на этом языке давно уже была поведана миру, заключается в том, что для человека самым высшим и самым интересным предметом в универсуме является все-таки Человек. Со всеми его «несовершенствами». И что нет ни на земле, ни на небе другой «высшей ценности», ради которой человеку стоило бы жертвовать собой. Даже в фантазии.
Кроме разве только другого человека. И то собой, а не другим. А то ведь очень много развелось за последние столетия любителей совершать человеческие жертвоприношения во имя «прогресса» и тому подобных красивых слов.
В хорошем фильме «Суд» по Тендрякову есть такая сцена. Председатель сельсовета, чтобы освободить «нужного человека» от тяжести подозрения в нечаянном убийстве, решает пожертвовать «никому не нужным» стариком егерем, свалить вину на него. – Ты же знаешь, что я не убивал? – спрашивает его с горечью старик. – Знаю! – патетически восклицает председатель. – А надо! Ради Дела! Ради нашего общего дела! Да я ради общего дела не только тебя, я и себя не пожалею!
Всмотритесь в шкалу его ценностей. Как будто все верно. «Общее дело» на первом месте. Серьезное дело.
А на втором – «я». И уж на третьем «он», другой человек. Вот она, самая отвратительная казуистика, превращающая «общее дело» в звук пустой, в ширму, в абстракцию. Ибо конкретная реальность этого «общего дела» только в том и состоит, что я его делаю сообща, вместе с другим человеком. А если я ради «общего дела» решил [43] пожертвовать другим человеком, то и превращается тотчас это дело в мое, в эгоистическое дело…
И уж если ты настолько умен и дальновиден, что рассчитал совершенно точно – обстоятельства сложились так, что за прогресс приходится платить самой дорогой платой во вселенной – человеческой жизнью, человеческой кровью, человеческим здоровьем, человеческим счастьем (случается, увы, еще в наш век и такое), то уж будь настолько благороден – плати прежде всего из своего собственного кармана.
И отвечает старик егерь председателю: «Себя – можешь. А меня – спроси сперва, согласен я али нет»?
Это что же – тоже «иррациональные эмоции»? Может статься, и так. Во всяком случае, культура их несколько повыше, чем культура «рациональных» соображений председателя.
Если человек – и именно в образе живого реального человека – со всеми его нынешними «несовершенствами» – не стоит на первом месте в шкале нравственных ценностей и если на это, только ему принадлежащее, место стараются водрузить что-нибудь другое, абсолютно безразлично что – безличную абстракцию под тем или другим красивым названием, – то ни о какой культуре чувств лучше вообще не начинать разговора. Нет никакой культуры чувств без этого условия «sine qua non». Все остальное тогда не имеет ровно никакого значения. Ни хорошие манеры, ни тонкое понимание музыки, ни изысканность тех или иных эмоций. Все разговоры о них будут в таком случае пустым говорением. [44]
Что там, в Зазеркалье?
Это очень старый вопрос – об отношении красоты, добра и истины. В наши дни он формулируется чаще как вопрос об отношении искусства, этики и науки. Но это тот же самый вопрос.
В старину его решали просто. Истина, добро и красота – это лишь три разных способа выражения одного и того же. Одно и то же, выраженное тремя разными способами. Пусть решение это ныне кажется слишком простым, прямолинейным и наивно абстрактным, но другого общего решения нет.
Можно, разумеется, упрекнуть это решение в том, что оно слишком общо. Можно посетовать, что в такой общей форме оно не только не решает, но даже и не учитывает всех тех конкретных трудностей, которые встают сразу же, как только его пытаются применить к анализу реальных – исторически-конкретных – [300] взаимоотношений между этими тремя способами выражения. Легко выдвинуть возражение, состоящее в том, что эти взаимоотношения в действительности весьма натянутые, эти пути «истины», «красоты» и «добра» расходится в реальной жизни весьма далеко.
Всё это так. То гармоническое единение между ними, которое предполагается формулой старого исходного решения, не так-то легко «оправдать» историческими фактами. Более того, если этот всеобщий закон понимать как правило, которому обязан безропотно подчиняться каждый отдельный случай, то история, скорее, опровергает выставленную общую формулу.
В лучшем случае эту всеобщую формулу можно сохранить тогда лишь как формулу мечты, надежды, идеально-несбыточного состояния, но не как фактически данного их отношения друг к другу. Но тогда на какие же реальные факты будет опираться такая мечта?
Общая формула дает ответ: надежда покоится на том, что истина, добро и красота глубоко родственны «по существу дела», они растут из одного корня, питаются одними соками. Поэтому, как бы далеко ни разошлись ветви в своем росте, они всегда останутся ветвями одного дерева. Поэтому они «внутренне» не могут быть враждебны друг другу, хотя бы «внешне» дело и выглядело именно так. Ведь бывают же дурные отношения между сыновьями одной матери, что, однако, не является доводом в пользу склочных отношений в семье, а тем более – всеобщим законом развития взаимоотношений между братьями… Печальные исключения не могут опрокинуть всеобщий закон. Мало ли что бывает в ненормальных условиях.
А если ненормальные условия становятся нормой? На что годится тогда общая формула, предполагающая именно «идеально-нормальные» условия своей применимости? Бессильным пожеланием? Лицемерной фразой? Чисто грамматическим сочетанием слов?
И с этим невозможно спорить.
Как же быть? Может быть, просто выбросить исходную общую формулу как пустую фразу, для древности простительную в силу наивности этой древности, а в наши дни – нетерпимую и фальшивую, поскольку мы уже не столь наивны?
Попробуем. Но тогда мы автоматически лишим себя права на теоретический подход к вопросу о взаимоотношении трех указанных понятий. [301]
Тогда это понятия разные, и только. Такие же разные, как «красная свекловица», «нотариальная пошлина» и «музыка». Как «химическая валентность», «бузина в огороде» и «фунт стерлингов». Понятия, выражающие абсолютно разнородные вещи. Тогда никакой сколько-нибудь прочной логической связи между ними установить нельзя.
Ибо логическая связь возможна лишь между понятиями одного рода. Между понятиями, отражающими явления одного порядка, между «внутренне связанными» явлениями, между модусами одной субстанции, если выразиться на языке философии.
Нет этого «общего», не можете его установить? Тогда бросьте надежду на теоретическое выяснение сути дела. И не пишите статей на эту тему.
Тогда скажите: «истина», «добро» и «красота» – это изначально не имеющие между собой абсолютно ничего общего словечки, соответственно – изначально не имеющие между собой ничего общего категории явлений, как, например, «интеграл» с «попугаем». И дело с концом.
Тем самым вы, однако, лишаете себя права вести теоретический разговор на эту тему вообще. И другим в этом праве отказываете.
Естественно. Попугая, конечно, можно научить выговаривать – «интеграл», а «бузину в огороде» – обложить «нотариальной пошлиной». Можно. Но нельзя из этого сделать вывода, будто эти вещи как-нибудь связаны между собой «по существу», «по сути дела». Интеграл без попугая может прекрасно существовать, ровно ничего не теряя, а попугай остается попугаем независимо от того, умеет или не умеет он произносить то или другое слово.
И если вы хотите понять, что такое «интеграл», то уж, конечно, не будете рассматривать это понятие в той случайной связи, которая установилась почему-то между ним и языком попугая. Вы будете стараться уловить связь этого математического понятия с другими математическими понятиями, через которые и выражается его «суть». А попугая, даже и говорящего, лучше при этом забыть и оставить в покое, – приберечь для более подходящего способа времяпрепровождения и соответствующих размышлений…
Так и с нашими понятиями.
Если между «добром» и «красотой» есть хоть какая-нибудь связь, заслуживающая серьезного, [302] научно-теоретического рассмотрения и уяснения, то на языке логики это допущение выразится именно так, и только так, как его выразили давным-давно. А именно: «добро» и «красота» – это только два способа выражения одного и того же. Так же как «красота» и «истина».
И тогда вопрос перед вами встанет так: а что же это такое, это самое «одно и то же», выраженное один раз в виде «добра», другой раз – в образе «красоты», а третий раз – в форме «истины»?
Тогда, как подсказывает элементарная логика, вы обязаны будете ответить прежде всего на вопрос: что он такое, этот Икс, который, сам по себе не будучи ни тем, ни другим, ни третьим, вдруг предстает перед нами то в облике «красоты», то в образе «добра», то в костюме «истины»?
Кто он, этот таинственный незнакомец, появляющийся на маскараде истории то в одной, то в другой, то в третьей маске и никогда не являющийся на этот маскарад голеньким, неприкрытым, незамаскированным и незагримированным?
Каков он, этот «господин Икс», сам по себе, как он выглядит без той или другой из своих любимых масок?
Нам удастся подглядеть его подлинное лицо только в одном случае: если мы застанем его врасплох, в костюмерной, в тот момент, когда он переодевается, меняет одну маску на другую, одну снял, а другую надеть еще не успел.
Учтем, однако, что он не любит, когда за ним подсматривают в этот момент, и потому меняет одну маску на другую молниеносно – быстрее, чем Аркадий Райкин. Успеем мы в этот краткий миг сделать с него моментальный фотографический снимок – хорошо. Тогда мы будем иметь его портрет и не торопясь сможем его рассмотреть и исследовать. Тогда мы будем знать, каков он «сам по себе», «в себе и для себя», как любил говорить старик Гегель.
Но оказывается, что переодевание происходит в темноте и снимка нам сделать не удастся. А при свете «господин Икс» переодеваться не станет, подождет, пока свет погаснет. Значит, этот способ не подойдет. Значит, мы навсегда теряем надежду воочию разглядеть его подлинный облик. Значит, мы всегда будем видеть его то в маске ученого-схоласта, то в маске красавицы, то в маске добродетельного обличителя пороков, то в маске моралиста. [303]
И дело до чрезвычайности осложнится тем обстоятельством, что красавица эта вовсе не обязательно будет воплощенной добродетелью, а чаще, и даже как правило, – весьма порочной красавицей, которую как раз и будет обличать моралист, с коим эта красавица не хочет иметь дела и над которым она на сцене будет весьма зло издеваться, давая тем самым пищу для размышлений ученому-схоласту, наблюдающему со стороны за безуспешными попытками моралиста обратить эту красавицу на путь истинный, то есть завоевать ее сердце с целью вступить с ней в законный и навеки нерушимый брак…
Так что если мы попытаемся «логически реконструировать» подлинный облик «господина Икс», подмечая и фиксируя те общие черты, которые прослеживаются в манерах поведения всех трех персонажей, то мы быстро зайдем в тупик.
В самом деле, что можно увидеть общего между злой красавицей, некрасивым добром и безобразной истиной, которая только и старается быть ни «доброй», ни «злой», ни «красивой», ни «безобразной»?
Обычная логика, которая всегда старается образовать общее понятие из тех «признаков», которые одинаково общи каждому из рассматриваемых единичных экземпляров, то есть понимает «сущность вещей» как нечто абстрактно-общее каждой из этих вещей, рассматриваемых порознь, оказывается в данном случае (как и во многих других) абсолютно бессильной.
Ничего «общего» она установить не может по той простой причине, что такого «общего» тут и нет.
Такая логика хотя и допускает гипотезу, согласно которой за всеми тремя масками скрывается один и тот же актер, но признает себя бессильной – путем наблюдения за ними, путем установления «общего» для всех трех ролей – логически реконструировать «подлинный облик» актера.
По счастью, есть и другая логика. И эта логика видит простой и прямой выход, он же вход в решение загадки.
Состоит этот выход в том, что никакой загадочной фигуры «господина Икс», выступающей то в одной, то в другой, то в третьей маске, нет. А есть совершенно реальный, зримый и ничем не маскирующийся артист, которого мы все прекрасно знаем под другим именем, тот самый артист, который, совсем как Аркадий Райкин, [304] появляется на сцене в начале спектакля с переодеваниями и потом, скинув последнюю маску в конце спектакля, опять предстает перед нами таким же, как и в начале, только разве немного усталым. Четвертый – рядом с этими тремя – участник драмы.
И говорит: я-то и есть тот самый «господин Икс», насчет которого вы понастроили столько несуразных гипотез и про которого ходит столько таинственных слухов. Никакого «господина Икс» не было и нет. А есть я, всем вам прекрасно известный, популярный, знакомый человек, портреты которого рисуют чуть ли не на коробках с шоколадными конфетами.
Всем нам хорошо известный, конкретный человек. Человек с его сложной, трудной и противоречивой судьбой-историей – пьесой, которую он сам же исполняет, сочиняя по ходу действия, действуя по обстоятельствам, созданным вначале матушкой-природой, а потом, чем дальше, тем больше, – ходом своего же собственного действия.
Пьесу эту не назовешь ни трагедией, ни опереттой, ни трагикомедией, ни фарсом. Ибо в ней есть и то, и другое, и пятое, и десятое. Героический эпос перемежается в ней с фарсовыми куплетами, а мещанская драма – с кровавой трагедией. Отелло в этой пьесе ведет диалог не только с Яго или Дездемоной, а и с «Роз-Мари», Иван Сусанин вынужден то и дело петь трио вместе с цыганским бароном и Кармен.
И тут мы видим, что добро в образе Отелло душит красоту и добродетель во плоти и крови, а зло торжествует и вовсе не помышляет о самоубийстве из раскаяния, и вершина истины, достигнутая Галилеем, выглядит в финале жалкой, даже отвратительной по сравнению с откровениями малограмотного и совсем даже неученого Платона Каратаева…
Наука в лице гениального Альберта Эйнштейна рвет на себе волосы, взяв на себя, и не без основания, тяжкую вину за гибель жителей Хиросимы, упрекая себя в том, что совершила по неведению (по недостатку научности) преступление против нравственности, против добра, предавшись Диаволу. Красота в лице современного искусства отказывается от самой себя, не желая более быть красотой и стараясь выглядеть как можно более отвратительной и безобразной. A добро, отчаявшись найти себе место в этом безумном мире, начинает творить Зло – авось, из этого что-нибудь да выйдет… [305]
Но рвет на себе волосы пока вовсе не наука, а лишь наука в лице благородного Эйнштейна. В другом своем воплощении и обличье та же самая наука, наоборот, радуется и гордится: «Какой превосходный физический эксперимент!»
Искусство тоже раздваивается внутри себя, расщепляется на две партии, одна из которых тщетно пытается спасти права красоты, не гнушаясь даже подлогом, выставляя напоказ под титулом красоты красивость, этот неполноценный и фальшивый в самой своей сути ее эрзац, а другая, щеголяя своей циничной трезвостью «художественного видения», прямо хает красоту как фикцию, не только архаическую, но и очень вредную своей фальшью, и потому старается вызвать «художественное наслаждение» уже не видом красоты, а выставленным напоказ зрелищем гноящихся язв («как прекрасно и живописно!», «какое удивительно смелое сочетание красно-мясного цвета с лимонно-оливковым!»).
Добро же… Добру тут не везет, пожалуй, больше всего. Одни, не расставаясь с ним и даже во имя его, творят «научно доказанное в его необходимости» зло. Другие творят зло просто так, без софистики, понимая, что это зло назло «добру», обманувшему их детские надежды. Делают кинофильмы, расцвечивающие всеми красками радуги «красоту зла», жестокости, насилия, пишут ученые трактаты, доказывая, что зло необходимо то ли во имя, то ли не во имя добра – безразлично.
Переплетаются, как змеи весной, истина с безобразием, порочность с красотой, а красота с ложью, с заблуждением: и не видно, где кончается в этом клубке одна категория и где начинается другая, – видишь хвост одной, голову другой…
И стоит над этим клубком современности теоретик и говорит: «Без поллитра во всем этом не разберешься». Да и стоит ли? Что от этого изменится, если я пойму? Что красота устроит развод с милым ей заблуждением и вступит в законный брак с истиной, что ли? Или истина перестанет источать яд и термояд зла? Или от этого станут «красивыми» обугленные трупы Хиросимы? Все будет по-прежнему, ежели я в чисто теоретическом сознании и распутаю этот клубок…
Хуже того, в своем сознании я этот клубок распутаю, а видеть-то я буду по-прежнему нераспутанный, все туже запутывающийся клубок змей, – огорчение одно. «Кто умножает познания – умножает скорбь». [306]
Лучше просто смотреть, наблюдать без мудрствования, без попыток распутать – время, наверное, еще не приспело, – отдавать себе во всем этом «рациональный отчет»…
А если приспело?
Если противоречия человеческого существования, находящие свое выражение именно в парадоксальных мезальянсах истины – со злом, зла – с красотой и безобразия – с истиной, уже настолько назрели, что дальше и ехать некуда, разве только в пламя глобальной катастрофы, которая разрешит все эти парадоксы единственно доступным ей способом, а именно покончит и с истиной, и с красотой, и с добром – со всеми этими тремя ипостасями «одного и того же» – человека вообще?
Не пора ли крепко-накрепко задуматься, как же устроить так, чтобы истина навсегда породнилась с красотой, чтобы порождать только добро?
И задуматься, естественно, придется уж; не об «истине», «добре» и «красоте» как таковых, а о том, как же наладить наконец те взаимные отношения человека с человеком, которые и выражаются «тремя разными способами» – в виде подлинного искусства, подлинной нравственности и подлинной же науки.
Ибо человек реальный, стоящий обеими ногами на нашей грешной земле человек, и есть это «одно и то же».
Сфера отношений человека к человеку. Или, если для непонятности выразиться гегелевским языком, отношение Человека к самому себе.
Если ты относишься «по-человечески» к другому человеку, то это на том же языке и значит, что ты относишься по-человечески к себе самому как человеку.
Если ты это умеешь, если ты знаешь, в чем же заключается это самое отношение, то проблема отношения «трех способов выражения» его для тебя уже не составит неразрешимой загадки.
Если же ты не знаешь или, что уже хуже, не желаешь знать, что это такое – человеческое отношение к другому, а тем самым – к самому себе, то лучше не лезь в проблему. Без этого ключа ее разрешить нельзя.
Начинать, стало быть, приходится с этих понятий: человек, человеческие отношения, отношения человека к человеку и человека к природе. Это то самое «одно и то же», которое ты всегда обязан рассмотреть сквозь призмы «трёх разных способов выражения».
Ибо только тут находится критерий, позволяющий [307] отличить в конце концов подлинное искусство, ориентированное на красоту и добро от жалкой имитации. С этим ключом-критерием к проблеме можно хотя бы подступиться с надеждой понять, где ты столкнулся, с искусством, которое в сущности нравственно, несмотря на то и даже благодаря тому, что оно изображает зло в самых крайних его проявлениях, обнажает перед нами безобразное его нутро, и где, наоборот, – с внутренне безнравственным лицедейством, с расчетливо-холодным изображением идеально умных, идеально красивых и идеально добродетельных по всем статьям морали персонажей.
Тогда ты имеешь шанс разобраться где «Сикстинская мадонна» наших дней, а где писаная красавица из «Клеопатры», где Саския, а где подгримированная под нее фифа.
Тогда тебя не обманет фальшивая красота и фальшивое добро в искусстве – те самые фальшивые эрзацы добра и красоты, которые столь же хорошо уживаются в блуде с ложью и безобразием, как и в морально узаконенном браке друг с другом. Тогда ты всегда увидишь, какое произведение искусства, хотя оно и не декламирует высоких словосочетаний и не рисует красивых картинок, всё-таки является внутренне кровным союзником в современной войне за истину, красоту и добро, а какое – лишь замаскированным врагом союза истины, добра и красоты в жизни человека.
Ведь можно же, в конце концов, уверено отличить Аркадия Райкина от бездарного имитатора, даже если он спрятался под украденной у мастера маской…
Ты увидишь, иными словами, как часто – и особенно в искусстве – под маской красоты любит прятать свои отвратительные гримасы злобное безобразие и как часто, наоборот, за внешней «некрасивостью» скрыта в силу условий драматического действия глубокая и действительная красота, вынужденная по условиям роли напялить на себя смешную и даже уродливую маску – играть бродягу Чарли или страшилище Гуинплена.
И если ты занимаешься теоретизированием по поводу искусства, то есть смотришь на искусство не только ради собственного удовольствия, то ты уже просто обязан проводить такого рода различения, пользуясь уже не только личным вкусом а и теоретически строгими критериями. Ты уже несёшь ответственность перед другими за точность и строгость суждения, за объективную [308] обоснованность различения между подлинной красотой, которая не может не совпадать по самой сути дела с подлинным же добром и с подлинной же истиной, и искусной подделкой под красоту.
Ибо красота подлинная отличается от красоты мнимой именно через ее отношение к истине и добру – через свое человеческое значение.
Разумеется, сделать такое различение не всегда легко – по самым разным причинам. Подделки бывают очень и очень искусными. Иногда с чисто формальной точки зрения к ним и не подкопаешься, под все формальные критерии подводятся – и «моральные», и «научные», и «эстетические». Всё как в лучших домах, и всё-таки подделка… Поэтому тут всегда есть риск и самому ошибиться и других в заблуждение ввести.
Однако это вовсе не довод к тому, чтобы вообще отказаться от способности суждения, стать в позу стороннего наблюдателя и заявить с интонацией Понтия Пилата: «Что есть истина? Что есть красота? Что есть добро?»
На практике это ведь и значит умыть руки и благословить фарисеев, распинающих человека на кресте формально узаконенных догм, на кресте деревянных прописных истин, на кресте вчерашней морали, вчерашней истины и вчерашней красоты, а точнее, мертвых словесных сколков с вчерашнего облика и того, и другого и третьего…
Поза благородная. И всё-таки очень и очень недостойная. Встал в нее – так уж лучше не зовись теоретиком. Слагаешь с себя ответственность за суждение с точки зрения ясно продуманных критериев – ну что же, твоё личное дело. Боишься ошибиться – молчи. Но тогда не уговаривай других, чтобы они тоже молчали. Молчание – вещь кошмарная. «Когда бог молчит – в мире воцаряется ад. Ад настолько очевидный, что это понимают теперь как верующие, так и атеисты» – сказано в титрах «Молчания» Бергмана.
Мы-то понимаем, что бог молчит только потому, что его нет. Но если молчит человек, то уж это действительно кошмарно, некрасиво и, конечно, не имеет никакого отношения к истине, к заботе об истине, о добре и о красоте. Как и истерическое визжание, как и надрывный крик…
Человек… А точнее, человеки в их взаимных, исторически сложившихся, как выражается наука, отношениях [309] друг к другу и к природе. То самое «одно и то же», что пытается выразить и осознать себя в «трех разных способах выражения» – рассмотреть самого себя в зеркале науки, в зеркале искусства и в зеркале нравственных критериев.
Конечно, ни в одном из этих зеркал Человек не может рассмотреть себя во всей своей конкретной полноте. В каждом из них он отражается лишь односторонне – абстрактно. И всё же во всех трех зеркалах отражается именно он – один и тот же.
И если три разных изображения одного и того же оказываются настолько одно на другое непохожими, что жуть берет, если то, что в одном зеркале отражается как красота, в другом предстает как ложь и зло; и, с другой стороны, глянешь в одно зеркало – на тебя глядит истина, а в другое – глядит на тебя звериный и злобный оскал безобразия, – то не надо на зеркало пенять. Лучше на себя оборотиться. Зеркала подлинной науки, подлинного искусства и подлинной нравственности, отшлифованные тысячелетним трудом людей, по праву носивших имя человека, не лгут. Лгут только мутные зеркала мнимого искусства, превращающие безобразие в красоту, а красоту – в безобразие.
И если уж ты оказался в ситуации, когда одно и то же предстает в одном зеркале – истинным, а в другом – безобразным и злым, то это свидетельствует лишь о трагическом действительном разладе в самой «сущности» смотрящегося в них человека. В «совокупности» общественных отношений. Это значит, что смотрящийся в зеркало науки человек на самом деле не обладает полной истиной, а обладает лишь частичной.
И если он упрямо принимает эту неполную, абстрактную и ущербную истину за полную и вполне достаточную, то эту его иллюзию и обнаруживает зеркало искусства. Ибо в этом зеркале ущербно-однобокий уродец никогда не отразится в виде Аполлона, а отразится в виде головастика, в виде Мозга на паучьих ножках. И наоборот, Аполлон по внешности в зеркале науки может увидеть себя как безмозглого тупицу. А это уж никак не Аполлон. Мнимый Аполлон, мнимая, фальшивая красота.
Так что трагическое расхождение между тремя разными способами выражения одного и того же – это только индикатор, показывающий, что реальный человек, в них глядящийся, не обладает полной истиной именно [310] потому, что он некрасив и недобр. Или ежели он отражается там уродливым злодеем, то это значит, что истина, которой он обладает, неполна и требует каких-то существенных уточнений, хотя и кажется ему достаточной и полновесной. Если бы она и в самом деле была такой, человек отразился бы в зеркале искусства прекрасным, а в зеркале моральных критериев – добрым. Нет этого – значит, и истины у него подлинной нет. А есть только мнимая.
Посему и надо полагать, что умный злодей – это недостаточно умный человек, что красивый злодей – лишь мнимо красивый, а на деле отвратительно безобразный человек – та или иная разновидность Джеймса Бонда.
И попытки превращать отвратительного злодея в эстетически привлекательный персонаж – это попытки не только гнусные с нравственной точки зрения, но и эстетически невыполнимые, не могущие выдать произведение подлинного искусства. За это ручается наука, а не только практика самого подлинного искусства в его борьбе с искусством фальшивым, превращающим белое в черное, а черное в белое, тупого убийцу – в иконописный лик, а доброго и умного человека – в жалкое посмешище.
Всё это и нужно, по-видимому, учитывать, рассуждая об искусстве «нравственном и безнравственном».



