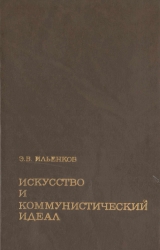
Текст книги "Искусство и коммунистический идеал"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
У Канта и Фихте так и получилось, даже теоретически. Грубо говоря, их надежды сводились к тому, что в душе каждого человека, даже самого испорченного, теплится от рождения слабый огонек «человечности», пробивается росток «лучшего Я», дающий о себе знать [130] как голос совести, и что каждый человек, хотя бы смутно, чувствует направление на истину.
«Лучшее Я» (по своеобразно-замысловатой терминологии Канта и Фихте – «трансцендентальное Я») совершенно одинаково, абсолютно тождественно в каждом живом человеке (в «эмпирическом Я»); оно как бы одно и то же Я, только размноженное, повторенное без каких-либо изменений, вроде бесчисленного множества идентичных отпечатков, сделанных с одного и того же эталонного снимка. Каждая отдельная копия может быть чуть ярче или темнее, чуть отчетливее или чуть более размытой, чем другая, но это все-таки один и тот же снимок, только размноженный.
Но где же, в какой особой палате мер и весов сохраняется первый, эталонный снимок, с которым при нужде можно было бы сопоставить любую отдельную копию? Такой палаты мер и весов нет нигде во «внешнем» мире, отвечают Кант и Фихте. Ни на грешной земле, ни в небесах религии. Эталонный портрет «лучшего Я» не существует отдельно от своих собственных копий, как особый, вне их находящийся первообраз. Он существует в них и через них, в своих копиях, впечатанных «внутри» каждого живого человека, в его душе.
И люди могут лишь реконструировать эталонный снимок в своем воображении из тех «общих черт», которые имеются в составе каждого «эмпирического Я», составляя его «лучшее Я», замутненное и искаженное всякими прочими обстоятельствами, «некондиционностью» того материала, в который оно впечатано.
С другой же стороны, все те черты, которые отличают одного живого человека от другого, именно поэтому-то и не входят в состав «лучшего Я». Они проистекают как раз от искажения, зависят от уклонений, от кондиции того «эмпирического материала», в котором осуществлена копия.
Такой – реконструированный в воображении – эталонный портрет «лучшего Я» и есть то, что называют идеалом. Иначе как в воображении он не существует. Но, существуя лишь в воображении, идеал «обладает практической силой», служит образцом, регулирующим реальное поведение человека… «Идеал служит в таком случае прообразом для полного определения своих копий, – рассуждает Кант в «Критике чистого разума», – и у нас нет иного мерила для наших поступков, кроме поведения этого божественного человека в нас, с [131] которым мы сравниваем себя, оцениваем себя и благодаря этому исправляемся, никогда, однако, не будучи в состоянии сравняться с ним».
«Хотя и нельзя допустить объективной реальности (существования) этих идеалов, тем не менее нельзя на этом основании считать их химерами: они дают необходимое мерило разуму, который нуждается в понятии того, что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять степень и недостатки несовершенного»[2]2
Кант И. Сочинения, т. 3, с. 508.
[Закрыть].
Иначе – при отсутствии в воображении идеала-эталона «подлинно-человеческого поведения» – человек навсегда останется рабом «существующего», останется лишь точкой приложения внешних сил, лишь щепочкой, которую швыряют туда и сюда волны моря житейского… Он останется рабом, закованным в железные цепи «внешних причин», условий места и времени.
Отсюда вытекала и практическая рекомендация: всегда повинуйся голосу долга и ни в коем случае – давлению «внешних» (по отношению к долгу) обстоятельств. Всегда и во всех случаях плыви против течения «эмпирической», то бишь реальной, жизни, направленного против долга. Так поступать очень нелегко, ибо надо не только уметь услышать голос долга, заглушаемый грохотом сражений, начальственных окриков, воплей голода и боли, писка уязвленных самолюбия, тщеславия и своекорыстия, стонов отчаяния и страха, а и иметь еще мужество последовать этому голосу, преодолевая в самом себе раба всех перечисленных и многих других мотивов.
В итоге получается, что весь эмпирический мир – и «вне» и «внутри» самого человека – оказывается врагом идеала и никогда, ни при каких обстоятельствах не может стать его союзником. В эмпирической жизни идеал никогда, по самой сути его, осуществлен быть не может.
Если он и похож на что-нибудь, то разве лишь на клок сена, привязанный перед мордой осла на прутике, торчащем из хомута, надетого на шею осла. Он – всегда впереди, сколько бы и как бы быстро к нему ни продвигались. По Канту и Фихте, идеал абсолютно подобен линии горизонта, воображаемой линии пересечения грешной земли с небесами истины, которая [132] отодвигается вдаль ровно в той мере, в какой к ней приближаются.
На самом деле такой линии нет («нельзя допустить объективной реальности – существования – идеалов»). Но как иллюзию воображения ее иметь надо, иначе нет критерия правильного направления путей самоусовершенствования, стало быть, нет и «свободы», а есть только рабство в плену «внешних обстоятельств, условий места и времени».
Именно потому-то идеал нельзя представить себе в виде законченного результата, продукта поступков и действий, в виде образа «теоретического» или «практического» (то есть морального) совершенства. Человек в виде идеала может иметь только направление на истину, а самую истину – никогда. А сам идеал может быть задан не в виде чувственно-созерцаемой «модели совершенства», а только в виде направления к совершенству, в виде «регулятивного принципа действий», а не в виде контура результата действий, контура законченного продукта.
Но не слишком ли похожи рассуждения нашего философа на «ортодоксию», на религиозное «идолопоклонство», на ту форму служения «лучшему Я», которое осуществляется в католических богослужениях? Так ли уж велика разница – «сливаться с богом» в созерцании икон и статуй, сопровождая сие занятие соответствующими телодвижениями под музыку органа, или же в «чистом» созерцании? В реальной жизни идеал Канта и Фихте неосуществим, он так же загробен, как и идеал католической церкви. И там и здесь все в конце концов сводится к мучительной процедуре усмирения всех своих «земных» желаний, стремлений, потребностей, к суровому аскетизму. Соблазнишь ли таким идеалом живого человека, деятельно стремящегося к полнокровной жизни здесь, на земле? Живой человек справедливо полагает, что синица в руке лучше журавля в небе.
И на чем же держится оптимизм Фихте, этого последовательнейшего героя «категорического императива»? Уповая на победоносную силу идеала, он восклицает в своей вдохновенной речи «О достоинстве человека»: «Стесняйте, расстраивайте его планы! Вы можете задержать их, но что значит тысяча и паки тысяча лет в летописи человечества? То же, что легкий утренний сон при пробуждении».
В летописи человечества? Вполне возможно. Но пока [133] человечество наслаждается этим легким утренним сном, миллионы и миллиарды живых людей окутает сон смерти, от которого – увы! – пробуждения уже не будет. Для человека (а не для человечества) разница между утренним сном и сном смерти весьма существенна, и тут играет роль уже не «тысячелетие», а всего-навсего десятилетие, и паки десятилетие…
Так что если для «человечества» философия Канта и Фихте и утешительна, то для живого человека – никак. Поэтому-то живой человек и склонен, познакомившись с нею, опять возвращаться в лоно старой «ортодоксии», которая обещает ему лично хоть какое-то возмездие за муки на грешной земле. И в результате человек отвергает гордый тезис Канта и Фихте, согласно которому сам человек и есть единственный бог на земле, и предпочитает думать, что его создал по своему образу и подобию вне его находящийся мудрый, добрый и справедливый господь, творец, создатель и управитель.
Он всегда предпочтет веру во «внешнего бога», если «внутренний бог» – «лучшее Я», «трансцендентальное Я» – оказывается на деле таким беспомощным, что его ежедневно попирает любой князек, любой хам, любой лавочник и любой унтер, издеваясь над «лучшим Я» и в других людях и в самом себе.
Ортодоксально-католический бог обещает вознаградить добро и наказать зло хотя бы потом, хотя бы после смерти, а бог Канта и Фихте и этого не обещает. Мучайся, страдай, терпи и преодолевай в себе желание счастья и радости – и ты обретешь высшее, «трансцендентальное» счастье. Ты будешь наслаждаться сознанием своей собственной добродетельности. Ты обретешь мир в себе самом, будешь думать и поступать в согласии с голосом совести, а все другие мотивы утратят власть над тобой.
Когда такого, полного и безоговорочного преодоления своего «эмпирического Я» достигнут все люди на земле и когда каждый отдельный человек научится думать и поступать так, как диктует ему его «лучшее Я» (а оно одно и то же в каждом), то исчезнут с земли раздоры, разногласия, пререкания и противоречия. Состояние «войны всех против всех» сменится «вечным миром», воцарится полное согласие, полное единство, полное тождество всех Я. Все отдельные Я как бы сольются в лоне одного и того же великого [134] общечеловеческого Я, в «великом единстве чистого духа», как выражается Фихте.
Правда, Фихте тут же добавляет: «Единство чистого духа есть для меня недосягаемый идеал, последняя цель, которая никогда не будет осуществлена в действительности». Чувственно, конкретно, предметно, грубо и зримо райского состояния «великого единства» представить себе нельзя. Оно лишь теоретически-умозрительный, абстрактный «регулятивный принцип» самоусовершенствования каждого отдельного Я, каждого отдельного человеческого индивида. Полное тождество, абсолютное «одно и то же», в прозрачном эфире которого растворяются все различия между людьми, между сословиями и профессиями, между нациями и народами, и есть Человек вообще, Человечность как таковая.
«Земля и небо, время и пространство и все границы чувственности исчезают для меня при этой мысли; как же не исчезнет для меня и индивид? К нему я не приведу вас обратно!» (Фихте).
Получалось что-то очень похожее на древнюю философию индийских мудрецов, которые достигали примерно такого же состояния – полной утраты самоощущения собственного Я – в нирване, в небытии, в ничто, в абсолютной смерти, где меркнут все краски, все страдания, всё. Достаточно лишь погрузиться в самозабвенное созерцание своего собственного пупа: сиди и смотри на него часами, пока не померкнет свет в глазах.
И если осуществление «недосягаемого идеала» Фихте все-таки попытаться себе представить чувственно-наглядно, то оно будет выглядеть так. Все отдельные Я, составляющие человечество, бросают свои земные дела и погружаются в созерцание своего «лучшего Я». Сидят и глядят в глубины своего Я, наслаждаясь самим актом созерцания абсолютной, бесконечной, бесцветной и беззвучной пустоты, в которой погасли все эмпирические различия, где нет ни неба, ни земли, ни индивида, а есть только «великое единое единство».
Разумеется, в таком Я нет никаких различий (стало быть, и разногласий и борьбы) именно потому, что само понятие «Я вообще», «Я как такового», «Я = Я» получено как раз путем абстрагирования от всех различий между реальными, «эмпирическими Я». Хотели получить понятие «подлинного Я» и получили… пустоту, как предел и идеал, как последнюю цель самоусовершенствования каждого отдельного Я. [135]
Подобный вывод неизбежен, если принять заранее ту логику, с помощью которой он был получен; вся этическая конструкция Канта и Фихте уходит своими корнями в толщу «Критики чистого разума», в систему излагаемых здесь логических правил мышления.
Толстая барыня из «Плодов просвещения» восклицала: «А как же можно отрицать сверхъестественное? Говорят: не согласно с разумом. Да разум-то может быть глупый, тогда что?»
У Канта, с его «чистым разумом», получается нечто похожее, хотя «глупым» его и не назовешь. «Чистый разум» не отваживается на окончательное суждение о «сверхъестественном» (есть оно или его нет?) именно потому, что он достаточно умен и слишком хорошо представляет себе свои собственные возможности, самокритично их оценивает.
«Критика чистого разума» обстоятельно излагает логику – науку о мышлении, разворачивает систему правил, схем правильного мышления. Кант хочет предварительно отточить инструмент, а уже затем с его помощью решить наконец, тщательно и аккуратно им пользуясь, все те проклятые вопросы, над которыми бьется целые тысячелетия «несчастное» человечество.
Прежде всего Кант попытался подытожить все то, что было сделано в логической науке до него, чтобы выявить в ее теоретическом багаже только бесспорное, только окончательно отстоявшееся и очистить науку от всех сомнительных положений. Он решил выделить в логике то ее непреходящее ядро, которое оставалось не затронутым никакими спорами, длившимися на протяжении двух тысячелетий, только бесспорное, только абсолютно очевидное для всех, для любого человека, чтобы строить дальше уже на абсолютно несокрушимом фундаменте. Такой фундамент, по замыслу Канта, должен быть совершенно независим от любых частных разногласий между философами по всем другим вопросам – по вопросу о природе и происхождении «мышления», об отношении мышления к вещам, к чувствам и настроениям человека, к его симпатиям и антипатиям и т. д. и т. п.
Выделив из истории логики искомый «остаток», Кант убедился, что остается не так-то уж много – ряд совершенно общих правил, сформулированных еще Аристотелем и его комментаторами. Отсюда и его вывод о том, что логике как науке со времен Аристотеля «не [136] приходилось делать ни шага назад, если не считать улучшением устранение некоторых ненужных тонкостей и более ясное изложение, относящиеся скорее к изящности, нежели к достоверности науки. Примечательно в ней также и то, что она до сих пор не могла сделать ни шага вперед, и, судя по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной».
В самом подходе к делу отчетливо сказалось очень характерное для Канта стремление стать «над схваткой», стать «выше всех партий», выявить то, в чем они все согласны независимо от всевозможных разногласий, пререканий и противоречий, выявить в их взглядах только «тождественное», а все «различия» отбросить. Да, если бы истина добывалась так легко. Тогда лучшей логики и желать нечего…
Совокупность таких «общих» логических положений Кант и объединяет в «общую логику»: «Границы же логики совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая одни только формальные правила всякого мышления…»
«Одни только формальные» значит здесь абсолютно всеобщие, абсолютно-безусловные, совершенно независимые от того, о чем именно люди мыслят, каково «содержание» их мышления, какие именно понятия, представления, образы и термины в нем фигурируют.
Для логики важно одно: чтобы мысль, высказанная в словах, в терминах, сцепленных в сколь угодно длинную цепочку, не противоречила самой себе, чтобы она была с самой собою согласна. Все остальное логики не касается и касаться не может.
Очертив границы «общей логики», Кант тщательно исследует ее принципиальные возможности. Компетенция ее оказывается весьма узкой. В силу указанной «формальности», то есть принципиального безразличия к знаниям по содержанию, эта логика остается нейтральной не только, скажем, в споре Беркли со Спинозой, но и в споре любого из мыслителей с любым дураком, вбившим себе в голову самую смешную нелепость. Она обязана и нелепости вынести логическую санкцию, если та не противоречит сама себе. Так что самодовольная, согласная с собою глупость в глазах такой логики неразличима от самой глубокой истины. А как же иначе? Ведь «общая логика не содержит и не может содержать никаких предписаний для способности суждения», [137] способности «подводить под правила, то есть различать, подчинено ли нечто данному правилу или нет».
Значит, нужна иная логика или хотя бы новый ее раздел. Здесь уже нельзя отвлекаться от различия знаний по содержанию, от которого обязана отвлекаться общая, чисто формальная логика. И если «общая логика» формулирует самые общие и абстрактные «правила применения рассудка вообще», то новый раздел должен специально излагать правила применения рассудка к осмыслению реального опыта людей, то есть научного его применения. А здесь дело обстоит значительно сложнее.
Наука строится из обобщений, относительно которых она может представить более серьезные гарантии, чем просто ссылки на проделанный опыт. Иначе они имеют не большую цену, чем печально знаменитое суждение «все лебеди белы»: первый же попавшийся факт грозит их опрокинуть как карточный домик. И доверяться такой науке было бы небезопасно.
Один остроумный философ придумал несколько позднее забавную притчу, иллюстрирующую мысль Канта. Живет в курятнике курица. Каждое утро является хозяин и приносит ей зернышек поклевать. Курица, несомненно, сделает обобщение: появление хозяина связано с появлением зернышек. Но в один прекрасный день хозяин явится не с зернышками, а с ножом, чем и докажет курице, что ей не мешало бы обрести более серьезные представления о путях «обобщения»…
Суждения чисто эмпирического происхождения и содержания верны лишь по отношению к тому опыту, из коего они извлечены. Их нельзя ни в коем случае распространять на вещи, еще не побывавшие в этом опыте. Они верны, собственно, только с такой оговоркой: все лебеди, до сих пор побывавшие в поле нашего зрения, белые.
Научно-теоретические же суждения должны быть справедливы без такой оговорки. Отсюда и проблема – возможно ли, а если да, то почему, из протекшего «опыта» (стало быть, из части опыта) извлечь обобщение, претендующее на значимость и по отношению к будущему опыту? Почему мы убеждены, что суждение «все тела природы протяженны» не может быть опровергнуто дальнейшим опытом, сколько бы он ни длился, как бы широко он ни распространялся?
Единственный ответ, который находит Кант, заключается в следующем. Так уж устроен аппарат нашего [138] восприятия (зрения, осязания и т. д.), что все вещи «внешнего мира» он изображает перед нашим сознанием как протяженные, как пространственно-определенные. Поэтому в наш «опыт» вещь может быть включена только в качестве протяженной.
И даже если в природе имеются «непротяженные» вещи, а имеются такие или нет – нам неизвестно, то и их мы воспримем как «протяженные». Или вообще никак не воспримем.
Например, если предположить, будто наше зрение устроено так, что мы не воспринимаем никаких других цветов, кроме зеленого, то суждение «все лебеди зелены» мы бы посчитали за «всеобщее и необходимое», за верное по отношению ко всякому возможному будущему опыту.
Отсюда Кант и делает вывод, что кроме общей должна существовать логика, специально трактующая о правилах теоретического (по его терминологии, «априорного») применения интеллекта. Она должна дать набор схем, действуя в согласии с которыми мы образуем теоретические суждения, обобщения, претендующие на «всеобщий и необходимый» (в пределах всякого возможного, всякого мыслимого опыта) характер.
Такой раздел логики уже может и должен послужить каноном (если и не органоном) научно-теоретического познания. Кант присваивает ему наименование «логики истины» или «трансцендентальной логики».
Подлинно-первоначальными логическими формами (схемами) деятельности мышления теперь оказываются уже не закон тождества и запрет противоречия, а всеобщие схемы соединения, сочетания различных представлений, почерпнутых индивидом «из опыта».
Коренным недостатком прежней логики Кант считает то обстоятельство, что она вообще не пыталась рассмотреть и проанализировать эти фундаментальные схемы работы нашего мышления, акта производства суждений: «Я никогда не удовлетворялся дефиницией суждения вообще, даваемой теми логиками, которые говорят, что суждение есть представление об отношении между двумя понятиями… В этой дефиниции не указано, в чем состоит это отношение».
Если же от подобного вопроса не отмахиваться, то не нужно большой проницательности, чтобы увидеть: интересующее Канта отношение всегда представляет собой категорию. Категории же, то есть логические [139] моменты всех суждений, «суть различные возможные способы соединять представления в сознании… – пишет он в «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике», – понятия о необходимом соединении представлений в сознании, стало быть, принципы объективно значимых суждений». Например: связка «есть» в суждении, выражающая отношение, «имеет… своей целью именно отличить объективное– единство данных представлений от субъективного».
Категории как раз и суть те коренные, первоначальные схемы работы мышления, благодаря которым вообще становится возможным связный опыт: «Так как опыт есть познание через связанные между собой восприятия, то категории суть условия возможности опыта и потому a priori применимы ко всем предметам опыта»; «мы не можем мыслить ни одного предмета иначе как с помощью категорий…» Посему логика, если она хочет быть наукой о мышлении, и не может быть ничем иным, как связной системой («таблицей») категорий. Именно категории составляют формы (схемы) производства понятий, схемы извлечения из личного опыта всеобщих выводов, то есть всеобщих и необходимых суждений, совокупность которых составляет Науку…
Но тут мы и подходим к самому любопытному пункту логической теории Канта.
Категории позволяют человеку извлекать из своего личного опыта некоторые всеобщие истины, и «трансцендентальная логика» учит его действовать при этом правильно.
Однако перед человеком вырастает еще одна задача, решать которую его не может научить ни «общая логика», ни «трансцендентальная логика истины», – задача (или проблема) полного теоретического синтеза, соединения всех отдельных теоретических обобщений в единую теорию. Речь идет здесь уже не о единстве чувственных данных опыта в составе понятия, не о формах (схемах) объединения чувственно-созерцаемых явлений в рассудке, а о единстве самого «рассудка» и продуктов его обобщающей деятельности.
И в логике Канта возникает еще один этаж, своего рода «металогика истины», ставящая под свой критический контроль уже не отдельные акты «обобщения опыта», а весь процесс обобщения Опыта с большой буквы. Не отдельные функции мышления, а все Мышление в целом. [140]
Стремление к созданию единой, целостной теории относительно любого предмета естественно и неискоренимо. Мышление не может удовлетвориться простым нагромождением отдельных «обобщений», пусть даже каждое из них имеет «всеобщий и необходимый характер». Мышление всегда старается увязать их в составе целостной теории, развитой из единого принципа.
Способность, которая обеспечивает решение такой задачи, и называется у Канта «разумом» (в отличие от «рассудка», как способности производить отдельные, «частные» выводы из опыта). «Разум» как высшая синтетическая (объединяющая) функция интеллекта, в чем и состоит его специальная задача, «стремится довести синтетическое единство, которое мыслится в категориях, до абсолютно безусловного».
Дело в том, что только внутри такого полного «синтеза» каждое отдельное, «частное» обобщение опыта становится целиком справедливым в смысле всеобщности и необходимости.
Ибо только внутри полного синтеза можно оговорить все условия, при которых данное обобщение может считаться справедливым уже безоговорочно. А ведь только тогда оно делается вполне гарантированным от угрозы опровержения новым опытом, новыми и столь же правильными обобщениями…
Поэтому если научно-теоретическое (по терминологии Канта, «априорное») обобщение должно четко оговаривать те условия, при которых оно верно, и если полный перечень «определений» («предикатов») понятия предполагает соответственно полный перечень условий его истинности, то «разум» нужен не только там, где речь идет о сведении «всех» готовых понятий в единую систему, а и в акте каждого отдельного обобщения, в процедуре определения каждого понятия.
Но здесь-то и таится коварство. При попытке осуществить «полный» синтез (определений понятия и условий его истинности) мышление с неизбежностью, заложенной в его природе, впадает в состояние безвыходных, принципиально неразрешимых с помощью логики (как общей, так и трансцендентальной) противоречий – антиномий.
В трагическое состояние антиномичности «рассудок», то есть мышление, в точности и неукоснительно соблюдающее все правила логики, впадает вовсе не только потому, что «опыт» всегда не закончен, не потому, что [141] он на основе «части опыта» пытается сделать обобщение, справедливое по отношению ко всему «опыту в целом». Это бы еще полбеды. Беда же в том, что даже и протекший опыт, если только учитывать его целиком, тоже неизбежно антиномичен. Ибо сам «рассудок», если исследовать его, так сказать, анатомию, заключает в себе не только «разные», но и прямо противоположные категории, никак не совместимые одна с другой без противоречия.
Так, в инструментарии рассудка имеется не только категория «тождества», но и полярная ей категория «различия». Рядом с понятием «необходимость» в арсенале схем «объективных суждений» (то есть в таблице категорий) имеется также и понятие «случайность». И так далее. Причем каждая категория столь же правомерна, как и противоположная ей, и сфера ее применимости столь же широка, как и сам «опыт».
И любое явление, наблюдаемое нами в пространстве и времени, в принципе может быть осмыслено как в той, так и в другой категории. Я могу исследовать любой объект (и любую, сколь угодно широкую совокупность таких объектов) как под углом зрения «количества», так и под углом зрения «качества». Я могу рассматривать его как «причину» (необходимо следующих за ним событий), но с таким же правом могу осмысливать его и как «следствие» (всех предшествующих событий). И в том и в другом случае я нигде не преступлю никаких «логических» правил. А в итоге любое явление – смотря по тому, в какой именно категории я его мыслю, – может послужить основой для прямо противоположных логических действий; любое явление дает в логическом выражении два одинаково правильных как с точки зрения логики, так и с точки зрения «опыта», и тем не менее взаимоисключающих друг друга суждения.
Так что относительно любого предмета во вселенной могут быть высказаны две одинаково оправданные и тем не менее взаимоисключающие точки зрения. А в пределе – две теории, каждая из которых создана в абсолютно строгом согласии как со всеми требованиями логики, так и со всей совокупностью эмпирических данных. Поэтому «мыслимый мир», или мир, как и каким мы его мыслим, всегда «диалектичен», раздвоен в себе, логически противоречив. Что и обнаруживается сразу же, как только мы пытаемся создать теорию, [142] которая обнимала бы своими принципами все частные «синтезы», все частные обобщения.
Неизбежную, в самой природе мышления укорененную антиномичность можно было бы устранить только одним-единственным путем. А именно – выбросив из головы, из «инструментария рассудка», ровно половину всех категорий. Одну из полярных категорий объявив законной, а другую запретив использовать отныне и навек.
Но этого проделать нельзя, не обессмысливая заодно и ту категорию, которую почему-то решили сохранить. Да и как решить, какую из них оставить, а какую запретить? Предписать всем мыслящим людям впредь рассматривать все факты опыта только с точки зрения их «тождества», их «одинаковости» и запретить фиксировать в мысли «различия»? А почему не наоборот?
Тем не менее вся прежняя «догматическая метафизика» старалась поступать именно так. Она понимала, что иначе избавиться от антиномий внутри научного понимания действительности нельзя. И она объявляла, например, «случайность» – чисто субъективным понятием, простым названием для тех явлений, «причин» которых мы до сих пор не знаем, и таким образом превращала «необходимость» в единственно объективную категорию. Точно так же она поступала с «качеством», считая его чистой иллюзией нашей чувственности, и тем самым возводила «количество» в ранг единственно объективной характеристики «вещей-в-себе» и т. д. и т. п.
(Поэтому-то Гегель и назвал указанный метод мышления «метафизическим». И он действительно характерен для докантовской «метафизики», старавшейся избавить себя от противоречий за счет простого игнорирования половины законных категорий – «принципов суждений с объективным значением», – объявляя их принципами суждений «чисто субъективного» содержания… ненаучных суждений.)
Кант же, устанавливая корни антиномичности мышления в наличии прямо противоположных категорий, справедливо посчитал, что у философии нет никаких оснований предпочитать одну из полярных категорий в ущерб другой. Но как же тогда выйти из подобного тупика?
Единственный выход, который находит Кант, – признание вечной антиномичности «разума». Антиномичность – логическая противоречивость – суть наказание [143] «рассудку» за попытку превысить свои законные права, за попытку осуществить «абсолютно полный синтез» всех понятий, то есть высказать суждение о том, какова вещь сама по себе, а не только «во всяком возможном опыте».
Пытаясь высказать такое суждение, «рассудок» залетает в такую область, где бессильны все его законы и предписания. Он совершает преступление против границ своей собственной применимости, вылетает за границы «всякого возможного опыта». За что и карается противоречием каждый раз, как только теоретик возомнит, что он уже построил теорию, обнимающую своими понятиями все бесконечное многообразие эмпирического материала в своей области, и тем самым постиг «вещь-в-себе» такою, какова она есть независимо и до ее преломления через призмы нашей чувственности и рассудка… Появление логического противоречия Кант и оценивает как индикатор вечной незавершенности «опыта», а стало быть, и теории, на него опирающейся.
Неизбежную антиномичность «рассудка», пытающегося осуществить «безусловный синтез», то есть решить задачу «разума», Кант и назвал «естественным состоянием разума» – по аналогии с тезисом Гоббса о «войне всех против всех» как естественном состоянии человеческого рода. В «естественном состоянии» рассудок мнит, будто он способен, опираясь на ограниченный условиями времени и места «опыт», выработать понятия и теории, имеющие безусловно всеобщий характер.
Вывод Канта таков: достаточно строгий анализ любой теории, заявляющей претензию на абсолютно полный синтез, на «безусловное» значение своих утверждений, всегда обнаружит в ее составе более или менее ловко замаскированные антиномии.
Рассудок, просветленный критическим пониманием этого обстоятельства, сознающий свои законные права и не старающийся залететь в «трансцендентные» (запредельные для него) сферы, всегда будет стремиться к «полному синтезу», но никогда не позволит себе утверждать, что он такого синтеза уже достиг. Он будет скромнее.



