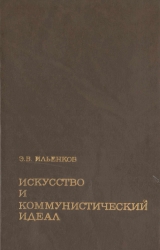
Текст книги "Искусство и коммунистический идеал"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Гегелевская концепция красоты и истины
Если искусство и художественное творчество вообще не являются простой забавой, простым заполнением часов досуга, а представляют собой форму деятельности, необходимой с точки зрения развития человеческой культуры, судеб цивилизации в целом, то никакая серьезная эстетическая теория не может пройти мимо гегелевской концепции искусства, не может просто отбросить ее как ошибочную, а обязана «снять» ее, сохранив ее в составе более глубокого и конкретного понимания, учитывающего все важнейшие факты развития искусства последних ста пятидесяти лет.
Ортодоксальная гегелевская схема, развитая в «Феноменологии духа», поставила, как известно, предел развитию искусства в плане «филогенеза» мировой духовной культуры. Искусство, согласно этой схеме, уже сослужило свою роль, оформив систему образов «художественной религии», исчерпав в этой форме все свои потенции, возможности творчества по законам красоты. Основная способность, обеспечивающая художественное творчество и им развиваемая, – продуктивное [324] воображение, управляемое, как компасом, принципом красоты, – оказывается здесь лишь несовершенной модификацией чисто теоретического разума, а красота – лишь внешней (чувственно-предметной), а потому – неадекватной формой проявления обнаженно-логической истины. По этой причине цветы искусства «опровергаются» плодами логики, вытесняются ими, занимают их место в духовной жизни человечества, а тем самым – и индивидуума, поднявшегося до высот духовной культуры, живущего, так сказать, на переднем крае духовной жизни человечества. Высшие запросы духа находят свое удовлетворение лишь в плане Логики, теоретического интеллекта, бесстрастного рассмотрения космоса с точки зрения вечности, безличного и безликого Абсолюта, и ни в коем случае не с человечески личностной точки зрения, которую не может покинуть искусство. Искусство же должно готовить индивидуума к переходу на эту позицию – на позицию теоретического аскетизма, где дух полностью господствует над плотью.
На первый взгляд кажется, что эта схема никак не оправдалась развитием мировой духовной культуры XIX и XX веков. В ней не нашлось места даже Бетховену, к музыке которого Гегель проявил кажущуюся странной для человека его вкуса глухоту. Искусство продолжало жить и рождать такие имена, как Рихард Вагнер и Лев Толстой, как Бальзак и Достоевский, если иметь в виду только бесспорные вершины. В ортодоксально-гегелевской схеме они в лучшем случае могли занять место подробностей, деталей, но не этапных шагов на пути эволюции мировой духовной культуры.
Поэтому очень заманчивым кажется отнестись к гегелевской концепции, к гегелевскому пониманию взаимоотношений между Логикой (теоретическим интеллектом вообще) и продуктивным воображением (то есть искусством) как к грандиозному заблуждению, и только. К заблуждению, которое не выдержало очной ставки с реальным процессом мировой духовной культуры.
Но тогда пришлось бы отнести в разряд курьезов и гегелевское решение вопроса об отношении истины и красоты, его тезис о наличии между ними внутренней, интимной связи. По этому пути пошли, как известно, очень многие представители теоретической эстетики и искусствознания. Но этот путь, если двигаться по нему неукоснительно и последовательно, приводит в тупик полного релятивизма, к отрицанию всякой возможности [325] установить прочные закономерные связи между тем миром, который открывает человеку наука, и тем миром, который рисует людям искусство, воображение, управляемое стремлением к красоте. Тогда эти два мира оказываются несоизмеримыми, между ними воцаряется непереходимый дуализм.
И тогда сама эстетика становится невозможной, ибо за теоретическим взглядом на развитие искусства тем самым отрицается всякое право на компетентное суждение, на анализ перспектив, на прогноз, вообще на позицию. Тогда исчезает всякая возможность теоретического различения в сфере искусства, и единственно правомочным судией здесь остается индивидуальный вкус. А это, как известно, судья весьма пристрастный, ненадежный и капризный.
И может показаться, что человек вообще здесь обречен на безысходный дуализм и каждый раз, оказываясь перед произведением искусства, вынужден выбирать между точкой зрения жесткого доктринерства, с одной стороны, и полной автономией личного вкуса, сознательно приглушающего голос рефлексии, игнорирующего ее доводы…
Что же лучше, или, вернее, что же хуже?
Превращение логической доктрины в решающий принцип отношения к художнику и его творениям сделало Гегеля глухим к музыке Бетховена (ибо отношение это не личная причуда, оно концептуально). С другой же стороны, вкус эклектически воспитанный вообще не в состоянии различить ослиный хвост и кисть Пикассо.
Разумеется, остаётся еще и испытанный метод эклектического «смягчения» крайностей: меряй-де искусство критериями доктрины, но оставляй права и за голосом личного вкуса, нерефлектирующего настроения… Это, конечно, не решение – проблема просто тысячекратно множится, воспроизводится каждый раз в том же виде, и в неясных случаях индивидуум опять оказывается в положении буриданова осла.
Нам кажется, что решение проблемы невозможно без устранения одной философско-теоретической предпосылки, одного старого предрассудка.
А именно – того представления, что человек и человечество изначально заперты в сфере феноменов сознания и не имеют выхода к объекту, а потому вынуждены один феномен мерить мерой другого феномена [326] и никогда оба эти феномена – третьей мерой, мерой реальности.
Если сохраняется этот предрассудок, именуемый нами философским идеализмом, то альтернатива – жесткий догматизм доктринерства или полный релятивизм эстетической оценки – остается также роковой.
У Гегеля мерой художественного сознания и его продуктов остается Логика, Логическое мышление, чисто теоретический интеллект, в коем он усматривает энтелехию, начало и цель всего духовного развития. У Шеллинга мы имеем обратную схему: здесь интуиция гения художника, гения продуктивного воображения становится судьей над наукой, а логическая истина – лишь отсветом интуитивно ухватываемого «абсолюта».
Между этими полюсными точками можно расположить массу промежуточных решений, в том числе такого масштаба, как система Б. Кроче. При любом из таких вариантов проблема остается трагически неразрешимой. Логическое конструирование не даст решения, сколько и как ни подмешивай к нему дозу иррациональной интуиции. Как, разумеется, и наоборот.
Одну форму сознания вообще рискованно превращать в критерий суда над другой формой сознания – это всегда чревато тяжкими «судебными ошибками». Науку (логически-теоретический интеллект) и продуктивное воображение, управляемое принципом красоты (то есть искусство), ни в коем случае нельзя рассматривать как высшую и низшую по рангу ступень феноменологии духа. Нельзя рассматривать одну из них как «несовершенный образ» другой. Ни красоту в качестве не до конца разоблачившейся истины, ни истину в качестве препарированной красоты.
Это – две самостоятельные, равноправные по отношению друг к другу формы сознания. Одна из них не является несовершенной, «неадекватной» копией с другой.
Но как же тогда сохранить при этом понимание внутреннего отношения между истиной и красотой, между наукой и искусством?
Только через «третье». И этим «третьим» не может быть очередная форма сознания и воли, очередная сфера феноменологии, будь то мораль или право, философия или религия.
Этим «третьим» может быть только их общий предмет – объективная реальность в том ее серьезном [327] понимании, которое установила серьезная материалистическая традиция в философии.
В этом случае можно понять, почему при всей автономности и суверенности по отношению друг к другу сфера «красоты», мир образов искусства, обнаруживает со сферой науки, с царством понятий, по существу, родственные черты, почему мир науки в конце концов «похож», так сказать, «изоморфен» миру художественных образов.
Два портрета могут быть похожи один на другой, и это не значит, что один из них надо судить по степени сходства с другим. Они оба имеют общий прообраз – и в этом все дело, по степени сходства с ним можно судить о качестве обоих. И тогда окажется, что один из них в чем-то справедливо корректирует другой, и делают они это взаимно.
И эта взаимная корректировка особенно настоятельно требуется в тех условиях, когда человеческая цивилизация еще не успела преодолеть так называемые условия «отчуждения», «отчужденную» форму развития человеческих способностей, – когда научное и художественное развитие человечества осуществляется в форме двух профессионально обособившихся друг от друга сфер разделения общественного труда, когда одна продуктивная способность развивается в индивидууме как раз за счет другой, за счет его недоразвитости в отношении этих других способностей, а их кооперация осуществляется только через ряды случаев, а потому сама начинает казаться счастливой случайностью, «личной особенностью» таких лиц, как Эйнштейн, и равных ему по масштабам дарования. Лиц, через деятельность коих осуществляется приращение мировой духовной культуры именно потому, что в этих точках осуществилась благодаря счастливому стечению обстоятельств нужная для сего кооперация теоретического интеллекта с развитой силой продуктивного воображения.
Таким образом, единственно возможное решение той проблемы, которая со времен Гегеля получила название проблемы «отчуждения» и «обратного присвоения» отчужденных человеческих способностей, заключается только в ликвидации той формы разделения общественного труда, которая с неизбежностью превращает каждого индивида в носителя (субъекта) профессионально-ограниченной способности, в «частичного человека», если воспользоваться выражением Маркса. [328]
Решение проблемы заключается в создании для каждого индивидуума таких условий человеческого развития, внутри которых исчезла бы самая возможность диспропорции между интеллектуально-теоретическим развитием, с одной стороны, и художественно-эстетическим развитием – с другой; и это возможно осуществить только в том случае, если развитие индивидуума будет совершаться через потребление действительных, то есть выверенных веками человеческой жизнедеятельности, классических образцов теоретического мышления и художественного творчества.
Поэтому-то коммунистическая идеология и ориентируется, вполне сознательно, исходя из четких теоретических представлений о единственно возможном пути «снятия отчуждения», на классическую философию и на классическое искусство и с оправданным недоверием относится к так называемому «модернистскому» искусству и позитивистской философии, ибо видит в них не путь «снятия отчуждения», а, наоборот, путь углубления этого отчуждения, его логическое и эстетическое оправдание и санкцию.
Модернистское искусство представляет поэтому для марксистской эстетики не самодовлеющий интерес, не форму воспитания продуктивных способностей, потенций индивидуума, – она рассматривает его как некритическую форму сознания, объективно свидетельствующую о наличии «отчуждения», о процессе его углубления, и тем самым – как форму логического и эстетического приспособления (адаптации) индивидуума к нечеловеческим условиям развития и существования.
К «модернистскому» искусству отношение наше поэтому категорически отрицательное, ибо это «искусство» не развивает способность продуктивного воображения, то есть свободного воображения, а культивирует вместо него произвол воображения, не способность «схватывать целое раньше частей», а способность гипертрофировать частности.
Оно ни в коем случае не развивает в человеке той способности свободного воображения, регулируемого чувством красоты, которое требуется на современном уровне развития мировой культуры, на том уровне, на котором работал, например, интеллект Эйнштейна, а ориентируется на уровень сознания профессионально ограниченного, «частного» работника.
Поэтому эстетическая теория, опирающаяся на идеал [329] всесторонне развитой личности, на полную ликвидацию «отчуждения», и в отношении к искусству занимает четкую, теоретически выверенную позицию, ориентируясь на те формы искусства, которые не порывают с классической традицией в понимании красоты и идеала человеческой красоты. Именно поэтому марксистская эстетическая теория смогла не отбросить гегелевскую концепцию красоты и истины, а «снять» ее.
С другой же стороны, гегелевская схема заключает в себе с этой точки зрения гораздо большую долю истины, чем может показаться на первый взгляд. В том смысле, что она – независимо от субъективных намерений и симпатий ее создателя – выразила гораздо более правдиво основную тенденцию, в направлении которой определяет судьбу искусства стихийно-рыночная, то есть товарно-капиталистическая, организация человеческих взаимоотношений, чем позднейшие чисто апологетические концепции эстетики, некритически принимающие эту организацию как «естественную» почву развития искусства.
Она цинично-трезво выразила то реальное обстоятельство, которое позднейшая история духовной культуры XIX и XX веков подтвердила практически, – то, что стихийно-рыночная, частнопредпринимательская организация общественных отношений, по существу, «прозаична» и потому враждебна поэзии и красоте, что искусство на этой почве становится всё более рефлектирующим, с одной стороны, а с другой – утрачивает интимную связь с подлинно теоретическим интеллектом и потому не может рождать плодов, соответствующих взлетам научно-теоретической мысли.
Вряд ли случаен тот факт, что эстетические симпатии Альберта Эйнштейна, созвучные с его теоретическими открытиями, были, как хорошо известно, «консервативны». В музыке они, в частности, не простирались дальше Баха и Моцарта; в Вагнере и даже в позднем Бетховене он усматривал то самое «неистовство субъективности», которое никак не гармонирует с объективно-научным взглядом на мир и даже мешает ему. Этот его взгляд очень похож на гегелевский, хотя, что не менее интересно, исходит он совсем, казалось бы, из других оснований.
Нельзя забывать, что и Вагнер кончил всё-таки «Парсифалем» – произведением, которое по идейно-эстетическим интенциям гораздо ближе к гегелевскому [330] идеалу искусства как «художественной религии», чем ранние его творения… Стоит вспомнить и о том обстоятельстве, что Лев Толстой в «Крейцеровой сонате» занял по отношению к Бетховену позицию, весьма напоминающую гегелевское неприятие этой музыки.
Всё это говорит о том, что практика искусства XIX века, и именно в лице его бесспорных лидеров, подтвердила гегелевское отношение к искусству гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. Всё это говорит о том, что гегелевская эстетика выразила очень точно те тенденции, в направлении которых на самом деле эволюционировало искусство на почве стихийно-рыночных отношений между людьми, в условиях товарно-капиталистической, частно-предпринимательской организации их взаимоотношений.
Поэтому гегелевский взгляд на искусство, на его взаимоотношения с научно-теоретическим интеллектом и его роль в процессе «отчужденного» развития человеческих способностей может найти свое полное и окончательное «опровержение» только на пути реального преобразования условий человеческого развития и человеческой жизнедеятельности, только на пути социалистического преобразования, на пути реального обобществления условий человеческого развития и жизнедеятельности.
Пока это не произошло, гегелевское понимание остается «истиной» – в смысле выражения (некритического) истинного отношения товарно-капиталистического мира к искусству, – а потому и некритическим выражением всех тех неразрешимых на этой почве антиномий, через которые совершается здесь художественное развитие.
Критически-революционное же отношение к этим условиям художественного развития – коммунистический способ решения пресловутой проблемы «отчуждения» – тем самым и оказывается той единственной точкой зрения, с которой возможно действительно конкретное «снятие» гегелевской схемы, действительное разрешение всех ее антиномий. Решение не утопическое, а вполне реальное, ведущее к гармонии теоретического интеллекта и художественно-эстетического сознания, продуктивного воображения, управляемого принципом красоты.
Вместо гегелевского решения, превращающего искусство и красоту в «служанку» логического интеллекта, в его «несовершенное подобие». [331]
И красота и истина здесь оказываются равноправными принципами реальной человеческой жизнедеятельности, взаимно-предполагающими и взаимно оплодотворяющими одна другую формами сознания реального, общественно-производящего свою жизнь человека и человечества. Здесь они внутренне обретают отношение друг к другу через общий им обеим прообраз – через реальный мир, открывающийся человеку только через общественную, коллективную деятельность, через чувственно-предметное преобразование естественно заданных и исторически унаследованных условий этой деятельности. Через постоянное творческое преображение природы силой ассоциированного человечества. На этой основе все подлинные завоевания гегелевской эстетики действительно могут быть критически переработаны и усвоены, «сняты», а не просто отброшены. В этом свете, по-видимому, только и могут быть теоретически верно поняты и перспективы, и функция, и возможности, и обязанности искусства в организме человеческой цивилизации, а тем самым и окончательно разрешена теоретическая проблема отношения красоты к истине и к «добру», к «благу» людей, ее гуманистический смысл и суть.
Заметки о Вагнере
Обыкновенно Вагнера представляют себе как автора ярких, блистательно оркестрованных симфонических эпизодов – полёта валькирий, заклинания огня, шороха леса и тому подобных поражающе красочных картин. Это представление складывается совершенно естественно у всякого, кто знакомится с творчеством Вагнера по концертам, по радиопередачам, особенно по нашим, да еще подкрепляется комментариями наших музыковедов, отдающихся к тому же на такие авторитеты, как Чайковский. Тот, как известно, видел в Вагнере непревзойденного мастера оркестровки, а все остальное в его творчестве считал скучным, неинтересным и бесперспективным – продуктом схоластического мудрствования. Вагнер-де варварски относился к человеческому голосу, к вокальным партиям, в итоге разрушил естественные оперные формы в угоду своим нелепым теориям о «синтезе искусств» в музыкальной драме, – теориям, которые, по мнению искусствоведов, оказались нежизнеспособными и не оправдались в практике дальнейшего развития искусства и только мешали-де самому Вагнеру полностью реализовать свой талант оперного композитора.
Это представление и связанные с ним музыковедческие рассуждения имеют очень мало общего с действительным Вагнером, с сущностью его искусства и со всем тем, что он на самом деле натворил в практике и теории. Оно столь же односторонне, глупо и ничего не объясняет как, например, представление о Льве Толстом как о писателе, который очень умело изображал сцены охоты, русские пейзажи и батальные сцены… и ничего более.
Такое представление хотя и не неверно (мастером оркестровки и контрапункта он действительно был непревзойденным, и достижения его в этом плане повлияли на всю мировую музыку настолько, что всегда сразу можно сказать, это написано до Вагнера, а это – после него; в этом смысле Вагнер – такой же рубеж в развитии мировой музыки, как и Бах), но самого главного оно в нем не отражает. И чтобы вообще быть в состоянии правильно воспринимать его музыку, от такого представления надо отказаться раз и навсегда. Иначе девяносто процентов его музыки вообще пройдет мимо ушей и, слушая его драму, человек будет скучать, томиться и ждать, когда же наконец кончатся речитативы и начнется [333] симфонический эпизод. А чисто симфонических эпизодов у него не так уж и много – они почти все заиграны в концертах и надоели.
На самом деле «теории», реализованные у его творчестве, вовсе не были результатом схоластического мудрствования сами но себе они – очень естественный и очень яркий рефлекс эпохи, притом эпохи письма серьезной и содержательной. К тому же дело обстояло совсем не так, будто Вагнер сначала придумывал теорию, а затем реализовывал ее в музыке и текстах своих трагедий. Его теории просто были очень четким и острым выражением того, что он делал в качестве поэта и композитора. Но объяснять его творчество только его теориями никак нельзя. И то и другие объясняется совсем другой системой фактов – той самой действительностью, к которой был органически слеп и Чайковский и многие профессиональные музыковеды
Наиболее умные из писавших о нем (Р. Роллан, Т. Манн, Б. Шоу) видели в нем совсем другое. Есть даже совсем противоположный, по сравнению с узко-музыковедческим, крен в его понимании – когда его рассматривали прежде всего как философа. «Философия жизни» считала его своим предтечей. Экзистенциалисты на каждом шагу цитируют его стихи, фрейдисты видели в нем художественно высказанный гениальный психоанализ, сторонники Шопенгауэра – художественного интерпретатора его философии, и пр. И все это в нём, по-видимому, действительно есть. Не случайно на Западе о Вагнере-философе написано больше, чем о Вагнере-музыканте, причем о философе не меньше, чем о Гегеле.
При всём том сам он как теоретик написал почти столько же, сколько Гегель и, уж во всяком случае, больше, чем Фейербах и Шопенгауэр. И это само по себе представляет большой интерес.
Но ясно, что его музыкальные трагедии интереснее и богаче, чем то, что он написал в качестве теоретика и философа.
Такой иронический ум, как Б. Шоу, без всякой иронии, на полном серьёзе, ставит его рядом с Марксом – по всемирно-историческому смыслу и значению его творчества. Он говорил, что Вагнер в качестве художника доказал человечеству то же самое, что сделал Маркс в качестве теоретика, а именно ни больше ни меньше, чем закономерность крушения цивилизации, основанной на власти золота, на базе товарно-денежных отношений. Он-де показал абсолютную неизбежность ее внутреннего разложения, логику этого разложения, однако не с помощью строгих понятий, а с помощью столь же строгих по своей необходимости чувственно-эмоциональных образов, их движением, их эволюцией, их развитием, совершающимся через столкновения, как внешние, так и внутренние – психологические.
Ставить или не ставить Вагнера рядом с Марксом по его действительному историческому вкладу – решение этого вопроса мы оставляем на совести английского драматурга, но вернее Шоу, по-моему, никто не указал на действительный ключ к пониманию всего его творчества. И не только «Кольца», где это выступает прямо и даже разъясняется словами, текстом, но и таких вещей, как «Тристан и Изольда».
(Кстати, забавный факт. Один из биографов Шоу познакомился с ним в библиотеке Британского музея, так он обратил внимание на странного человека, который изо дня в день изучал параллельно два фолианта: «Капитал» и партитуру «Тристана»…)
Вагнер действительно в своем художественном творчестве решал своими средствами те же самые проблемы и антиномии, [334] которые разрывали Европу XIX века и по-разному выражались в разных сферах сознания, теоретической и художественной культуры. То есть почвой, на которой вырос Вагнер, были события действительно всемирно-исторического значения: буржуазное преобразование экономических, политических и т. п. условий жизни человеческого индивидуума, с учетом тех перспектив, которое это преобразование прорисовывает для этого индивидуума.
На протяжении всей своей жизни Вагнер разделял все главные иллюзии этого процесса, придавая им предельно острое художественное выражение, переживая последовательно крах этих иллюзий, ища новые точки опоры и приходя к новым иллюзиям.
Поэтому его творчество оказалось своеобразной «Феноменологией духа» всего XIX века – процессом последовательной смены одних состояний этого духа другими, причем каждое из этих состояний есть не что иное, как предельно остро обобщенный и крайне типичный способ мироощущения человеческого индивидуума, втянутого в мясорубку буржуазно-капиталистического преобразования всех отношений между людьми.
При этом Вагнер все эти стадии пережил личностно, пытаясь каждый раз дать себе строго рациональный отчет в том, что происходит. Делая это, он все время обращался к самым значительным философским системам своего времени. Миновал он только марксизм. Левогегельянство (Д. Штраус), Фейербах, Штирнер в бакунинской редакции, в сочетании с «истинным социализмом», с Руге и Гессом, затем – Шопенгауэр в сплаве с кое-какими идеями Ницше и, наконец – как финал и тупик этой линии развития, – соединение буддизма с христианством. Человеком он был весьма импульсивным и увлекающимся и разделял все эти способы мироощущения и миропонимания целиком и полностью.
На этой почве и вырос весь грандиозно сложный вокально-оркестровый язык Вагнера с его совершенно потрясающей внутренней напряженностью – тот самый аппарат средств выражения, о котором Р. Роллан говорил, что он «заряжен миллиардами вольт». Весь его трагически-исторический пафос, который то разражается громами и молниями невероятной силы, то сразу же после разряда энергии стихает в состоянии полного безволия и беспросветного уныния и всегда в конце концов разрешается в смерть, как в некое единственно блаженное состояние, как в идеал состояния духа, где царит абсолютное молчание, абсолютный покой и мрак – Мировая Ночь в «Тристане».
Поэтому вся система его образов движется между предельно контрастными полюсами, а самая типичная форма развития музыкальной ткани – это постепенное нарастание звуковой напряженности ритмов, интонаций, сложности оркестровой ткани, неустойчивости гармонических отношений, контрапунктических контрастов и пр., – постоянное нагнетание до предела и дальше всякого предела. Кажется, все доведено до предела напряжения нервов, восприятия слушателя, даже просто его барабанных перепонок, но нет: Вагнер находит способы еще более увеличивать напряжение, еще болезненнее взвинчивать нервы – не громкостью и мощью медной группы, так трагизмом текста, не остротой оркестровки, так ритмами, и т. д. и т. п. Это та самая его «неумеренность» в средствах выражения и выразительности, которую часто обзывали «безвкусицей», пренебрежением ко всем правилам «нормального» человеческого восприятия и пр., и пр., гигантоманией…
И всё это нарастает, нарастает и нарастает, чтобы в конце [335] концов с грохотом низвергнуться в бездну, в безмолвие, в небытие. По дороге, правда, он делает остановки, дает отдохнуть на островках безмятежного счастья, но при этом всё время напоминает, что это только минутная остановка на пути к еще более грандиозным ураганам, то дающим о себе знать где-то на заднем плане зловещими тембрами, то глухими ритмами в басах, которые расходятся с плавно льющимися верхами и пр., – в общем, всегда находит тысячи способов, так сказать, «отразить» ощущение покоя и уравновешенности…
Музыкально, например, весь «Тристан» построен совершенно намеренно (это показывает формальный анализ его музыкальной ткани с точки зрения школьных, азбучных принципов гармонии) как постоянное накопление гармонической «неустойчивости» звучания. Есть жесткие формальные законы соединения звуков, по своей строгости подобные учению о модусах силлогизмов, на них-то и основывается вся система так называемого «ладового звучания» – до-мажор, си-минор, ля-бемоль мажор и т. д. Любая мелодия может быть отнесена путем чисто формального анализа к одной из тональностей при этом переход из одной тональности в другую происходит опять-таки по жестким правилам Они достаточно абстрактны, чтобы давать простор самым разнообразным сочетаниям, но в то же время достаточно определенны, чтобы категорически запрещать, как нечто абсолютно антиэстетическое, некоторые способы соединения мелодии с аккордовым сопровождением, или два последовательно звучащих аккорда, или две мелодии в контрапункте. Эти правила говорят о том, что звучания, построенные по определенному принципу, «естественно» тяготеют к определенным же другим звучаниям и, наоборот, активно «отталкивают» неродственные им созвучия. По этим правилам известные звуковые комплексы «разрешаются» в другие. В «Тристане» Вагнер намеренно не даёт музыкальной ткани «разрешиться» в такой аккорд, который создавал бы впечатление «законченности», «завершенности» музыкальной фразы. Мелодически-гармоническая структура, кажется, вот-вот готова разрешиться по формальному правилу в спокойный, завершающий аккорд, который звучал бы как точка в конце фразы. Но вдруг музыка делает какой-то на первый взгляд совершенно неожиданный и капризный поворот, никак не объяснимый с точки зрения строго формальных правил перехода из одной тональности в другую – и звучание делается снова неустойчивым, требующим какого-то другого завершения. В итоге вся музыка «Тристана» оказывается с точки зрения школьных правил сочетания тональностей каким-то грандиозным парадоксом. Рассечению на ладовые элементы она явно не поддается. Чайковский обозвал за это музыку «Тристана» «пакостными хроматизмами». «Тристан» и на самом деле ломает всю ладовую, тональную систему построения музыкальной ткани. Это – первое сочинение так называемой «атональной» музыки, но здесь это не каприз, а выражение сознательно реализуемого замысла. И только в финале, в знаменитой «Смерти Изольды», Вагнер дает музыке разрешиться в долгожданный «спокойный» аккорд. Тот самый аккорд, наступить которому как бы «мешали» всевозможные препятствия, лежащие вне формальной структуры музыкальной ткани, – то это внешний поворот событий, то «капризный», но эмоционально оправданный изгиб в настроении действующих лиц, то контрастное столкновение таких настроений. В итоге с точки зрения формальной это – фатальный парадокс, а с точки зрения более [336] широкой – как раз наоборот Р. Роллан, например, категорически оценивает «Тристана» как самое высокое и правдивое выражение, которое мировое искусство сумело найти такой теме, как любовь.
Теперь, после этих предварительных соображений, коротко о том, что такое «Кольцо нибелунга». В творчестве Вагнера – это средоточие всех его художественных и теоретических принципов, дело всей его жизни. Писал он его двадцать шесть лет, а вынашивал – еще дольше.
По внешней, сюжетно-образной канве – это попытка свести воедино всю северогерманскую мифологию (вовсе не только «немецкую»), выявить ее художественно-образный смысл. Но почему именно «миф»? На этот счет у Вагнера были самые продуманные соображения. Дело в том, что весь пафос его творчества питался той самой старинной иллюзией, которую разделяли многие великие художники, в том числе Л. Толстой. Заключается эта иллюзия в том, что будто бы средствами искусства можно переделать мир. Не мир в смысле «вселенной», а мир человеческих взаимоотношений: стоит только преобразовать психологию современников, перестроить систему их нравственно-эстетических принципов – и они изменят и внешние отношения друг к другу.



