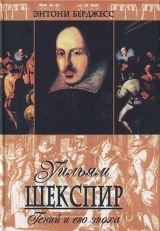
Текст книги "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
После убийства Полония накал действия вызывает воспоминания о более серьезных предметах, чем драма, разыгрываемая внутри драмы. Гамлет становится Эссексом. Король говорит:
Как пагубно, что он на воле ходит!
Однако же быть строгим с ним нельзя:
К нему пристрастна буйная толпа,
Судящая не смыслом, а глазами;
Она лишь казнь виновного приметит,
А не вину.
Затем, когда Гамлета отсылают из страны, Лаэрт, сын убитого Полония, становится Эссексом. Толпа называет его «господином» и кричит: «Лаэрт король! Он избран!» И разве нет воспоминания об убитом Эссексе в куплете песенки безумной Офелии: «Веселый мой Робин мне всех милей»?
И он не вернется к нам?
И он не вернется к нам?
Нет, его уже нет,
Он покинул свет,
Вовек не вернется к нам.
Со смертью Офелии Шекспир возвращается домой, в Уорикшир и свое детство. В пьесе Кида Гамлет заставлял Офелию умереть, сбросив ее со скалы; Шекспир топит ее в изобилии у Орикширских цветов:
«Грубей их кличка» – бычьи половые члены. Иносказательная информация о названии цветка так неуместна здесь (в конце концов, королева рассказывает расстроенному молодому человеку о смерти его сестры), что приходится сделать вывод, что Уилл позволил вырваться на волю уорикширским воспоминаниям, которые и погубили дело. Ведь он вспоминает о девушке, которая жила неподалеку от Стратфорда, когда он был мальчиком, и которая утопилась в Эйвоне, ходили слухи, что из-за любви. Ее звали Кейт Гамнет. В ней соединились Офелия и его собственный умерший сын.
И в сцене рытья могилы, до того как первый могильщик отсылает своего помощника «за скляницей водки» в датскую пивную, которую содержал «Йоген», перечисляются аргументы стратфордского коронера относительно христианских погребальных правил при самоубийстве. Когда появляется Гамлет с Горацио, выброшенные из могил черепа дают повод для размышления о трех аспектах шекспировской карьеры, персонифицированной в мертвом лорде («Вот замечательное превращение, если бы только мы обладали способностью его видеть. Разве так дешево стоило вскормить эти кости, что только и остается играть ими в рюхи?»), мертвом адвокате (с блестящей демонстрацией знания законов, как будто поэт показывает нам, чему он научился в заплесневелой конторе Стратфорда) и великом умершем клоуне, Йорике, конечно, Дике Тарлтоне, который (если карьера Шекспира, действительно, началась с труппы «слуг королевы»), образно говоря, «носил на спине» ученика драматурга.
Пьеса движется к завершению. Наступает вечер, так что финальную сцену, возможно, играют при освещении, и труп Гамлета, вероятно, уносят в сопровождении факельщиков. Трупы, которыми завалена вся сцена, возвращаются к жизни, чтобы отвесить поклоны. Полоний и его дочь поднимаются из могилы, чтобы принять аплодисменты, и Призрак появляется, чтобы получить свою толику благодарности. Публика знает, что это автор, но она не понимает его величия. Некоторые предпочли бы видеть «Гамлета» в старом варианте. Бербедж, весьма справедливо, получает львиную долю аплодисментов. Вот и молитва за здоровье королевы, и публика расходится. Дни исполнения после спектакля непристойной джиги – легкого десерта после тяжелой мясной пищи – миновали, они ушли вместе с Уиллом Кемпом. Представление закончилось, но актеры должны просмотреть другую пьесу, назавтра – возобновление чего-то, возможно комедии. Эта трагедия выжала из них все соки.
Мы восстанавливаем в воображении детали представления на елизаветинской сцене, используя догадки и предположения о том, что видела публика. Но у нас есть полное представление о том, что публика слышала, и это совсем не то, что мы слышим сегодня. Шекспировские пьесы выглядят сейчас так же, ин-кварто или фолио, как они выглядели почти четыре века назад, но английское произношение претерпело с тех пор много изменений, и большинство из нас было бы шокировано, если бы машина времени перенесла нас в «Глобус» на «Гамлета», ибо мы заметили бы, как провинциально звучит английский Шекспира. Чтобы представить его фонетическое воздействие, мы должны попытаться вообразить Бербеджа, говорящего с акцентом, частично ланкаширским, частично Новой Англии, частично дублинским. Когда играют пьесу внутри пьесы, Гамлет говорит Офелии, что она называется «Мышеловка» и что это название имеет «переносный» смысл. «Tropically» произносили на современный американский манер, почти как «trapically». Здесь есть игра слов, которая исчезла в современном произношении. Тогдашний язык звучал провинциально, но, как показывает «Гамлет», он нес неподъемный груз космополитической сложности.
Меньше чем за десять лет английская сцена прогрессировала от скрипучей мелодрамы к интеллектуальной изысканности, высот которой не удалось достичь немногим постъелизаветинским драматургам, ибо один перегнал всех. Это само по себе достижение огромной важности, достаточно одного этого, чтобы прославить любой монархический режим, но, как нам известно, были и другие достижения. Все великие произведения того века, похоже, отмечены печатью той гениальности, которой обладала Елизавета, единственная в истории английской короны. «Гамлет» принадлежит ей, но также и псалмы Берда, Королевская биржа, кругосветное плавание «Голден Хинд», поселения в Виргинии, восстановление англиканской церкви, объединенные акционерные компании, поражение Испании – вот только некоторые из многочисленных памятников ее правления, уже приближавшегося к концу.


Поселенцы в Виргинии вступили в контакт с американскими индейцами, представленными здесь матерью с ребенком, охотником и церемониальным танцем
Тень трагедии Эссекса исчезала медленно, но никто не стал бы отрицать, что справедливость восторжествовала и что королева пострадала больше других, добиваясь заслуженного наказания. Ее правление заканчивалось в атмосфере довольно печального спокойствия. Маунтджой добился успеха в Ирландии, что не удалось сделать Эссексу, Тайрона, окруженного в Кинзейле, быстро заставили капитулировать, и испанская армия, таким образом, лишилась поддержки. Эхо дерзких набегов Дрейка и Хокинса отразилось в подвиге сэра Ричарда Левесона, когда он захватил под носом у противника, на пути к Каимбре, португальскую карраку (вооруженное купеческое судно), нагруженную золотом. Но вспоминать о прошлом не значит возвращать его. Оптимизм умер; вера в то, что люди, наделенные властью, станут действовать благородно, находилась при последнем издыхании. Елизавета все еще не могла забыть историю Ричарда II. «Тот, кто забудет Бога, – сказала она, – также забудет своих благодетелей. Эта трагедия разыгрывалась сорок раз под открытым небом и в домах». Маунтджой, теперь ее лорд-представитель в Ирландии, еще раз готов был, как Эссекс, вести армию против нее. Мужчинам нельзя было доверять, все они скроены на один лад. (Именно это пытался сказать Шекспир в своих новых пьесах.) И был Генрих IV Французский, которому Елизавета помогала не раз и который сейчас, когда Англия нуждалась в деньгах, отделывался только красивыми словами. «Антихристом по неблагодарности» называла его Елизавета. Однако порой люди оказывались достойными доверия и любви. Последний парламент Елизаветы, приготовившийся горько сетовать на то, что они считали позорным фактом, а именно наличие королевских монополий (как откуп сбора налога на вино, который когда-то принадлежал Эссексу), закончился шумными возгласами одобрения в ее честь, так что ей пришлось ответить: «Хотя Бог высоко поднял меня, однако я приписываю вашей любви славу моего престола, которым я управляла».

Очень современно выглядит карта мира Хондиуса, испещренная маршрутами Дрейка и Кавендиша; она лишний раз доказывает, что кругосветное путешествие зависело не столько от судьбы, сколько от замечательной суммы знаний

Одна из достопримечательностей правления Елизаветы – «Королевская биржа»
Как все в мире, это было правдой и неправдой. «У меня были хорошие соседи, но встречались и плохие: и в доверии я обрела сокровище» – слова, которые она произнесла в парламенте за два года до разгрома Армады. И далее: «Что касается меня, то я не вижу серьезной причины, по которой я должна была бы любить жизнь или бояться умереть». В 1603 году, на семидесятом году жизни, это в еще большей степени стало ее философией. Она по-прежнему не жаловалась на здоровье, но и не пыталась беречь себя. В необычно холодный январь того года она смело вышла на улицу в легком платье, в то время как ее придворные кутались в меха. В феврале она появилась во всем своем царственном блеске перед посланником из Венеции, но когда посланник поздравил ее с отличным здоровьем, она не ответила ему. Возможно, ей неприятно было думать о том, что ее здоровье – залог долгих лет жизни: она не была влюблена в жизнь.
Приблизительно через неделю умерла ее кузина и подруга, графиня Ноттингемская, и Елизавета приняла эту смерть как предлог, чтобы впасть в меланхолию. Она не желала поправляться: казалось, в смерти она видела свое освобождение. Она отказалась от всех материальных символов власти. Незадолго до этого она срезала с пальца кольцо, которым ее венчали на царство. Однако не снимала до самой смерти небольшое кольцо, которое когда-то подарил ей Эссекс. 19 марта 1603 года Джеймсу Шотландскому дали знать, что он должен быть наготове: одному актеру предстояло вскоре покинуть сцену, другой должен был чутко прислушиваться к сигналу на выход. Елизавета не заставила его долго ждать. Она впала в кому и лежала, отвернувшись лицом к стене. 24 марта, между двумя и тремя часами утра, она тихо скончалась.
Поэтам было нечего сказать. Не осталось пьес под названием «Удивительное правление, или Английская королева-девственница». Актерам предстояло обратить свой взор к тому, чей выход был следующим. Десять лет прошли до того дня, как Шекспир в «Генрихе VIII», как раз перед самым пожаром, уничтожившим «Глобус», предрек, что прошлые доблести еще проявят себя в будущем. Профессиональные писатели оказались способны выдать по случаю похорон только банальные памфлеты, подобные «Удивительному году» Деккера: «Она пришла, когда падали листья, и ушла весной: ее жизнь (которую она посвятила Девственности) и началась и завершилась чудесным Девичьим кругом, так как она родилась накануне Благовещения и умерла накануне Благовещения, ее Рождество и смерть примечательны этим чудом: первый и последний год ее правления отмечены тем, что Ли был лордом-мэром, когда она пришла на коронование, и Ли был лордом-мэром, когда она покинула его. Три места прославила она: Гринвич – благодаря рождению, Ричмонд – благодаря смерти и Уайтхолл – благодаря похоронам».
Возможно, никто, даже Шекспир, не смог найти подходящих слов. Само потомство продолжает поиски их.
Глава 16
VI И I
Король Джеймс прибыл в Лондон, он жаждал заполучить корону более великую, чем шотландская. Всю дорогу на юг он охотился – живых зайцев несли при его кортеже в корзинах. Он любил травлю. В Ньюарке он приказал повесить без суда вора-карманника. Монарх стоял над законом. Между Эдинбургом и Лондоном он сделал рыцарями три сотни человек. Он умел быть щедрым, когда это стоило ему недорого. Простых людей он не особенно жаловал. Они приветствовали его криками, но ему не хватало изящности своей предшественницы. «Клянусь Богом! – кричал он. – Я спущу свои штаны, и пусть они любуются моей задницей». Он имел склонность к гомосексуализму. Он и вполовину не был тем мужчиной, каким была его предшественница, но видел себя Цезарем цезарей – Императором императоров. Никакая лесть не казалась ему чрезмерной. При дворе возобновили подхалимские церемонии, доведенные до тошнотворного абсурда. Знатные лорды должны были ждать его у стола, чтобы, встав на одно колено, подавать блюда. Он не желал ничего слушать, если к нему не обращались с каким-нибудь восточным выражением почтительности, вроде «наисвященнейший, наиученейший, наимудрейший». По мудрости он приравнивал себя к Соломону. Более цинично, вспоминая связь между своей матерью и музыкантом Давидом Риччио, он сказал, что его по праву называют Соломоном, поскольку он был сыном Давида, который играл на лютне.
Он был на два года моложе Шекспира. Внешне он выглядел неплохо. «Красивый, благородный, веселый, – охарактеризовал его итальянский гость, возможно зашедший слишком далеко в своих комплиментах. – Мужчина хорошо сложенный, не толстый и не тощий, в полном соку». У него были каштановые волосы и румяное лицо. Другими словами, на вид это был самый заурядный человек, у него не текли слюни, он не хромал и у него не было горба, что приписывали ему враги, передавшие эти слухи потомству. Он получил образование, и его прозаические опусы, как, например, сочинение под названием «Серьезные возражения против употребления табака», которое, похоже, предвидело рак легких, написаны энергично. Стихотворным талантом он не обладал. Он любил поесть и часто, особенно под влиянием друга принца Чарлза, Джорджа Вилльерза, графа Букингемского, напивался до бесчувствия. Он был глубоко религиозен и предан англиканской церкви, одной из немногих достопримечательностей Англии, которая ему действительно нравилась. Но его воспитали суровые шотландские кальвинисты, и его нападки на них разочаровали английских пуритан. Хотя его жена, Анна из Датского королевства, была католичкой, он не испытывал любви к Риму. Но его епископы любили его, и он любил своих епископов. Одно из самых замечательных его деяний – приказ сделать новый перевод Библии. Он никогда не принимал ванну и не мылся, но иногда погружал кончики пальцев в розовую воду.
Теперь образовалось новое королевство: Англия и Шотландия объединились, чтобы стать тем, чем действительно был Уэльс, – землей британцев. Шекспир позднее отметил это событие в стихотворении Эдгара в «Короле Лире».
Англичане, страстно желавшие мирной и спокойной жизни, которую, казалось, обещало им новое правление, почувствовали себя необыкновенно униженными, когда началась эпоха Якова I. Лондон заполонили шотландцы, стремившиеся к наживе. Двор по-прежнему поражал своим великолепием, но блеск, казалось, исчез из национальной жизни. Не было никаких грандиозных дел, связанных с морской и военной охраной английской Реформации, в кровь англичан перестал поступать адреналин. Их слава ушла. Самое лучшее осталось в прошлом.
Но король, который был воспитан в очень строгих правилах, получал удовольствие от драмы, которая давала ему почувствовать всю полноту жизни. Его правление прославилось достижениями в драматическом искусстве, хотя в основном это было достижение с сердцевиной, иногда едва заметно пораженной болезнями и коррупцией. Вместо «Ромео и Джульетты» был «Белый дьявол»; вместо «Как вам это понравится» была «Забота о рогоносце». В этот период были написаны самые великие трагедии Шекспира, невероятно прекрасные и проникнутые духом разочарования. Комедии вроде «Конец – делу венец» и «Мера за меру» не проникнуты стихией смеха, да и как можно было смеяться при таком всеобщем падении нравственности. При правлении Елизаветы в его пьесах не было ничего подобного: совокупление, как правило, преднамеренно с дурной женщиной, а с порядочной – только случайно; слишком много безнаказанных насмешек над девственностью; слишком много грубых вольностей в отношениях между мужчинами и женщинами. Тяжкий груз сомнения в себе ощущается в жанровой неопределенности этих пьес, и отсюда возникает неискренность стиха в комедии «Конец – делу венец», характеризующейся незатейливым морализаторским сюжетом, заимствованным у Боккаччо. Пессимизм «Меры за меру» больше годится для трагедии, чем для пьесы со счастливым или несчастливым концом. В еще одной пьесе автор предлагает нам самую ужасную во всей мировой литературе речь о страхе смерти, равно как самое мощное противоядие, помогающее встретить приход смерти. Великолепно, но все это служило для двора развлечением. Простое, искреннее веселье покинуло этого серьезного человека в годы зрелости, или полноты бытия.
Что бы ни происходило внутри этой мрачной головы, внешние обстоятельства жизни Уилла и труппы, держателем акций которой он являлся, едва ли могли бы складываться более удачно при новом правлении. В самом первом, 1603 году «слуги лорда-камергера» превратились в «слуг его величества короля». Старых членов труппы, одним из которых был Шекспир, сделали камердинерами. В этом качестве их призвали во дворец для встречи испанского посла, когда он приехал в 1604 году, чтобы вести переговоры о мире. Драматург, сочинявший великолепные патриотические речи, в которых призывал к борьбе с ненавистным соперником, теперь кланялся ему. Дни непримиримой борьбы остались позади: солдаты больше не служили опорой королевской власти. Король Джеймс ненавидел войну и поеживался от одного только вида боевого оружия (убивать оленей совсем другое дело). Королева Елизавета с радостью сама вывела бы свои войска на поле битвы; ее наследник был (всем известно, хотя об этом мало сказано) по природе своей трусом. Мода на такие огнедышащие пьесы, как «Генрих V», прошла.

Вскоре после вступления на престол Джеймса I шекспировская труппа была преобразована из «слуг лорда-камергера» в «слуг короля»
Попав в услужение к королю, Уилл должен был теперь получить право входа в высокие и столь желанные круги. Графа Саутгемптона освободили из Тауэра, но возобновление покровительства и фамильярности в старом, постыдном качестве едва ли было возможно. По всей видимости, планета Уилла начала теперь вращаться в новой солнечной системе, чьим притягательным центром был не столько человек, являвшийся уменьшенной копией Саутгемптона, Уильям Герберт (HW – WH), сколько мать Уильяма Герберта. Герберт унаследовал графство Пемброк в 1601 году, он находился в черном списке королевы из-за дела Мэри Фиттон, но сейчас, при новом правлении, был свободен, полон энтузиазма и находился в милости у короля.
Его матери, графине Пемброк, было сорок два года в 1603 году: красивая, изящная, образованная женщина, совершенно не похожая на своего умершего, но вечно живого брата, сэра Филиппа Сидни. Оба они работали над романом в прозе «Аркадия» в замке в Уилтоне, в сельской местности неподалеку от Солсбери. Их дом, по словам Джона Обри, «напоминал колледж, так много там было образованных и умных людей». После смерти Сидни, который скончался от ран, графиня издала его сборник сонетов «Астрофил и Стелла». Таким образом, ей пришлось оказывать покровительство другим сочинителям сонетов, равно как ученым и, возможно, даже драматургам. Ее качества лучше всего выразил Уильям Браун в некрологе на ее смерть:
Под этим траурным надгробьем
Лежит предмет сего стиха:
Сестра Сидни, мать Пемброка.
Хоть смерть и сразила тебя,
Такую красивую, образованную и добрую,
Ты не исчезнешь бесследно.
Имеется свидетельство, что Шекспир был в Уилтоне в 1603 году, хотя не в качестве гостя. Коронацию Джеймса в мае сразу же приветствовала эпидемия чумы, и двор, так же как театральные труппы, покинул город. Осенью Джеймс был гостем Пемброка, поскольку в городе все еще свирепствовала чума. «Слуги его величества» жили в Мортлейке, где у Гаса Филипса был свой дом. Им было приказано приехать в Уилтон, чтобы поставить пьесу, и есть запись, что Джон Хемингс, руководитель труппы, получил сумму в тридцать фунтов за доставленное беспокойство. Леди Пемброк два с половиной столетия спустя клялась, что в ее семейном архиве хранилось письмо от великой графини к ее сыну, в котором она просила его привезти короля, чтобы посмотреть «Как вам это понравится», и добавляла: «У нас также человек по имени Шекспир». Письмо исчезло, но когда читаешь эту фразу, по какой-то магической причине мурашки ползут по телу – настолько она аутентична. Не «Шекспир», автор пьес и поэм, но «человек Шекспир», выпивающий, болтающий, легкомысленный, любезный, остроумный, человек другого круга, который временно был оторван от актерской компании. Что-то в таком роде, по крайней мере.

Сестра Сидни, мать Пемброка. Это ее единственный известный подлинный портрет
Графиня, очевидно, любила театр и даже сама перевела пьесу «Марк Антоний», написанную безвкусным последователем Сенеки, французом Робером Гарнье. Возможно, она показала ее человеку Шекспиру в 1603 году. Возможно, он сказал: «Из этого может получиться стоящая вещь, мадам. В ней есть изящество и ритм, и строки ложатся легко». Возможно, он подумал: «Ничего из этого не выйдет. Если писать пьесу о любви-жизни Антония, должно быть ощущение страсти и дерзкой словесной музыки, а египетская царица должна пахнуть мускусом и быть соблазнительной, как какая-нибудь мавританская проститутка из борделей Клеркенуэлла. Я запишу это на всякий случай в таблички своей памяти».
Бернард Шоу высказал предположение, что леди Пемброк была прототипом графини Руссильонской в пьесе «Конец – делу венец». Он зашел слишком далеко, как с ним частенько бывало, уверяя, что эта дама «самая очаровательная из всех шекспировских старушек, а вернее, самая очаровательная из всех его женщин, молодых или старых». В отношениях между графиней Руссильонской и ее сыном Бертрамом, который отвергает брак, организованный для упрочения благосостояния семейного клана, конечно, слышатся отзвуки тех голосов, что так громко звучали как в семье Саутгемптона, так и в Уилтоне. Непокорность Герберта позднее, чем Ризли – ближе к дате сочинения пьесы. Идентификация Шоу вполне уместна.

На этом пергаментном свитке представлен Уилтон-Хаус, неподалеку от Солсбери; так он выглядел, когда леди Пемброк, как считали, написала отсюда: «С нами здесь человек по имени Шекспир»
Хотя любовь и дружба семьи Пемброк не шла ни в какое сравнение с высоким покровительством королевского двора, король Джеймс очень дорожил труппой, которая носила его имя. Если Елизавета платила десять фунтов за заказанное представление, то Джеймс платил из своего кармана двадцать. Правда, цены росли (одна из причин царящего в стране уныния, как утверждают марксистские критики), но Джеймс и представления не имел ни о какой индексации прожиточного минимума.
Он любил драматические представления, но считал, что за драматическое совершенство полагается платить высокую цену. Больше всего он любил театр масок, а театры масок стоили дорого. Шекспир мог отказаться от пятиактной трагедии и заработать кучу денег на одноактной пьесе театра масок, но художник брал верх над деловым человеком. Он никогда не писал для театра масок.
Театр масок был смешением старой моралите или интерлюдии и нового нелепого изобретения – оперы (неприязнь к последней действительно существовала: новаторский «Орфей» Монтеверди появился только в 1607 году). Представление было коротким, но дорогостоящим, и его интерес был скорее чувственным, чем интеллектуальным. Это была искусственно сочиненная форма, и поэту, композитору, хореографу и художнику-оформителю приходилось работать в тесной взаимосвязи, сдерживая иногда свои чрезмерные аппетиты, когда, например, для спецэффектов призывали хозяина бродячего зверинца. Когда Джеймс I был всего лишь Джеймсом VI, в замке Стерлинг шла пьеса театра масок с участием прайда львов. Дамы были напуганы. Шекспир знал об этом, так как он написал «Сон в летнюю ночь»: «Друзья, – говорит Основа, – об этом надо хорошенько подумать! Вывести льва к дамам!.. Сохрани вас Бог! Это страшная затея. Ведь опаснее дичины нет, чем лев, да еще живой!»
Темы театра масок были абстрактные. Добродетели и пороки, персонифицированные в стиле моралите, но в очень изысканных костюмах, соперничали между собой, и добродетели неизменно побеждали. Были прекрасные сценические эффекты, высокопарные слова, достоинство и величие, никакой грубости. Комическая интерлюдия с дикарями, пигмеями, арапами, которая следовала за театром масок, как джига следовала за пьесой, была нацелена на гротескный контраст. Турки, павианы и шуты делали курбеты и без умолку тараторили.
Придворный театр масок имел эксгибиционистскую привлекательность. Если оформление, текст и музыка были работой профессионалов, актерами обычно становились любители высокого ранга: знать, которой нравилось демонстрировать прекрасные физические данные и звонкий голос. Запрет общедоступной сцены, где мальчикам приходилось играть женские роли, не действовал в театре масок, и дамы с восторгом выставляли напоказ свои жемчужные перси, а в танцах и величественных позах даже демонстрировали нижние конечности. Королева Анна, веселого нрава датчанка, появилась в пьесе театра масок о двенадцати богинях в очень короткой юбке, так что, по свидетельству одного зрителя, «все удостоверились, что у женщины имелись две ступни и ноги, о чем я никогда до этого не догадывался». Эти очаровательные пьесы не всегда проходили так, как планировалось. Актеры и актрисы порой напивались – очевидно, под датским влиянием – и не только пропускали те строки, которые не могли вспомнить, но глупо хихикали, падали, позволяли не предусмотренные пьесой выходы, чтобы облегчить желудок. Когда датский король, сам большой любитель выпить, приехал к британскому двору, его развлекали представлением театра масок, которое вылилось во всеобщий хаос и пьянство. Его собственная дочь с бессмысленным взглядом и приступом икоты играла главную роль. Такие представления, конечно, действовали угнетающе на создателя пьесы, но, подобно голливудским сценаристам, также недовольным своим положением, высокий гонорар смягчал моральный ущерб.
Если Шекспир, чтобы не впадать в подобную депрессию, никогда не писал для театра масок (за исключением странных пустяков, подобных театру масок, в поздних пьесах), Бен Джонсон с восторгом за хорошую плату показывал в коротких представлениях свое остроумие, ученость и лирическое искусство. Он рано отдал дань повальному увлечению: ему заказали пасторальную пьесу для театра масок, «Сатир», которую поставили в Олторпе, под открытым небом, когда король направлялся из Шотландии в Лондон. Некоторые из пьес для театра масок, написанные им, изысканны и содержат прекрасные лирические стихи.
Эти пьесы были привлекательны для Бена не только в финансовом отношении. Они помогали держать в узде два его самых существенных недостатка: многословие и проповеднический пыл. Его публика не хотела, чтобы ей читали проповеди о ее глупости; его актеры-любители не могли заучивать длинных речей. Чтобы написать такие пьесы, нужно было иметь сильный и утонченный интеллект, и Бен, превосходный художник, обладал им.
Агрессивный и раздражительный в общедоступном театре, Бен был подвержен ужасным вспышкам ревнивого гнева при работе над постановками театра масок, в которых многое зависело от совместного творчества и было отмечено конфликтом интересов. Блестящий оформитель Иниго Джонс довел визуальную сторону театра масок до такого совершенства, что сами слова, часто плохо выученные и невнятно произнесенные, попросту терялись. Джонс, на год моложе Джонсона, был великим человеком. Он изучал визуальные искусства в Италии и насаждал в Англии величественное зрительное восприятие античного мира, которое, будучи по природе своей космополитическим в столь многих областях, осталось провинциальным в живописи и архитектуре. Его карандаш творил чудеса, а его вкус был безупречен как в оценке королевской коллекции картин, так и в составлении архитектурных проектов. Они с Беном сначала работали вместе, если здесь уместно такое определение, над королевским упражнением на тему черной расы под названием «Маска Чернокожих». «Это была воля его величества, – сказал мрачно Бен позднее, – сделать их чернокожими». Сюжет не вдохновил его, и работу спасли только изобретательные костюмы и выдумки Иниго Джонса. После этого представления все, что он делал, принималось восторженно, только не поэтами. Иниго разработал сложную машину, machina versatilis, или вращающая сцену, и установил первую в Англии арку просцениума. Эти визуальные чудеса, вкупе с фантастическими костюмами, которые он разрабатывал, стали для королевского двора и знати истинной сущностью театра масок: слова служили только предлогом для их демонстрации. Визуальная ересь захватила театр, и Бен был раздражен. А если подумать о цене таких спектаклей: тысячи фунтов тратились на одно пьяное представление; этой суммы хватило бы, чтобы субсидировать целый сезон трезвых смешных комедий в «Глобусе» или «Фортуне».

Арка просцениума для пасторали «Флоримен» была оформлена «английским Палладио», Иниго Джонсом
Шекспир держался в стороне от всего этого. Он намеревался писать свои пьесы для «Глобуса», для представлений при королевском дворе и, с 1608 года, для домашнего театра в «Блэкфрайерсе». Именно в 1608 году мы встречаем имя Шекспира на документе, определяющем его как одного из арендаторов этого театра: ему предстояло стать домом для «слуг его величества короля» в зимнее время, в то время как «Глобус» продолжал оставаться их домом летом. Жалобы со стороны дворян относительно неудобств, связанных с размещением у них под боком, в трапезной «Блэкфрайерса», общедоступного театра, больше не имели веса. «Слуги короля» были важными людьми.
Почему же этим важным людям не удалось попасть в театр «Блэкфрайерс» раньше, скажем, в 1603 году? Дело в том, что там еще находились «дети церемониймейстера», и поскольку у них с Бербеджем был подписан контракт, их невозможно было выставить оттуда. Но они совершили ошибку, поставив пьесу, которая высмеивала короля Франции. Французский посол подал жалобу, и Тайный совет запретил им играть в «Блэкфрайерсе». Тайный совет, таким образом, положил конец долгому периоду поразительной снисходительности, так как жалобы на поведение детской труппы поступали не раз. Эванс, наподобие офицера, вербующего рекрутов, просто забирал насильно подающих надежды мальчиков, рассматривая их пребывание в театре как королевскую службу. Но однажды он зашел слишком далеко. Он похитил мальчика, мастера Клифтона, когда тот шел в школу. Его отец, который был дворянином, ринулся в театр и потребовал освободить своего сына. Эванс рассмеялся и сказал, что он имеет право решать, какой мальчик ему нужен на актерской службе, пусть это будет даже герцогский сын. Затем, в присутствии Клифтона, он сунул в руки мальчика рукопись и велел ему выучить ее наизусть, – в противном случае его ждала порка. Отцу Клифтону понадобилось два дня, чтобы освободить сына из рабства.








