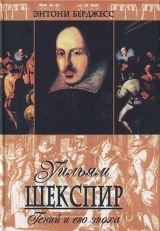
Текст книги "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха"
Автор книги: Энтони Берджесс
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Глава 14
МЯТЕЖ
Эти дрязги поэтов были сущей мелочью по сравнению с разыгравшейся в Лондоне общественной трагедией, или фарсом. Ведущим актером был опозоренный граф Эссекс. Он немногого добился в Ирландии, помимо возведения в сан новых рыцарей, и королева разгневалась. Он встретил Тайрона у реки: Эссекс на берегу, Тайрон посреди потока верхом на лошади, и, как ходили слухи, сказал мятежнику, что скоро в Англии произойдет смена правления и, если Тайрон будет вести себя лояльно, это пойдет ему на пользу. Вскоре после этого, осенью 1599 года, Эссекс отплыл на корабле в Англию, сойдя на берег, тут же поскакал в загородный дворец королевы и, не смыв пота и грязи после долгого путешествия, предстал перед Елизаветой в ее опочивальне. Для начала ему просто предложили уйти и сменить платье: нарушение протокола было не больше огонька спички в адском пламени. Позднее в тот же день во дворце прошли закрытые переговоры, после чего лорд-хранитель печати предъявил Эссексу обвинение. К этому времени весь Лондон знал, что Эссекс заключил перемирие с Тайроном.
Его сторонники нисколько не были смущены. Графа Саутгемптона, весьма довольного жизнью, не раз видели в театрах. О чем говорили он и его давний протеже, мы никогда не узнаем; возможно, Шекспир был слишком разочарован, чтобы стремиться к возобновлению отношений. Как драматург он бился над решением головоломки, которая едва ли существовала для Бена и других юмористов: каким образом благое намерение порождает зло. Эссекс и Саутгемптон свято верили, что низложение королевы будет благом для государства; Эссекс говорил только о чести и патриотизме, о личной выгоде – ни слова. Однако высокие побуждения могли ввергнуть страну в кровавую резню и хаос. То, что у него получилось в «Юлии Цезаре», было ненормально. Брут был убийцей, но при этом все же оставался самым прославленным римлянином. Совести убийцы предстояло стать ведущей темой в трагедиях, которые Шекспир готовился написать.
Эссекс заболел. Королева временно смягчила свой гнев и послала своих восьмерых лучших врачей обследовать его. Никакого физического недомогания нет, доложили врачи, больна его душа. Королева уменьшила послабления, и опозоренный Эссекс остался в немилости, его дело не рассматривалось в суде вплоть до лета следующего года.
Официальное судебное заседание было назначено на 5 июня 1600 года в Звездной палате (высшем королевском суде Англии). Эссекса обвинили в невыполнении приказов: затратив громадные деньги, его послали в Ирландию, чтобы усмирить диких ирландцев, а он вместо этого заключил с ними перемирие. Обвинитель потратил одиннадцать часов на свою вступительную речь, и генеральный атторней, генеральный стряпчий и сэр Фрэнсис Бэкон, которому Эссекс когда-то был верным и влиятельным другом, блистали образцами красноречия. Эссекс был физически слаб, но только к концу длинного дня ему позволили сесть: он стоял на коленях, что казалось суду наиболее подходящей для него позой. Что же касается приговора, то он был предрешен заранее. Наказание? Тауэр, освобождение от всех доходных должностей, громадный штраф – все это предлагалось порознь или вместе. Наконец согласились, что окончательное решение остается за королевой. Тогда опять потянулись томительные дни ожидания, и Эссекса вернули на попечение лорда-хранителя печати. Его унизительное положение, его скромность, его терпение пробудили сочувствие в обществе.
26 августа его освободили. Королевский гнев по поводу ирландской кампании намного смягчился благодаря донесениям об успехах лорда Маунтджоя, явный контраст между его спокойной уверенностью и пышным пустословием Эссекса считался достаточным наказанием для последнего: возможно, теперь он получил хороший урок и наконец повзрослеет. Но ему запретили появляться при дворе. Эссекс мог пережить это, но пришел в ужас от более чувствительного наказания: королева отказалась возобновить откуп на налог на красные вина. Эта монополия приносила громадные доходы и была одним из многочисленных знаков благоволения к нему королевы. Срок монополии истекал в Михайлов день (29 сентября); Эссекс по уши увяз в долгах у виноторговцев; он писал королеве письма, полные любви и самоуничижения; он обливался потом от дурных предчувствий. Королева видела явные признаки раскаяния и задумалась об искренности любви: она рассказала многое Фрэнсису Бэкону, а Бэкон рассказал другим. И затем, продержав Эссекса в неведении до Дня всех святых (1 ноября), Елизавета объявила, что его монополия не будет возобновлена: она желает сохранить в своих руках откуп на налог на сладкие вина.
За четыре дня до Рождества в Лондоне произошло небольшое землетрясение: не страшное азиатское дрожание земли, однако убедительное предзнаменование для людей суеверных. Дом Эссекса стал теперь своего рода штаб-квартирой для партии его приверженцев, где собирались все, кто верил, что их общие запросы наилучшим образом могут быть разрешены графом, а не (по словам графа) старухой, чей разум уже так же изуродован, как тело. Придворные, впавшие в немилость, присоединились к руководителям, которые потеряли свои полномочия. Из уст пуритан звучали проповеди, в которых утверждалось, что суверен подчиняется более высокой власти и что эта власть воплощается в них, в тех, кто знает путь спасения; через пятьдесят лет этой доктрине предстояло реализоваться в цареубийстве. Сторонник Эссекса, человек по имени Кафф, своего рода туповатый Каска, говорил об опале, приведшей к унижению, и о том, что его господин, уже лишенный известных прав и богатств, теперь будет доведен до нищенского состояния, если не начнет действовать незамедлительно. Эссекс, воодушевленный такими речами, не раз выступал с гневными обличениями. Его слова, конечно, были услужливо переданы королеве – в доме Эссекса толклось столько народа, что нетрудно было проникнуть шпионам.
Должно быть, в это время Шекспир написал «Троила и Крессиду». Запрет на написание книг из английской истории все еще оставался в силе, и было опасно ставить подобные пьесы, но все классическое прошлое было открыто, а в Риме и Греции, поскольку политик всегда представляет собой одно и то же, имелось множество любопытных параллелей к неспокойному правлению Елизаветы. Греция недавно стала более популярной, чем Рим, о чем свидетельствуют пьесы «Месть Трои», «Агамемнон» и «Орест и его Фурии», поставленные в «Розе», так же как «Троил и Крессида», написанная Кеттлом и Деккером. И в 1598 году появился перевод семи песен «Илиады», сделанный Чапменом, с посвящением графу Эссексу, «живому примеру ахиллесовой доблести, увековеченной божественным Гомером». Доблесть? В настоящий момент Эссекс демонстрировал порок Ахилла, который во время Троянской войны сидел, обидевшись на весь свет, в своей палатке.
Истории Троила и Крессиды была рассказана Чосером, но рассказана как романтическая легенда о любви. Шекспир выбросил любовь, или, скорее, свел ее к вожделению. Похоже, что он снова был охвачен сильными переживаниями и эмоциями наподобие тех, которые были ему уже известны в период его отношений со Смуглой леди или еще – с Саутгемптоном, самым горьким воспоминанием для него в те дни: он не забыл, как растрачивал впустую свои силы, став рабом страсти. Шекспир был очень сексуальным мужчиной, и при жизни его альковные похождения породили по меньшей мере одну легенду. В дневнике Джона Мэннингема из Мидл-Темпла есть следующая запись от 13 марта 1601 года: «В то время как Бербедж играл Ричарда III, нашлась горожанка, которой он так понравился, что, прежде чем уйти с представления, она назначила ему прийти к ней в ту ночь под именем Ричарда III. Шекспир, услышав последние слова, пришел раньше, получил удовольствие, но, пока он забавлялся, пришел Бербедж. Когда им сообщили, что у дверей дожидается Ричард III, Шекспир послал в ответ сообщение, что Уильям Завоеватель опередил Ричарда III».
Анекдот необязательно должен быть правдивым, но анекдоты такого рода не распространяют о людях, которые не любят женщин. Трагедия Шекспира, возможно, состояла в том, что он любил их не благоразумно, но слишком горячо, что он не умел относиться к ним легко, как, судя по всему, делал Бен, но стремился принять за любовь то, что являлось только вожделением. Он слишком высоко ценил сексуальный акт, считая его выражением искреннего чувства, а затем обнаруживал, что чувство исчезает. И он не знал, что делать со своими эмоциями, слишком сильными для данной женщины, которая вызывала в нем уже лишь глубокое отвращение. Он видел себя, Уилла-любовника, псом, жаждущим суку. В «Троиле и Крессиде» сводник Пандар поет грязную песенку, в которой вздохи любовника «ох, ох, ох» одновременно выражают страстное желание пса и оргазмические вопли суки – «ха, ха, ха». Пьеса о разочаровании в вожделении, Троил сначала сходит с ума по Крессиде, а затем испытывает к ней отвращение, когда она превращается из богини в проститутку.
Эта тема разочарования в любви или вожделении тесно связана с политической темой. Улисс, высказывая свое мнение относительно неспособности Греции овладеть Троей, винит в этом неспособность греков поддерживать порядок. Иератическим образцом является вселенная, которой, для сохранения всеобщего благополучия, должны были бы подражать люди. «Забыв почтенье, мы ослабим струны – / И сразу дисгармония возникнет…» Греческая армия разобщена:
Вождю не подчиняется сначала
Его помощник первый, а тому —
Ближайший; постепенно, шаг за шагом,
Примеру высших следуют другие,
Горячка зависти обуревает
Всех, сверху донизу; нас обескровил
Соперничества яростный недуг.
Вот это все и помогает Трое:
Раздоры наши – вот ее оплот,
Лишь наша слабость силу ей дает!
«Сказка о давнем прошлом» слишком похожа на правду. В «Троиле и Крессиде» больше разговоров, чем действия, и по этой причине она не имеет успеха. Но избыток разговоров – верный знак, что Шекспир больше озабочен выражением своих личных убеждений, чем созданием драматического действия. Никогда он не придумывал лучшего стиха или более разговорчивых героев, но словесное совершенство превосходит драматическое оформление: оно верховодит там, где ему полагается быть в услужении, мера не соблюдена. Что же касается причины разобщенности греков, то она найдена в Ахилле, центре притяжения сражающейся армии, который
И точно так же насмешка Эссекса над иерархическим образцом английского королевства предвещает бессилие и разрушение, анархию и хаос.
Но какая связь между разочарованностью вожделения и упадком государства? Параллель можно провести по двум аспектам. Во-первых, налицо полное отсутствие доверия. Если любовник с такой легкостью нарушает свои клятвы, насколько легче подчиненным нарушить клятвы своему государю. Затем следует обратить внимание на метафору, которая (как, в конце концов, в «Кориолане») рассматривает государство как тело, дополненное головой, конечностями и животом. Неразборчивая любовь может привести к разрушению тела: термин «венерический» (половой, сладострастный – прилагательное, образованное от имени богини любви Венеры) одновременно означает и любовь, и болезнь. Так легко говорить о чести, которая выше любви, и, однако, прикрываясь честью, разрушать прекрасное тело государства. Пандар в своем эпилоге упоминает «торгашей человеческим телом» – тех проституток, чьи бордели подходят под юрисдикцию епископа Винчестерского, и заканчивает завещанием своих болезней публике («…ну а вам / Болезни по наследству передам!»). Это способ передачи двойного недовольства. Заметил ли в это время Шекспир, расстроенный болезнью великого тела, начало болезни своего собственного?
Истинные художники должны наблюдать исторические события, но не участвовать в них. Однако иногда создатели событий вынуждают появиться на арене действия само произведение искусства. Так и случилось с одной из шекспировских пьес, и это было злодеянием, как всякое превращение искусства в пропаганду. В пятницу 6 февраля 1601 года некоторые из сторонников графа Эссекса пришли в «Глобус» и потребовали, чтобы на следующий день, в полдень, было дано специальное представление «Ричарда II». «Слуги лорда-камергера» ответили, что пьеса уже устарела и, скорее всего, она не привлечет публику. Тогда люди Эссекса заявили, что они компенсируют актерам потери от кассового сбора; они готовы заплатить сорок шиллингов за представление. Это были люди знатные, среди них находился лорд Монтигл, и отказать им было трудно. Бербедж и его товарищи были всего лишь актерами.
Итак, в субботу, приблизительно в три часа пополудни, зазвучали трубы, возвещавшие о спектакле, и представление началось. Эссекс не появился в театре, не было, очевидно, и Саутгемптона, но среди публики было много известных имен: лордов и рыцарей, последние не все возведенные в сан Эссексом. Значение выбранной пьесы было ясно невзыскательным зрителям, стоявшим в партере. Вот и сыграна сцена низложения государя: пусть зрители сразу обратят на нее внимание, по кодексу чести и, как это доказано, для блага государства знатный человек низложил монарха, капризного и истеричного тирана, который задушил народ налогами и выслал из Англии в изгнание лучших людей. Возникла, наконец, и достойная сожаления необходимость цареубийства. Пьеса закончилась. Боже, спаси королеву.
В тот вечер встревоженный Тайный совет вызвал на свое заседание графа Эссекса, но он отказался прийти: небезопасно выходить из дому, сказал он, когда его преследует такое количество врагов. В ту ночь и на следующее утро он и его сторонники готовились к захвату Сити. Теперь вспомнили о другом историческом прецеденте, не том, что в «Ричарде II». Герцог Гиз, выведенный на сцене в пьесе Марло «Парижская резня», захватил Париж в 1588 году с помощью нескольких сторонников, но при поддержке всего города; он вывез короля из столицы. Разве не смог бы Эссекс, любимец Лондона, с той же легкостью добиться успеха? В десять часов утра в воскресенье лорд-хранитель печати, главный судья, граф Вустерский и сэр Уильям Ноулз пришли от имени королевы к дому Эссекса, призывая его воздержаться от любых поспешных действий, которые он, возможно, замыслил. Там собралось много народу, и некоторые кричали: «Убить их!» Эссекс захватил в плен четырех знатных вельмож и оставил их под охраной как заложников в доме Эссекса. Потом он с двумя сотнями своих приверженцев, в основном молодых людей, поскакал в Сити.
Направляясь к Ладгейтскому холму и проезжая через Чипсайд, Эссекс кричал, что против него составлен заговор: «К королеве! К королеве!» Потом глашатай объявил его предателем, но Эссекс верил, что королева ничего не знала об этом: глашатай сделал бы что угодно за два шиллинга. Когда прозвучало слово «предатель», некоторые из его приверженцев покинули Эссекса и смешались с толпой. Шериф обещал Эссексу оружие, но обещания не сдержал. Эссекс покрылся холодным потом; он понял, что ему следует вернуться обратно, под защиту стен дома Эссекса. Но Ладгейтский холм был перегорожен цепями, и там ждали вооруженные стражи порядка. Его люди зарядили ружья, и сэр Кристофер Блант убил человека, но его тут же арестовали. Эссекс сумел прорваться к дому по берегу реки, но там он обнаружил, что его заложники освобождены и со стороны суши крепость находится в осадном положении. Вечером лорд-адмирал грозил взорвать дом, так что Эссекс, уничтожив все компрометирующие документы, которые оказались под рукой, сдался. Эту новость сообщили королеве, когда она сидела в полном одиночестве за обедом. Она продолжала есть, не сделав ни одного замечания.
«Безумный, неблагодарный человек, – сказала она на следующий день, – выдал, наконец, то, что замыслил». Сити находился под усиленной охраной, и теперь дворец превратился в крепость. Некоторые подмастерья, любители приключений, намеревались собрать пятитысячную толпу, чтобы освободить Эссекса, но это были романтические бредни: они насмотрелись соответствующих спектаклей, возможно в «Розе», тогдашнем эквиваленте телевидения. Более серьезный заговор организовал капитан Ли, который решил захватить королеву и заставить ее освободить Эссекса и его приверженцев. Он достиг двери комнаты, где она обычно обедала, но там его схватили.
Через неделю Эссекс и Саутгемптон предстали перед судом. Эссекс, одетый в черное, отнесся с презрением к своим судьям. «Мне безразлично, как быстро я уйду. Смерть в Божьей власти». В «Генрихе IV» женский портной, призванный на службу Фальстафом, говорит нечто подобное: «Ей-богу, мне все нипочем: смерти не миновать»[53]53
Перевод Е. Бируковой.
[Закрыть]. Эссекс как бы находился на сцене и страстно желал, чтобы в памяти людей остался прекрасный спектакль. Он красноречиво изложил все свои предательские замыслы, сознался во всем и назвал себя по возвращении в Тауэр, где он ожидал казни, «самым большим, самым подлым и самым неблагодарным предателем из всех, когда-либо живших на земле». Он просил казнить его тайно, так как не хотел, чтобы улюлюканье толпы испортило его конец.
24 февраля 1601 года, во вторник на Масленой неделе (последний день Масленицы), «слуг лорда-камергера» призвали ко двору, чтобы они дали представление. Нам неизвестно, какую пьесу они играли; зная язвительный юмор королевы, вполне можно предположить, что их попросили сыграть «Ричарда II». Они, должно быть, чувствовали себя не в своей тарелке; в конце концов, за сорок кусочков серебра они трубили в фанфары в ожидании воскресного мятежа. На следующее утро, в Пепельную среду (день покаяния), Эссекс был обезглавлен во дворе Тауэра. «Он сознавал, слава Богу, что таким способом его справедливо удаляли из государства». Ему было всего тридцать четыре года; для нас возраст молодого человека, в глазах же современников он был слишком стар, чтобы совершать столь сумасбродные поступки. Что же касается графа Саутгемптона, то он чах в стенах Тауэра и все еще находился там два года спустя, когда умерла королева. Король Джеймс освободил его, и он процветал при новом правителе.

В лондонском Тауэре граф Эссекс, ожидая казни, заклеймил себя как самого подлого предателя со дня сотворения мира
Тайный совет подозревал, что «слуги лорда-камергера» имели некоторое отношение к мятежу: зачем ставить такую зажигательную трагедию в столь накаленное время? Огастин Филипс, один из актеров, возможно, тот, который играл Ричарда, под присягой изложил версию труппы на это событие. Их попросили возобновить постановку «Ричарда II» знатные люди, лорд и рыцари страны; отказаться было невозможно. В их невиновность поверили, никаких дальнейших расследований не последовало. И все же искусство драмы нельзя было больше рассматривать просто как безобидную мишуру, украсившую события того праздного дня. С такими людьми, как Шекспир, драма научилась касаться самых болезненных вопросов жизни.
Большую часть того года Шекспир ничего не писал. Затем, осенью, он написал пьесу, без которой, несмотря на обилие других прекрасных произведений искусства, мир стал бы намного беднее.
Глава 15
КОРОЛЕВСКИЕ СМЕРТИ
Время приближалось к трем часам пополудни, и «слуги лорда-камергера» готовились к грандиозной премьере «Гамлета». Дик Бербедж, игравший, как всегда, главную роль (и самую большую, и самую красноречивую из всех сыгранных ранее), одет в черное, как Эссекс на судебном заседании. В руках у него кисточка, и он старательно наносит грим на лица двух мальчиков, которые исполняют женские роли. В пространстве за сценой полно народу, роли есть для каждого: Джека Хемингса, Гаса Филипса, Тома Попа, Джорджа Брайена, Гарри Конделла, Уилла Слая, Дика Каули, Джека Лоуина, Сэма Кросса, Алекса Кука, Сэма Гилбурна, Робина Армина, Уилла Оустлера, Нэта Филда, Джека Андервуда, Ника Тули, Вилли Экклстона, Джозефа Тейлора, еще двух Робинов (Бенфилда и Гофа), Дики Робинсона, любимца Бена Джонсона, и еще двух Джеков или Джонни – Шанка и Райса. Райс, на самом деле Рис, или Ап Рис, уэльсец, известный сэру Хью Эвансу и Флюеллену, так же как раньше Глендоверу.
Здесь и Шекспир, который гримируется для роли Призрака. В тридцать семь он уже почти седой; уже нужно скрывать редеющие волосы и бороду. Он добрался до театра пешком из своей квартиры на Силвер-стрит, стараясь не смотреть на травлю медведя у Сакерсона (или это Гарри Ханкс?) в Парижском саду: он не переносит вида крови, достаточно было ее пролито за последние десять лет в Лондоне. Эта роль Призрака напоминает ему, как много смертей он видел: в этот год своего отца, несколько лет назад – сына. Он, еще живой отец, будет играть отца умершего. Живой сын в пьесе имеет почти то же самое имя, как сын умерший. Как все странно устроено на этом свете.
Он вложил много своего в эту трагедию, но сюжет выбрал не он. Бербедж наткнулся в сундуке с рукописями на давно забытого «Гамлета» Тома Кида и предложил эту пьесу, так как трагедия мести стала вновь пользоваться успехом. Как здорово было бы сделать что-то утонченное и современное, использовав старую историю датского принца, который притворился сумасшедшим, чтобы отомстить за убитого короля и отца. Что ж, невзыскательные зрители, стоящие в партере, судя по гулу, ожидают удовольствия от строк «Испанской трагедии», которую Бен подновил для «слуг лорда-адмирала». Зрители более высокого сорта, на галереях и по бокам сцены (таблички для записи за наличные деньги, чтобы фиксировать известные строки и выражения), видели «Месть Антонио» Марстона. Все пережили реальную жизненную трагедию взлета и падения Эссекса. Гамлет хоть и не Эссекс, но и не привычный меланхолик, несмотря на черный плащ. Он восходит к народной легенде, простодушному Амлету, который притворился сумасшедшим. Разве не говаривал граф Дерби: «Я сыграю Амлета с тобой, парень», имея в виду, что он может разгневаться?
О Дании сейчас только и говорят. Весьма вероятно, что наследником престола станет Джеймс VI Шотландский: никто не станет противиться этому после недавно пережитого шока от мятежа Эссекса. Недолго остается ждать, когда датская королева со своими датскими друзьями прибудет в Лондон. В данный момент датчан не очень-то жалуют: приходится как-то реагировать на их вторжения в чужие владения, английские рыболовные заповедники в Северном море; а уж в выпивке они не знают меры, с этим тоже надо что-то делать. Владелец датской пивной – Йоген, или как там его звать – пьет, пока его не начнет тошнить. Скоро нелюбовь к датчанам приравняют к измене родине: сейчас это в порядке вещей.

Чтобы поддержать драму, барабаны и медные духовые инструменты, флейты и трубы гремели, звучали, пиликали и гудели, так в елизаветинские времена создавали музыкальное сопровождение и шумовые эффекты
Большинство актеров декламируют свои строки; некоторые черпают немецкое, или датское, мужество из маленького бочонка, присланного пресловутым Йогеном. Здесь же какой-то незнакомец, он взят на немые роли. Он похож на стенографа: будет заниматься своим пиратством прямо на сцене или из кулис. Похоже, полный дурак. Он запишет слова Клавдия («Дайте сюда огня. Уйдем») так: «Посветите мне, пойду спать», как будто король просто устал, а не шокирован откровением пьесы внутри пьесы. Хороший план у Тома Кида. Стоит оставить.
Музыка. Фанфары. Флаг развевается на высокой башне. Пьеса начинается. На террасе или галерее нервный офицер стражи: в театре должно быть немало нервных офицеров после всех передряг с Эссексом. У всех этих датчан римские имена, по крайней мере итализированные: публику, стоящую в партере, нельзя привлечь трагедией, в которой нет горячей южной крови. Франсиско, Горацио, Марцелл, Бернардо. Разгар дня, и осеннее солнце дарит тепло, но начинается пьеса, и на сцене возникают ночь и леденящий северный холод. Внушающий суеверный страх, жуткий разговор с Призраком, Горацио настроен скептически, в современной манере. Потом появляется Призрак, Уилл Шекспир, создатель всех этих слов, но сам еще не произносящий ни слова. Воспоминания Горацио о недавней постановке «Юлия Цезаря», о предзнаменованиях перед цареубийством.
Дания в данный момент – это Англия; публика еще помнит то землетрясение на Рождество. За сценой Армин искусно подражает крику петуха. Призрак исчезает. Пока Горацио и солдаты заканчивают свою сцену на террасе, главную сцену внизу заполняет датский двор.
Трубы и барабаны возвещают о появлении Клавдия, рядом с ним мальчик в роли Гертруды. Король с головы до пят, он вручает свое послание, сидя на возвышении с двумя тронами. Слишком длинно? Что ж, публика рассматривает унылое, печальное лицо Гамлета, он являет собой резкий контраст к этой королевской власти и рассудительности. Гамлет стоит, прислонившись к колонне на авансцене, как можно дальше от находящегося на сцене короля. И вот уже из его первого монолога станет ясно, что он не похож на меланхоликов Бена, окутанных черным трауром депрессии, возникшей на пустом месте. Здесь причины более чем основательные: его черная одежда есть одежда траура, он скорбит о смерти своего отца и о нравственной коррупции в государстве, высшим проявлением которой являются неверность его собственной матери и, хуже того, ее кровосмесительный брак. И вот гнев его обличительной речи против «буйного сада» и «бренности» женщин, его цветов, уравновешивается появлением того же самого студента Горацио, принесшего нелегкие известия, а в следующей сцене нежная невинность Офелии (конечно, в ней нет ничего от Гертруды, но Гамлет, к своей горечи, увидит громадное сходство) и нравоучительные высказывания Полония.
Вот снова терраса и морозный воздух, щиплющий и резкий воздух. Гамлету, упрекающему датчан за пьянство, грозит опасность показаться скучным. Ну вот внимание публики, стоящей в партере, рассеивается, раздается покашливание. И посреди такой скуки снова появляется Призрак, и начинающая было зевать публика снова следит за действием. Призрак кивком подзывает к себе Гамлета, это означает, что они оба покидают террасу и быстро спускаются по лестнице, вновь появляясь на главной сцене внизу. Пяти строчек, разделенных между Горацио и Марцеллом, вполне достаточно, чтобы заполнить время их перехода. Так что эту величественную речь Призрак, очевидно, произносит на главной сцене. Суфлер готов подсказать слова, так как Уилл не всегда надежен, даже если произносит те строки, которые написал сам. Наступает утро, и Призрак исчезает, на этот раз никакого крика петуха, так как эффект от повторения того же трюка уменьшился бы. Кавалеры из Судебных Инн на своих скамеечках слева и справа от сцены уже записывают странные строки на свои таблички: они будут цитировать их сегодня вечером за ужином. У Гамлета в руках также таблички. Он поражает кавалеров, записывая, «что можно жить с улыбкой и с улыбкой быть подлецом». Горацио и Марцелл должны спуститься вниз, на главную сцену, более медленно: возможно, хватало времени, чтобы быстро потянуть в глубине сцены за трос, и Призрак успевал спуститься со сцены в подвал. Из глубины снизу доносится приказ: «Я клятву дал». Горацио, скептик, преисполнен удивления. Гамлет говорит ему, что «и в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости». Некоторые из кавалеров, несмотря на предшествовавшую незлобивую насмешку, заняты своими табличками. Призрак, смятенный дух, на время успокаивается. Уилл может выполнить это буквально. Его следующий и последний выход – на много сцен впереди.
Вскоре мы забываем о неразвернувшейся трагедии, так как прибыли Розенкранц и Гильденстерн, чтобы сообщить принцу о приезде актеров, и нас вовлекают в длительное обсуждение состояния лондонского театра. Гильденстерн и Розенкранц – это имена ростовщиков, ссужающих деньги под залог. Два студента, товарищи Гамлета, улыбаются и улыбаются и становятся негодяями. Любопытно, однако, что имя Розенкранца, кажется, предсказывает патетическую смерть, которая не имеет к нему отношения: Офелия находит свой конец в студеных водах потока с гирляндами цветов; на похоронах «ей даны невестины венки и россыпи девических цветов». Но единственное, что обсуждают на сцене в тот момент: тяжелая судьба «столичных трагиков» – «слуг лорда-камергера», которые проделали дальний путь, добравшись до замка Эльсинор в Дании. Почему же они не остались дома, в Лондоне? Потому что маленькие «соколята», или юные хищники из детских театров, отбирают у них всю клиентуру. «И власть забрали дети?» – спрашивает Гамлет. «Да, принц, забрали, – отвечает Розенкранц. – Геркулеса вместе с его ношей». Все они смотрят в этот момент наверх, на флаг, развевающийся на башне «Глобуса», на котором изображен тот же самый тяжело нагруженный Геркулес. Входят актеры, и Гамлет упоминает пьесу, которую играли «не больше одного раза». Эта пьеса «не понравилась толпе»; «для большинства это была икра». Первый актер читает длинный монолог из этой пьесы – об осаде Трои, Приаме, Пирре и Гекубе. Мы сразу же понимаем, что пьеса называется «Троил и Крессида». В напечатанной версии этого монолога нет: возможно, его вырезали на репетициях. Пьеса не пользовалась успехом: толпа никогда не «отбивала ладони» на ней. Но Шекспир все еще считает, что это прекрасно выполненная работа, и решает представить этот вырезанный монолог как актерам, так и публике. Хорошая работа не должна пропадать.
Когда очень скоро мы подойдем к монологу Гамлета «Быть или не быть», на и без того хмурых лицах менее искушенной части публики появится выражение неодобрения. Так как перед ними человек, задающийся вопросом, что нас ожидает после смерти: «Безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам…» Ведь ему уже представлены доказательства того, что рай и чистилище существуют, достаточно вспомнить о смерти его собственного отца. Но более образованные зрители понимают, что в этом новом «Гамлете» действительно представлены две пьесы: старая трагедия мести Томаса Кида, с реальным адом, в который мститель отправляет убитого им злодея; и пристальное изучение очень современного агностического разума. Могут ли две части действительно образовать единое целое?
И каким интересным является это непосредственное соседство, неистовое обвинение всех женщин в образе бедной Офелии и навязчивая идея с введением в сюжет пьесы драмы. «Произносите монолог, прошу вас, – говорит Гамлет трем актерам, – как я вам его прочел, легким языком» – и продолжает давать исчерпывающий урок по актерской технике, заканчивая красноречивым оправданием изгнания Кемпа из труппы «слуг лорда-камергера». Как раз перед тем, как начинается пьеса внутри пьесы, Полоний говорит Гамлету, что он «изображал Юлия Цезаря; я был убит на Капитолии; меня убил Брут». Необоснованное и бесполезное замечание? Все не так просто, так как похоже, что актер, который играет Полония, также играл Юлия Цезаря в этом же самом театре всего несколько дней назад. И Брута, конечно, играл тот актер, который сейчас играет Гамлета, – Дик Бербедж. Сценка окрашена юмором: на минуту два человека выходят за пределы своих нынешних ролей и, возможно, кланяются, улыбаясь, в то время как часть публики хлопает, вспоминая те, другие представления. Затем, позднее, появляется более сложная ирония, так как Брут-Гамлет протыкает своей шпагой Полония-Цезаря, когда тот прячется за занавесом. «Но небеса велели, им покарав меня и мной его, чтобы я стал бичом их и слугою». То, что сейчас является шуткой, позднее перестанет быть шуткой.








