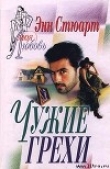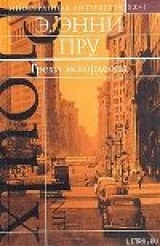
Текст книги "Грехи аккордеона"
Автор книги: Энни Прул
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
В стороне от дома
На деньги, оставшиеся от страховки Велы, они починили в старом доме изоляцию, на это ушла тысяча долларов, а еще две – на масляный обогреватель и штормовые окна на втором этаже, но все равно зимой в спальне было так холодно, что изо рта шел пар. Нэнси хотела переделать кухню, расширить вечно забивавшийся сток и поменять вздувшийся линолеум, но Конрад сказал: пока подожди.
Он поскоблил стекло и взглянул на белое волнистое поле. На противоположном окне солнце растопило наледь, и там виднелись растянувшиеся вдоль дороги здания, элеватор и афишная тумба, на которой женщины из кружка лютеранок нарисовали личико трехлетнего ребенка с золотыми кудряшками и одинокой, словно маленький значок, слезкой – «АБОРТ ОСТАНАВЛИВАЕТ БИЕНИЕ СЕРДЦА» – вдалеке маячила бензоколонка «Коноко», река, и на другом ее берегу – айваровский склад и автостоянка. На щебенке дороги валялся ком гофрированного железа, прямо на желтой полосе. Мертвая ворона – должно быть, подбирала какую-то гниль и попала под машину. Проехал синий пикап Дика Куда, вильнув, он придавил воронью тушку и отбросил в сторону перья. Конрад проследил за грузовиком и увидел, как тот остановился у забегаловки под названием «Вдали от дома».
Ни с того, ни с сего Конраду вдруг захотелось кусок вишневого пирога и кружку бодрящего кофе, только не растворимого и не в гранулах, и не из художественного стекла Нэнси. Несколько лет подряд он пил кофе с пирогами в Чиппеве, в гриле Уилли, но не раз обращал внимание, что каждое утро у забегаловки «Вдали от дома» собирается приличная толпа.
Когда он ехал мимо силосной башни, настроение, как обычно, испортилось – тысячу раз за лето можно было забраться наверх и закрасить эту проклятую штуку – облупившееся изображение Иисуса со змеей в каждой руке перед домом-трейлером. Вообще снести башню, если на то пошло. Столько лет стоит пустая. Кристаллики снега на пучках придорожной травы напоминали корку соли. Он миновал плакаты «ОЛД-ГЛОРИ ВЕРИТ В БОГА И В АМЕРИКУ, А ВЫ?» и «ЗДЕСЬ СЛЕДЯТ ЗА ДЕТЬМИ».
Единственное свободное место оказалось рядом с Диком Кудом. Его одежда пахла каким-то ядовитым стиральным порошком. Ресторан был полон, сюда явилась половина фермеров городка, которым неохота было самим готовить себе завтрак – а может, они пришли ради удовольствия заказать и получить два сочных свиных ребрышка с домашней жареной картошкой, а то и добавку, вместо тарелки с несъедобной дрянью и жалобного нытья. Какого черта Нэнси не может приготовить приличный завтрак? Знает же прекрасно, что он любит испанский омлет, и как часто она его жарит? На День отца разве что. Завтрак в постель, испанский омлет, еще кое-что. А все другие дни – «готовь сам». И только Нэнси такая?
– Дик, ты дома что ешь на завтрак?
Дик поднял красную физиономию – кожа пористая, словно на нее побрызгали горячим сахаром.
– Замороженные вафли. У нас вся морозилка завалена этими вафлями. Их можно есть с маргарином или с кукурузным сиропом, можно со взбитыми сливками из тюбика. В крайнем случае, с желе. Как поживаете, миссис Рудингер? Я, пожалуй, возьму дежурное блюдо.
– Вы уверены? Сегодня у нас пареная репа, ее не все любят. – Она многозначительно посмотрела на человека из службы доставки, перед которым стояла тарелка с горкой пареной репы.
– Клянусь этим снегом, очень люблю. И побольше жареного лука. – На стене, за кассовым аппаратом висела фотография миссис Рудингер: стоя у венецианских жалюзи, она держала горящую бумагу – закладную – щипцами для спагетти. Над дверью красовалась голова взрослого оленя, которого миссис Рудингер застрелила в 1986 году; голова покачивалась, когда входили посетители.
– Это входит. Печенка, лук, пареная репа, два кукурузных кекса и кофе. Вы будете кофе?
– Лучше молока. Если можно. – Он повернулся к Конраду и сочувственно спросил:
– Как девочка?
– Кажется, неплохо, справляется. Два раза в неделю терапия, дома специальные приборы. Музыку еще слушает, мы купили «Уокман», пока она лежала в больнице. Чуть ли не каждые два дня ей подавай новую кассету, получается недешево.
Два сезонника-гватемальца встали из-за стола, заплатили за свои яичницы и ушли. Мимо проскакала новая официантка миссис Рудингер, наполняя чашки кофе.
– Кто она? – поинтересовался Дик Куд, когда девушка отошла на приличное расстояние, – китаянка, вьетнамка?
– Думаю, кореянка, – сказал Конрад. – В этом все и дело, азиаты затопили страну – чинки, мексы, паки, теперь еще арабы с Ближнего Востока. Совсем не то, что наши предки – те были белыми, они знали, на что идут, и что такое настоящая трудовая этика, они не слонялись без дела и не взрывали дома. Это не белые люди. Цветные, полукровки. Все просто – страна переполнена, на всех не хватит места, работы тоже не хватит.
– Ладно, ладно, – сказал Дик Куд, – у нас дома куча пленок. У сестры, остались, это Рассела – могу принести. Пусть девочка порадуется. Какую она любит музыку? Надеюсь не черномазое дерьмо – этот реп со всякой похабщиной. Я бы в своем доме такого не потерпел.
– Не. Что она любит? Знаешь, это забавно, но она все время крутит Лоренса Уэлка, всю эту старую попсу. Их теперь много на пленках. Не знаю, что она в нем нашла, но слушает целыми днями. По мне так эта ерунда протухла еще до моего рождения. Буль-буль-шампанское, а не музыка. Прям анекдот какой-то. Песни для богадельни. Но ей нравится. Бодрые мелодии, видимо поэтому. Нэнси хочет свозить ее в Диснейленд, когда она немного окрепнет, послушать польки, у них там потрясающий оркестр «Диснейленд Полька-Бэнд», до фига аккордеонов.
– Еще перерастет. После всего, что выпало на ее долю, пусть слушает, что хочет. Скажу тебе одну вещь насчет полек – этот диск-жокей из Сент-Пола пару месяцев назад выдал просто так, экспромтом, чтобы слушатели присылали ему названия своих любимых полечных групп, представляешь? За три дня получил двадцать восемь тысяч открыток. Да, позавчера мы смотрели «Мышьяк и старое кружево», это фильм Фрэнка Капры[315]315
Фрэнк Капра (1897 – 1991) – американский режиссер. Фильм «Мышьяк и старое кружево» снят в 1944 г.
[Закрыть]. Сказали, он тоже играл на гармошке, показали клип. Джимми Стюарт, Джон Кроуфорд[316]316
Джимми Стюарт (1908 – 1997), Джоан Кроуфорд (1904—1977) – американские актеры.
[Закрыть], и они когда-то играли на аккордеонах. Любимый инструмент Голливуда. А как насчет Майрона Флорена [317]317
Майрон Флорен – аккордеонист, участник шоу Лоренса Уэлка.
[Закрыть]? У меня есть записи. Он раньше играл у Лоренса Уэлка. А Фрэнки Янкович? «Катись из бочки…» А как насчет Уппи Джона Уилфарта [318]318
Уппи Джон Уилфарт (1893 – 1961) – аккордеонист, исполнявший фольклорную музыку.
[Закрыть]? Что он творил в Нью-Алме? А еще там была, на старой семьдесят восьмой пластинке, аккордеонистка, Виолет, Виола Турпейнин [319]319
Виола Турпейнин (1929 – 1945) – финско-американская аккордеонистка.
[Закрыть]? Финка. Бог ты мой, как она играла. Наверное, уже умерла. Красиво очень, эти скандинавские мелодии, но сейчас их мало где услышишь, разве только на фестивалях, это все хорошо, но в обычной жизни, как во времена моего детства, такую музыку разве найдешь? Мой дед еще играл. Он когда-то работал вместе с финнами, они там пели песню, что-то про почтальона. Черт их побери, ужасно смешно. У нас до сих пор валяется старая венгерская скрипка, правда, треснутая. Странно, сейчас вся эта старая музыка, многие интересуются, ты знаешь, финны, шведы, хорваты, но если хочешь знать мое мнение, это все равно, что заливать в мертвеца свежую кровь. – Он хотел сказать, что понимает толк в аккордеонах, ранах и бедах, но Конрад не хотел об этом слушать.
– Ну, эти песни ее чем-то трогают, у других людей не так. Говорит, поднимают настроение. Как-то сказала врачу, что если когда-нибудь сможет шевелить руками, то хотела бы научиться играть на аккордеоне.
– Правда? А что они говорят, это возможно?
– Нет.
– Что делать. Просто чудо, что она вообще жива. Чудо, что их пришили. Могу себе представить. В газете писали, это второй случай. Подумать только, сшить все крошечные сосудики, соединить мускулы? Я не понимаю, как они это сделали. Сильная, мужественная маленькая девочка. Кто-то там наверху за ней присматривает. Хотел бы я, чтобы Он так присматривал за Расселом. Наверное, ходит в какую-нибудь из этих групп взаимопомощи, есть ведь всякие – анонимные картежники, анонимные обжоры, сексоголики, магазинные воры. Должно же быть что-то вроде для слепых и увечных, правда?
Конрад посмотрел на часы. Он уже знал, к чему клонится разговор, но вовсе не хотел в очередной раз слушать о Расселе, которого посреди пустыни выбросили из автобуса. Оставалось двенадцать минут, чтобы добраться до «Газа Олд-Глори». Хорошо, если Пит уже там, поможет закинуть в грузовик баллоны. Всяко лучше, чем слушать Дика Куда – красная морда съежилась, сейчас заплачет.
– Что тут скажешь, – проговорил Конрад. – Днем светло, а ночью темно. Летом тепло, а зимой холодно. До встречи, – добавил он.
Дик доел репу и попросил добавки; он смотрел, как Конрад выезжает со стоянки на тарахтящем грузовике, между прочим, не пристегнув ремень – что за глупость так рисковать. Потом закурил. Что за бессмысленность во всей этой семейке. Уж как сестра заботилась о Расселе, и все равно с ним приключались беды – одна за другой. Дик допил молоко и пожалел, что кончились тосты. Потом ему вдруг пришло в голову:
– А рисового пудинга у вас нет?
– До обеда не будет, Дик. Мало кто заказывает на завтрак рисовый пудинг.
Он оставил ей десять центов, затем, скорчившись, вышел навстречу морозному ветру, в котором крутился сейчас чувствительный снежок, и двинулся к грузовику, оставленному перед почтой, в восьми кварталах от забегаловки. Он всегда там парковался. Ветер дул в лицо так сильно, что каждые несколько шагов приходилось отворачиваться и шагать вслепую. Жуткий холод, думал Дик, руки замерзли, даже в теплых перчатках. Цифровой термометр на фасаде банка показывал восемь градусов ниже нуля, но порывы ветра достигали сорока. Конрад ввалился в магазин – это была «Западная старина» – чуть-чуть согреться, все лучше чем ниточная лавка или магазин здоровой пищи – и стал бродить по рядам, приглядываясь к инструментам: старые красивые панели красного дерева, небольшой, но хорошо сбалансированный молоток, кованые дверные петли. На столе навален всякий хлам – обычно там не на что было смотреть, но как-то раз на этом самом столе он нашел крошечный медный ватерпас – спиртовой, с забавной гравировкой, настоящий инструмент краснодеревщика. Теперь там обнаружился маленький зеленый аккордеон, и Дик тут же ухватился за находку. Надо подарить девочке Конрада, ничего, что она никогда не будет играть. Пускай слушает свои пленки, смотрит и думает, что играет. Заплатив доллар, он и потащил старый аккордеон к грузовику.
Дома он решил слегка привести инструмент в порядок – по правде сказать, это был кусок дерьма; он положил его в раковину, включил душик, которым моют овощи, брызнул жидкого мыла. Проклятая хреновина пропиталась водой. Отяжелевший, но чистый инструмент не издал ни звука, когда Дик растянул меха, хотя он и жал на все кнопки сразу. Просто надо высушить. Он положил аккордеон под окно на решетку с горячим воздухом. К вечеру тот, естественно, высох и был достаточно чист, чтобы стало видно, насколько стара и разбита эта игрушка. Меха оказались жесткими, как дерево, и растягивались всего на несколько дюймов, дико при этом дребезжа. Дик побрызгал «Ви-Ди-40» и внутри и снаружи, но лучше от этого аккордеон не стал. А, к черту, все равно ей только смотреть.
На следующее утро он направился к той же забегаловке; переезжая через пути, посмотрел, как рельсоукладчики, устроившие себе недавно перерыв, вытирали рты бумажными салфетками и выбрасывали пластиковые бутылки вместе и бумажные кофейные стаканчики в установленную на платформе мусорную корзину, потом включил радио – это оказалась государственная станция, поскольку вчера после ужина на грузовике каталась жена – и стал слушать, как Джон Таунли поет «Край земли», под аккомпанемент редкой концертины «Диппер Шантиман»; ее делали из западно-индийского дерева кокоболо и кожи козленка, язычки ручной работы, на боках гравировка с морскими мотивами – пышнотелые русалки на гребнях волн – воздушные кнопки из полированной кости поблескивали на темном дереве, словно рычаги deux ex machina [320]320
Бог из машины (лат.).
[Закрыть].
Глубокие, как у гобоя, тона оттеняли голос Таунли, но на полуслове «великое море ре…» Дик выключил радио. Морские песни всегда кончались потерями и утопленниками.
(Его племянник Рассел родился слепым, и вся семья сочла за великую милость, когда у мальчика вдруг обнаружились музыкальные способности. Знакомая итальянка научила его играть на аккордеоне, а первой его сольной пьесой стала шведская версия «Жизни в финском лесу» – та, что потом превратилась в «Гору пересмешника». Женщина дала хороший совет:
– Старайся играть так, чтобы в этих песнях себя узнавали все нации – и ты никогда не будешь без работы. – К тринадцати годам он играл на большой квадратной концертине «Хемницер», заработал на детских конкурсах шестьсот хрустальных кубков – все благодаря собственной версии «Коровьего колокольчика», которую он исполнял на манер Эдди Арнольда[321]321
Эдди Арнольд (р. 1918) – американский кантри-музыкант и певец.
[Закрыть] так, что восьмидесятилетние обитатели Олд-Глори узнавали в проигрышах «Вальс Сент-Пола». Отец, с тревогой наблюдавший за тем, как мальчик понемногу приносит деньги, стал записывать его на пятничные часовые представления, проходившие на местной летней базе отдыха. «Озеро Хайдэвей» принадлежало его другу Харли Уэстхолду (урожденному Варенскьёльду), который совратил и очаровал Рассела за двадцать минут до его первого концерта.
– Давай малыш, прими по-быстрому душ. От тебя пахнет. Нельзя играть перед высококлассным залом и так потеть. Давай сюда, я тебя раздену. Душ вот здесь. Ах-ах-ах-ах. Только никому не говори, а то я тебя убью.
К двадцати одному году Рассел стал ходячим несчастьем. Пусть и слепой, но он тайком убегал из дому по ночам и стоял на дороге, пока его не подбирала попутка. В городе он играл на своей концертине для пьяных и накуренных, призывал художников по татуировкам «делать все, что угодно». Иллюстрации получались банальными, забавными, иногда непристойными. Год или два он проработал в Миннеаполисе уличным музыкантом, затем, одурев от химии, излишеств и грез о сверхъестественном, купил билет до Лас-Вегаса. За сорок миль до места он заглотил кучу разноцветных таблеток, вскочил на ноги, достал из футляра концертины пистолет и принялся палить в крышу автобуса. Две пловчихи из команды Университета Огайо разоружили его очень быстро. Водитель автобуса подрулил к обочине и попросил девушек выкинуть негодяя вон. Они столкнули его со ступенек, потом подняли, перекинули вместе с инструментом через забор из пяти рядов колючей проволоки и оставили в пустыне. С тех пор его никто не видел.)
Скука
А все потому, что было скучно. Она болталась по двору и замахивалась метелкой на ласточек. Несколько дюжин этих птичек поселились под карнизом старого сарая и внутри него, жухлые гнезда качались на пыльных балках, лепились под самой крышей, и половину лета птицы сновали туда-сюда, таская в клювах жуков, муравьев, ос, пауков, мух, пчел, мотыльков и толстые иголки.
Гроза надвигалась с севера: кудрявая, высоченная сливовая туча с темными клиньями у основания выпускала из себя злобные языки ветра. Ветер бесил и сводил с ума – чтобы укрыться от пыли, приходилось поворачиваться к нему спиной. Так оно все и вышло: ветер, гроза, где-то на севере дождь. Очень скучно и совсем нечего делать в Олд-Глори, нечего делать дома с глупыми родителями, и хуже всего по воскресеньям, когда просто нечего, нечего, нечего делать, и телевизор не работает, и некуда пойти, и ничего съедобного в холодильнике, только сырая индюшка валяется там уже неделю и успела протухнуть. Отмечая щели, в которые влетали и вылетали ласточки, она лупила по птицам, представляя, что это теннисные мячи, а она сама – чемпионка по теннису. Налетали порывы ветра, свистели и срывали с деревьев листья. Приближался грузовик, громыхая так, словно сейчас развалится на куски, она изящно повернулась, не выпуская из рук метлу-ракетку, и через темное стекло разглядела черные бачки Эда Канки, а рядом его сына Уайти, красавчика Уайти, старше ее на один класс, героя ее грез – ей виделось, как она сидит на детском стульчике, длинная до щиколоток юбка колоколом падает на пол, он подходит и что-то ей протягивает, она никогда не знала, что – букетик цветов, свернутый лист бумаги, или конфету (несколько лет спустя это выяснил психоаналитик) – потом наклоняется и целует, поцелуй похож на комара и едва касается сперва губ, потом, если это была ночь, волос, и тут в своих мечтах она падала в обморок. Сейчас же она высоко подняла метелку, с трудом удерживая ее против ветра и намереваясь зафигачить очередную ласточку в середину следующей недели. Но ласточек не было, грузовик проехал совсем близко, дребезжа и громыхая зубчатыми краями железных листов, мелькнул у сарая старого Надсена и понесся на север. Три ласточки нырнули в самые высокие гнезда, она подпрыгнула, замахиваясь метлой, и в эту секунду страшный порыв ветра вырвал из кузова кусок листового железа. Острый лист, словно летучая серебряная гильотина, спорхнул через весь двор, отрезал ниже локтей обе ее поднятых руки и ударил по лицу, поранив и сломав нос.
Канки даже не заметили, что их оброненное железо отрезало девочке руки, они поднялись в гору и исчезли из виду. Она стояла, ошеломленная, пригвожденная к земле и смотрела, как семена дерева сыплются на обшивку сарая, краска на нем давно облупилась от дождя и перемешанного с песком снега, равнодушные ласточки то исчезают, то появляются вновь, насекомые у них в клювах похожи на усы, разорванное ветром небо, черные окна дома, старое стекло швыряет в нее синее крутящееся отражение, из обрубков рук хлещут фонтаны крови – в первую секунду, она, кажется, услыхала влажный шлепок, с которым кисти стукнулись о стену сарая, и тонкий звук железного удара. На землю она не смотрела и не видела там своих рук, еще согнутых так, словно они удерживали метлу.
Она взвыла.
Из натянутых легких вылился невероятный переливчатый крик, мятежный рев умирающей жизни – крик, которому хотят научиться все, но дается он немногим. Этот крик выбросил из постели ее родителей, словно острия пружин.
Гости
Меньше чем за неделю Конрад приучил себя завтракать «Вдали от дома». Кормили там вкусно, место было веселое, полное суеты и новостей. Там не нужно было слушать, как жена причитает над Велой. Конрад любил свою дочь, но не выносил больных – он не мог смотреть на ее изуродованные шрамами руки, слушать стоны и тяжелое дыхание, когда физиотерапевт, густобровая женщина с писклявым голосом и огромной задницей, мучила девочку упражнениями. Как же часто они теперь плакали – и дочь, и жена. Дом пропах горем и промок от слез.
Конрад положил политую кетчупом глазунью на тост и откусил, другое яйцо он размазал по панированному в кукурузе мясу и попросил миссис Радингер принести два пончика с повидлом. Появился Дик Куд, волоча за собой пластиковый мешок для мусора.
– Что это, Дик, – твой обед?
– Нет, это для твоей девочки. Заметил у входа машину. Ты говорил, что ей мало этих старых лент? Тут штук пятьдесят, и еще аккордеон, нашел у Айвара, представляешь, может сгодится – будет смотреть на него и слушать пленки, как ты думаешь? Даже если просто смотреть, тоже ведь неплохо, а? Просто чудо. Маленькая мужественная девочка. Ты знаешь, я бы за это судил – навалить в кузов листовое железо без парусины и даже не привязать. Не представляю, как Эд Канки будет смотреть тебе в глаза. Преступление. Его мальчик учится вместе с Велой? Ты наверняка уже говорил с адвокатом. – Он протянул черный мешок Конраду, давившемуся в эту минуту первым пончиком.
– Слыхал историю? Разбился самолет, и погибли все, кроме одного мужика. Где-то в глуши, на Аляске, не знаю. Бедолага болтался по лесу почти неделю, ни одного человеческого следа, чуть не свихнулся. Потом видит: на дереве болтается веревка, а в ней черномазый. Мужик говорит: «Слава Господу, цивилизация». Здорово, да?
– Ага. Это южный анекдот. Рассказывали в Чиппеве. Но этого не может быть. В Северной Америке дороги через каждые двадцати миль. Не мог он блуждать целую неделю. Об этом писали в «Нэшнл Джиогрэфике». – Он доел второй пончик, проглотил остатки кофе и мотнул головой, скидывая со лба седую прядь. В горле застрял горький привкус.
– Спасибо, – Конрад встал, у него вдруг зачесалось все тело, будто на нем завелась парша. – Я отдам ей сегодня вечером. Пора на работу, делать доллары. – Он вышел за дверь, Дик Куд смотрел через окно, как он забрасывает мешок в кабину, и по тому, как садится за руль, скребнув ногой по полу, можно было догадаться, что пленки вывалились наружу. Он затолкал их в мешок довольно плотно, могли и расколоться. Эти пластиковые футляры для кассет, с острыми краями. Дик заметил, что Конрад опять не пристегнул ремень и закурил, выезжая с площадки. Если все время так сбрасывать со лба волосы, можно и шею свернуть. Дик поджал губы.
Вечером, подруливая к дому, Конрад увидал, что окна сияют сквозь сумерки мангово-желтым светом, а на площадке припаркованы три машины. О Господи, только бы ничего не случилось, сказал он вслух; ветер захлопнул дверцу и натянул шарниры, а Конрад, взбежав по ступенькам, окунулся в запах орегано и дрожжей, грохот музыки с верхнего этажа, топот и разговоры. Жена колдовала над взбитым кремом, а на стойке был сооружен буфет с синими и белыми пластиковыми тарелками, веером чайных ложек, палочками морковки и сельдерея, кубиками оранжевого сыра и геометрическими фигурами из оливок, деревянная миска щетинилась картофельными кольцами.
– Что, черт побери, тут происходит?
– Только не говори, что забыл. Я сто раз повторила: пятого числа у Велы гости, к ней приходят в гости школьные подружки. Они сейчас наверху. Я испекла слоеный торт с клубникой. Никогда больше не буду его делать – на этой проклятой старой кухне жуткая темень – все равно что вдевать нитку в иголку посреди угольной шахты. Они будут кушать у нее в комнате, забрали все стулья. Мы поедим в гостиной. Я там поставила карточный столик. В леднике для тебя пара банок пива. Что это за мешок?
– Для Велы. Дик Куд передал то ли пленки, то ли еще что. Господи, не могу я больше слушать, как он трындит об одном и том же. Как будто не о чем больше говорить, да еще таким слюнявым голосом. О чем бы шел разговор, все сворачивает на Рассела.
– Рассел – это кто?
– Племянник. Проклятый богом кудовский племянник, которого выкинули из автобуса посреди пустыни. – От музыки, что тяжелыми громкими ударами пробивалась со второго этажа, у него лязгала челюсть.
– Там кто?
– Одри. Дочка твоего босса. Одри Генри и еще несколько девочек. Я сейчас отнесу им закуски, или, может, лучше ты сам скажешь, что еда готова? Поднимись, если хочешь.
– Нет, лучше ты. Может они заодно приглушат басы и дадут нам спокойно поесть?
Она засмеялась, но не обычным своим смехом, а театральным «ха-ха», которому научилась у телевизора.
– Сомневаюсь, они же веселятся.
Пять девочек расселись на краю кровати и на деревянных кухонных стульях. На подоконнике выстроились банки из-под шипучки. Одри Генри держала на коленях кассетник и легонько барабанила по нему пальцами. Серебристые волосы подстрижены под горшок, затылок выбрит. На ней были мешковатые армейские штаны, переливающийся лиловый свитер не доходил до пояса.
Нэнси остановилась в дверях, улыбнулась девочкам, и проговорила старательно-веселым голосом:
– Одри, какой чудный свитерок, что это, мохер? Кашемир! Очень красиво. Девочки, пицца готова, так что берите, не стесняйтесь. И побольше, вторая в духовке, я поставила на маленький огонь. Вела, Дик Куд передал тебе пленки.
Вела опиралась спиной на дорогую треугольную подушку, на подносе перед ней стояла банка кока-колы с длинной соломинкой. На лице россыпь прыщиков, длинные волосы уныло висят, несмотря на все мучения Нэнси с плойкой. Бесполезные руки спрятаны под художественным покрывалом, которое Нэнси сшила сама, и, посчитав, что это элегантно, украсила узором из листьев плюща.
– Пленки. Ну, ладно, пленки, а какие? Тяжелый, их там, наверное, штук сто. – Одри высыпала пластиковые кассеты на кровать. Туда же повалился и старый жесткий аккордеон.
– Господи, что это?
– Аккордеон. Ну и развалина. – Ким, которая с пятого класса играла на клавишном аккордеоне, но терпеть не могла этот инструмент и мечтала о гитаре, взяла подарок в руки. Заскорузлые меха не желали растягиваться, и она сдалась, после того, как эта пищалка выпустила из себя несколько тонких ноющих звуков, словно астматический младенец. – Не играет. А что за пленки? Майрон Флорен, кто это? «Полька на всю ночь», «Полька для любимой»? Смотрите, смотрите, какой урод.
– Давай поставим. Для смеха.
– Давай, вот какие-то «Полька-маньяки». Включай.
Они визжали от смеха, они чуть не умирали от хохота, передразнивая дурацкие «умпа» танцоров и топая ногами с силой, которой позавидовал бы сваезабойщик.
Вела сидела с обиженным видом.
– Ма, зачем мне этот хлам? Убери его. Выброси в мусор. И это тоже, – указывая подбородком на аккордеон. Одри нажала на кнопку, и кассета выскочила из плейера. Словно вонючую кость, девочка бросила ее в мешок, вернула на место прежнюю и щелчком прибавила громкость.
– Что это за группа? – спросила Нэнси. – Звучит красиво.
– «Заворачивай роту, базука, и схема…», – пел низкий мужской голос.
– «Враг Общества». Я их обожаю. Мама, подарите мне на день рождения эту кассету.
– Папа говорит, слишком громко.
– Это же рэп! Он должен быть громкий.
– Ладно, девочки, не забудьте про буфет. На десерт слоеный торт с клубникой и взбитым кремом.
– Можно я выдавлю крем из баллончика, миссис Хасманн? Мне ужасно нравится.
– К сожалению, Одри, этот крем я взбивала в миске, она слишком тяжелая.
– Тогда я пас. Я такой не люблю, он совсем не сладкий. – Я буду только клубнику. У вас есть «Тропикана»?
Нэнси не понимала, чему они все смеются.
– Вела, ты говорила своим подругам, что мы весной поедем в Диснейленд?
– Боже мой! – воскликнула Одри. – Диснейленд.
(Через год, ранним темным утром Одри улетала в Бостон – она первая из женщин своей семьи отправлялась учиться в колледж. Внизу, словно светящееся тесто, раскатывались желтые огни городов, длинные потоки фонарей чертили дороги, из темноты возникали занятые своим делом рабочие. Улицы казались светящимися бороздами. На востоке, сквозь угрюмое облако, пробился кроваво-оранжевый луч, и самолет снижался, направляясь к сплошному полю шрамов и рубцов – Чикаго.)
Нэнси с Конрадом сидели в гостиной на креслах, таращились в телевизор и слушали, как грохочет второй этаж.
– Кто притащил эту помойную молотилку? Одри? – Он откинул назад седую прядь.
– А кто же еще? Вырядилась в кашемировый свитер, двести баксов, не меньше. – Они опять уставились в телевизор.
– Одна сплошная война, – сказала Нэнси. – Один сплошной дым. Ничего не видно, даже оружия.
– Ага. Иракцы подожгли скважины.
– Дать тебе кусочек торта?
– А медведь срет в лесу? – Корки пиццы лежали на ручке кресла одутловатыми улыбками.