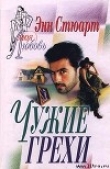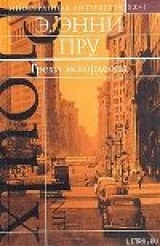
Текст книги "Грехи аккордеона"
Автор книги: Энни Прул
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Думаешь, все уладится
Только через год или два наступил день, когда он окончательно решил отнести аккордеон в ломбард, но не для того, чтобы купить билет на юг, а потому, что приобрел к этому времени не слишком обременительную привычку, а зарплату задерживали, но если человеку что-то надо, значит надо. Он никуда не уехал. Он устроился учеником плотника в строительную компанию, собирался вступать в профсоюз, хотя спешить было некуда, на новых объектах появилась работа, недостроенные здания наполнялись чернокожими сразу, как только привозили окна; огромную площадь поделили между собой город и скоростная дорога Дэна Райана. Грош цена разговорам про интеграцию юга – пусть посмотрят своими глазами: прочная, как скала, сегрегация, окруженная настоящим крепостным рвом. Может, так и задумывалось?
Он связался с двумя женщинами, и хорошо себя при этом чувствовал – Бо-Джек и Стаддер приехали из его родных мест и направились прямиком на музыкальную сцену; он показывал им, что тут и где, а они смотрели на него снизу вверх, и шутили лишь наполовину, называя «большим ниггером в Чикаго». Октав устроил для них экскурсию по цветным клубам, где тусуются отморозки, и дальше – где жирные, как свиньи, белые драндулеты сутенеров протискиваются сквозь кучки поджарых гангстеров; вылезая из машин, эта публика демонстрировала острые, как лезвия, стрелки брючек, крокодиловые туфли и вихляющую, как положено котам, походку. Бо-Джек сказала, что Вилма вышла замуж и переехала в Атланту. Им хотелось послушать что-то особенное, какие-нибудь новые необычные мелодии. Он отправил их в клуб «Брильянтовая точка» на группу «Негритянское жужу» с диатоническим аккордеоном, sekere [270]270
Негритянский музыкальный инструмент – кувшинообразный барабан.
[Закрыть], говорящим барабаном, цимбалами и гонгом. Бобби полюбила их до умопомрачения – бум! теперь она поклонялась только этой музыке, и все предложения Октава о том, что может, неплохо было бы вспомнить их старые песни, отвергались без разговоров. На самом деле, ему и самому не особенно хотелось. Теперь, когда у него завелись деньжата, он пристрастился к ночной жизни, купил в рассрочку большой клавишный аккордеон (два доллара в неделю), завел себе черную шелковую тунику, кашемировый шарф, который обматывал вокруг головы, афганский плащ до щиколоток из какого-то желтого меха и зажил не то чтобы на широкую ногу, но всяко лучше, чем раньше. Его все сильнее привлекали городские блюзы, но он по-прежнему играл зайдеко, немного стыдясь своей южной черномазой музыки. Это началось однажды ночью, когда он слушал в каком-то клубе игру косоглазого дурачка с южных болот: слабенький дрожащий голос, на который никто не обращал внимания, постоянно срывался, оставляя в каждой строке грубые заплаты пауз и выпихивая из себя лишь обрезки слов. Аккордеон этого придурка сбивался с ритма, щелкал, словно пишущая машинка, и Октав понимал, что такая игра никуда не годится. Годилось разве что луизианское дерьмо болотной попсы, белое дерьмо на двух аккордах, ми-бемоль и си-бемоль, да и оно сходило на нет. Он не будет это играть.
Он сам не знал почему так получалось, но у него испортился характер: теперь его раздражала любая мелочь, чего никогда не было в Луизиане – возможно виноват телевизор, который вечно лез, когда надо и не надо, со своими машинами и башмаками. Приходилось держать себя в руках: на верхних этажах зданий и внизу кварталов – вечеринки в съемных залах, картежные вечеринки, просто вечеринки, субботние ночи и другие ночи тоже, если у вас есть к ним вкус, а еще к траве, коксу и хорошей выпивке, если такие штуки вам нравятся. Ему нравились. Чикаго сходил с ума. Октав полюбил саксофон и электрогитару, это было классно, очень красиво. Он никак не мог насытиться, торопился восполнить то, чего не хватало ему в прежней жизни, не отказывал себе в золотых кольцах и цепочках. На полке у него стояло шесть книг: «Краткая мировая энциклопедия», «Самоучитель школьных дисциплин», «Великие цветные», «Сексуальная анатомия женщины», «Универсальный словарь рифм», «Введение в музыкальные размеры»
Что-то происходило, или казалось, что происходит, он спал с женщинами, попадал в черные списки, работы таяли, они просто не нужны были больше. Экономика закукливалась. Ну что ж, он тоже сожмется и будет ждать, когда она вновь начнет разворачиваться. Никуда не денется: слишком многим нужна работа.
Ты понятия не имеешь, откуда ты взялся
Его пра-прадеда приковали цепью к каравану рабов – в этом была особая горькая ирония, поскольку он был духовно связан с металлом, происходил из древнего рода кузнецов, нагревавших железные прутья на своих наковальнях (это заметно повысило его цену); на работорговом корабле «Нант» его доставили в Новый Орлеан и продали плантатору, который привез свое приобретение в дельту Миссисипи – там он и умер, не дожив до сорока лет, но успев соорудить достаточное количество оконных решеток и ворот, каминных подставок и таганов, кандалов и инструментов – иногда он делал декоративные штучки, которые несли в себе тайное проклятие, и ни о чем не подозревавшие белые умирали потом от непонятных болезней.
Сын кузнеца Кордозар (прадед Октава, Иды и Мэри-Перл) родился рабом и научился у отца обращаться с наковальней; в двадцать семь лет он убежал в Канаду: шел ночами, а днем прятался с индейцами в болотах. Он пообещал своей женщине, что как только доберется до места, устроит ей побег, и она приедет к нему на север вместе с сыном Зефиром. Но через несколько месяцев после того, как он добрался до Торонто, разразилась Гражданская война; сгорая от нетерпения получить оружие, он добрался до Бостона, записался добровольцем, прошел с боями от Пенсильвании до Вирджинии, дважды был ранен, гонял санитарную повозку и очевидно забыл о женщине с ребенком. Через несколько лет после Аппоматтокса[271]271
Город, в котором в 1865 г. была подписана капитуляция армии Юга.
[Закрыть], в составе одного из двух черных конных полков десятого кавалерийского отряда он отправился на запад и утонул в речке Прейри-Дог, когда незаметно подкравшийся двенадцатилетний сиу всадил пулю в живот его лошади.
Девушка осталась позади
Ребенок Зефир рос в Ванилле, Миссисипи: собирал хлопок по испольной системе, бренчал на банджо, жил бедной и трудной речной жизнью от найма до расчета на одной из самых богатых земляных россыпей в мире, вечно недополучал заработанные деньги, учился письму и арифметике, болел и травился цветами фасоли, а еще молился. После нескольких лет такой жизни он бросил все, взял банджо и отправился по территориям с карнавальным шествием, заодно играя африканского плута – просунув голову сквозь дырку в простыне, он подмигивал и гримасничал перед толпой белых мужчин и мальчишек, которые по очереди, широко размахиваясь, швыряли в него мяч – «Виктрола» в это время, скрипя, наигрывала: «Пляши, черномазый». Карнавал кончился в захолустном овечьем городке Невады, Зефир остался без гроша, так что пришлось продавать за два доллара банджо, и этих денег ему хватило на половину дороги до Ваниллы. Вторую половину он прошел пешком, явился домой со стертыми ногами и впрягся теперь уже навсегда в круг исполья, чтобы получать свою жалкую долю радостей от секса, выпивки и музыки. В 1930 году его сфотографировал белый из Управления охраны ферм – Зефир позировал в своей рабочей одежде, странном костюме из тряпок, пришитых к другим тряпкам сотней болтающихся ниток и в шляпе из проеденного молью фетра. Он сделал детей четырем женщинам и предоставил их самим себе. Завел беспородного пса и назвал его Хлопковый Глаз – пес прославился тем, что зализывал людские раны, и за эту услугу Зефир брал пятак. Как-то в бедный засушливый год у него в огороде вырос невероятных размеров амарант. Зефир прилежно поливал растение, следил, чтобы вокруг не было сорняков, восхищался его размерами – стебель был толщиной в два больших пальца. Он вырос до десяти футов, после чего упал, не выдержав собственного веса, – величайший амарант на свете остался в памяти всех, кто его видел.
Зефир мало говорил – за него пело банджо, – никогда не выдавал своих секретов, никогда не сообщал, о чем думает, лишь о том, чего хочет, о том, что мог бы получить – до тех пор, пока после демонстрации новой хлопкоуборочной машины «Международный жнец» не пришло время расчета, и мистер Пелф не объявил, что за год Зефир заработал ровно три доллара; он в последний раз положил деньги на похоронный счет, лег на застеленную тряпками кровать и попросил принести ростбиф с шампанским (эти два кулинарных излишества приобрели для него статус иконы после того, как ему довелось их попробовать пятьдесят лет назад на празднике Четвертого июля – распорядитель карнавала устроил тогда пир в модном ресторане Де-Мойна, расплатившись поддельным чеком). Дочь по имени Лэмб, единственная из всех его детей, дожившая до этого дня, принесла на блюдце жареный свиной хрящ и стакан шипучки. Зефиру было восемьдесят три года, он очень устал, а лицо покрывали глубокие морщины, похожие на швы стеганого одеяла.
– Нет, – сказал он, завернулся в серое покрывало, повернулся к стене, закрыл глаза, и так и пролежал два дня, не шевелясь и не говоря не слова, пока не умер, изнуренный великой и вечной борьбой.
Байю-Ферос
Лэмб дотянулась до подоконника, нажала на кнопку будильника, накрыла свитером запотевшее зеркало, сняла с комода фотографии детей и завернула их в бумагу. После похорон старика в мае 1955 года Лэмб с тремя детьми – Октавом, Идой и Мэри-Перл – переехала в Байю-Ферос, Луизиана, вместе со своим дружком, Уорфилдом Данксом (бледно-карие глаза в ободке чистого голубого цвета), Там они купили радио и начали слушать профессора Боба, короля проигрывателей из Шривпорта. Через час после того, как они сняли эту халупу, Мэри-Перл наступила на осиное гнездо и прямо в старом цветастом платьице рванула сквозь заросли колючек, прыгая, как ненормальная, огромными дикими подскоками так, что только мелькали на солнце тонкие и искусанные девчоночьи ноги.
Через год несчастный Уорфилд погиб на шоссе: остановился рассмотреть шестисотфунтового борова, несшегося прямо по середине дороги, и в это время пожилая белая женщина въехала на «шевроле» в зад его машины. Лэмб работала на кухне у белого президента колледжа (разрешалось уносить домой кожу, жир, ноги и головы консервированных куриц, картофельные шкурки и черствые горбушки) за пять с половиной долларов в неделю. Надеялась когда-нибудь перебраться наверх – перетряхивать льняные кремовые простыни, стирать пыль с подоконников, расставлять туфли миссис Арстрэддл на косых полках. Дети подрастали. Октав, уже почти мужчина, ловил в заливе рыбу. Ему нужна новая лодка, из которой не надо будет вычерпывать каждые десять минут воду, и с хорошим мотором. Она молилась, чтобы Мэри-Перл не попала в беду, не очень надеясь на результат – девочка была слишком хороша собой и сводила мальчишек с ума. Настоящей бедой была Ида – в восемнадцать лет она выросла до шести футов двух дюймов и весила почти триста фунтов; некрасивая, черная, нос картошкой, щель между зубами; когда девочки прыгали через скакалку, она всегда крутила веревку. Драчливая, с зычным голосом – ей бы родиться мальчишкой. Может она и успокоится после того, как родит первого ребенка, а может и нет – судя по замашкам, она ненавидела мужчин и не собиралась рожать детей, говорила, что на нее не заберется ни один мужик, крушила все на своем пути, а под кроватью у нее была свалена куча книг и журналов в желтых обложках – такого пыльного беспорядка Лэмб в жизни не видала. В любое время дня и ночи к ним в дверь стучались какие-то тетки с новым бумажным хламом.
– С таким видом – можешь не волноваться, – говорила Лэмб. – Ни один мужик на тебя даже не посмотрит.
– Я знаю, какой у меня вид. Ты повторяешь это с тех пор, как я научилась ходить.
Вырывание волос
В восьмом классе Ида потащила свою подружку Тамонетт в центр города вырывать белым волосы. Они шагали по пыльной дороге, держась за руки и распевая «Иисус в телефонной трубке». Обе обладали весьма опасным чувством юмора – после собственных шуток им приходилось давить в себе смех, чтобы не вляпаться в историю. Тамонетт была худенькой, низкорослой и считала, что обязана стать такой же храброй, как сестра ее бабушки Мэралайн Брюлл, которая в 1920 году уехала в Париж прислуживать в белом семействе, там научилась летать на аэроплане, вернулась на юг и распыляла по полям удобрения, пока в 1931 году белый фермер не подбил ее самолет из ружья прямо в небе; но даже тогда она не утратила присутствия духа, направила горящую машину прямо на этого человека с ружьем и погибла вместе с ним.
– Что это на тебе за джинсы? – критически поинтересовалась Тамонетт.
– Спроси чего полегче. Джинсы и джинсы, – ответила Ида, поворачиваясь, чтобы разглядеть этикетку.
– Дура, за этой фирмой ККК, они делают на нас деньги. И, между прочим, за жареными курями, которые ты так любишь, тоже. Выкинь лучше эту гадость.
– Тамонетт, ты-то откуда знаешь?
– Дура, кто ж этого не знает?
До Фероса было четыре мили, и город пугал их своими машинами, тротуарами и светофорами. Казалось, все белые смотрят им вслед и знают, что у них на уме.
– Теперь слушай, – сказала Ида. – Только один волос, и чтоб не хапала целую жменю, только один волос – а если кто заметит, говори: «ой, звиняйте, мэм, верно зацепилася за браслетку».
– И чтоб ты на меня не смотрела.
– Точно. И сама не смотри. Запомни: только один волос. Так больнее.
Универмаг Крэйна с его вечной толкучкой вполне подходил для операции, но только не пятачок на первом этаже, вокруг эскалатора. Сделав свое дело, девочкам надо как можно быстрее затеряться среди людей, и Тамонетт показала глазами на прилавок возврата, где примерно пятеро белых дожидались своей очереди, чтобы вернуть хлам, на который они зря потратили деньги; эти люди держались кучкой, болтали и тянули шеи, высматривая, скоро ли закончит тот, кто стоял сейчас у прилавка.
Ида выбрала двух толстых теток: у Номера Один были светлые волосы, мужиковатое лицо и свободное розовое платье; она разговаривала с Номером Два – толстопузой дамой с пучками фиолетовых кудряшек. Айда подобралась достаточно близко и хорошо слышала их разговор.
– Эльза разве не состоит в «Дочерях»?
– Нет, милочка, раньше – да, а теперь вышла.
– Ее семья ведь давно живет в Миссисипи.
– Смотри, какая короткая юбка.
– Ох эти юбки, неужели им не холодно.
– Что за мода, ужас какой-то.
– Я бы купила себе новое платье, но не могу… ну…
– Знаешь Эльзину машину? Я когда сажусь, все время стукаюсь головой.
– И не говори! Хорошо, что не я одна… ОЙ! – Руки метнулись к затылку, она принялась оглядываться по сторонам, потом подняла глаза к потолку, подумав: может, канарейка сбежала из отдела живой природы?
– Правда, милочка, эти шпильки иногда так раздражают.
– Кто-то вырвал у меня волос.
– Только не смотри на меня так, – сказали фиолетовые букли. Ида и Тамонетт были уже за два прохода от них, разглядывали блокнот с крапчатой обложкой и даже не улыбались. (Ида заплатила за блокнот двадцать девять центов: она уже тогда записывала кое-что из услышанного.) Позже им досталась девушка с длинными рыжими волосами, разделенными пробором, затем они перебрались в другой магазин, и там Тамонетт обработала молодого человека с длинными всколоченными патлами; при этом ни разу за все время ни одна из них не улыбнулась, даже по дороге к дому, хотя обеих распирало настолько, что, ввалившись, наконец, к Иде, они тут же покатились со смеху, визжали и хрюкали, повторяя вновь и вновь, как они бочком подбирались к этой, а потом к этому, выбирали волос, резко дергали и отваливали прочь с каменными мордами.
Лэмб была дома и перешивала из старой тряпки миссис Астрэддл нечто такое, что Иде или Мэри-Перл придется потом таскать на себе, всей душой ненавидя эту убогую хламиду. Преподобный Айк, точно полные горсти пневматических пулек, выплескивал из радиоприемника слова:
– Я великий, я замечательнейший, я выше любых измерительных линеек и классификаций, я некто, я нечто, я надвигаюсь на вас, словно БУЛЬДОЗЕР, я отлично выгляжу, а пахну еще отличнее, и я говорю вам: бросьте то-то и идите туда-то. Делайте деньги, милые мои. И вам, и мне, нам не нужны журавли завтра, нам нужны доллары сегодня. Они нужны нам СЕЙЧАС. В большом мешке, в ящике или вагоне поезда, но нам нужны ДЕНЬГИ. Слушайте меня. Ничего не бывает даром. Мы хотим потрясти денежное дерево. Что-то пропущено в этой старой пословице, вы помните ее – деньги лежат на крыше зла. Я говорю вам: нищета лежит на крыше зла. Самое лучшее, что вы можете сделать для бедных, – это не быть ими. Никогда, ни за что. Не становиться бедняками, бедняки – это просто навоз, можете быть уверены. Знайте же, что…
Лэмб верила каждому слову преподобного Айка, жадно вслушивалась в истории о том, как слепая нищенка купила амулет, а через минуту зазвонил телефон, по которому ей сообщили, что она выиграла «кадиллак»; потом о человеке, которому достался билет на круиз по южным морям, или о другом, нашедшем на сиденье автобуса кошелек с хрустящими банкнотами и без всяких документов. Она заказала себе этот амулет и теперь держала его в носке воскресных туфель из натуральной кожи, дожидаясь, когда он начнет действовать, а пока повторяла каждое утро:
– Я молюсь и знаю: когда-нибудь Господь сделает меня богатой.
Ида находит дело
В 1960 году Иде исполнилось восемнадцать, а Тамонетт, бросившая школу в девятом классе, была теперь размером с дом – вынашивала второго ребенка.
Получив аттестат, Ида уткнулась в тупик, о котором прекрасно знала заранее. Для черной женщины существовало только два пути: в прислуги или в поле. Какой смысл изучать обществоведение и алгебру, если самое лучшее, чем ты сможешь заняться, – чистить белым женщинам их мраморные унитазы? Лэмб как-то спросила миссис Астрэддл, нет ли у нее работы для Иды, например, в кухне, может на несколько часов в день, но миссис Астрэддл, встретив Идин сердитый взгляд и отметив, как та крутит огромными ручищами, сказала: вряд ли, Лэмб.
Блокноты и бумаги валялись по всему дому: закрученные страницы, вырванные страницы – все это разлеталось по полу, стоило кому-нибудь выйти на крыльцо.
– Неужели трудно убрать свое дерьмо? – говорила Лэмб.
– Дерьмо? Ты даже не знаешь, что это такое.
– Не знаю и знать не хочу. По мне, так бумажная куча. По мне, так ты только и делаешь, что собираешь у всяких бабок бумажки. Зачем они тебе, эти бабские бумажки? Мараешь в тетрадках почем зря, нет бы искать работу.
– Я пишу то, что мне рассказывают.
– Лучше ищи работу, – горько сказала мать.
В первый день февраля Джо Макнэйл, Франклин Маккэйн, Дэвид Ричмонд и Эзел Блэйр-младший уселись за столики в буфете универмага «Вулворт», штат Северной Каролина, – и в считанные месяцы сидячие демонстрации распространились повсеместно. Свалив блокноты и бумаги в коробку, Ида задвинула ее под кровать.
– Я поехала, я поехала. В Северную Каролину, – заявила она.
– Дура, – сказала мать. – Тебя убьют. Белые тебя убьют. Никуда ты не поедешь. Ребята из колледжа, студенты – вот они пусть этим и занимаются, черные и главное белые, у них там организация, а ты что – придешь и скажешь: «Привет, я маленькая Ида из Байю-Ферос»? Эти люди ходят в красивых браслетах и розовых рубашках. Ты ж там никого не знаешь. Ты ни в какой ни организации. Послушай меня, дочка, страшно это, пойми ж ты, наконец. Я тебе серьезно говорю, ты с огнем играешь. Они тебя выкинут, как куриные кости с тарелки.
– Я могу ходить маршем. Могу в сидячей демонстрации.
– Маршем? Тебе ж не дойти до магазина, сразу ноешь. Посмотри, сколько на тебе жира, мили не пройдешь, растаешь. Ты ж вопишь от картофельных мошек, лучше б уж царапала эти бабские бумажки. Иди, иди в свою Северную Каролину, тебя там убьют.
– Никто меня не убьет.
– Каждый день убивают, а они посмышленее тебя и получше с виду. Можешь мне поверить, бедный мистер Вилли Эдвардс в своей Алабаме тоже думал, что его не убьют, однако ж в первый день, как сел на грузовик, так Ку-Клусы наставили на него пистолет да и скинули с моста в реку. Ни за что. Я могу рассказывать тебе такое день и ночь, да что толку тратить силы?
(Через несколько недель Реднек Баб по пути на запись своего единственного хита «Каджунский король Ку-Клус-Клана», «только для сегрегационистов», затормозил перед домом Лэмб. Подошел к двери.
– Телефон есть? – спросил он. – Дай позвонить. – Она знала, кто это, и дала телефон. Через два дня он возвращался домой, и когда снова проезжал мимо дома Лэмб, у него вдруг началась жуткая головная боль – такого он не помнил за всю жизнь; боль держалась целую неделю, и, в конце концов, он вместе с машиной слетел с дороги.)