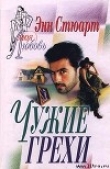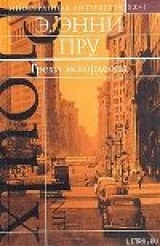
Текст книги "Грехи аккордеона"
Автор книги: Энни Прул
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
Trois jours apr s ma mort[239]239
Три дня после моей смерти (фр.).
[Закрыть]
Миновав перекресток с бензоколонкой, они подъехали к поселку.
– Погодите, погодите. Это еще что такое? – Онесифор указал на строившееся здание – братья Мараис прибивали гвоздями наружную обшивку, оставляя пустые прямоугольники для зеркальных окон.
– Ресторан. За ним кто-то из Хьюстона. Будет называться «Каджун-кафе Буду»: джамбалайя[240]240
Густая похлебка или рагу с рисом, мясом и креветками, традиционное блюдо луизианской кухни.
[Закрыть], вареные раки и всю ночь живая музыка. Для туристов.
– Что еще за Буду?
– Нет никакого Буду. Они придумали фамилию, чтобы звучало по-каджунски, француз и все такое. Туристская индустрия, работа для местных, вот хотя бы братья Мараис.
– Знаешь, что я тебе скажу, – произнес Онесифор, зло кося глазом, – вот наше поколение, мы просто живем. Мы не думаем, кто мы и что, мы родились, живем, ловим рыбу, возимся на фермах, едим домашнюю еду, пляшем, играем музыку, стареем и умираем, и никто не приходит нам надоедать. А ваше все ломается. Вы говорите только по-американски, ни тебе французского, видали. А то еще бывает так: О, я выучу французский язык, о, я буду каджуном, быстро скажи мне, как это будет по-французски, и давай сюда ’tit fer [241]241
Металлический треугольник (фр.), музыкальный инструмент, с помощью которого обычно задается ритм.
[Закрыть], я вам счас сыграю каджунскую музыку. А посмотри на своих bébés, что они будут видеть – приходят чужие люди, строят рестораны, никто не хочет есть домашнюю еду, никто не ходит на танцы, все вместо этого отправляются в ресторан какого-то техасца, все для туристов, чтобы смотрели на каджунов, как на мартышек. КАДЖУНИЯ! Еще вывеску повесьте.
Бадди закатил глаза. Они миновали лавку Дюмона, затем волнистую линию забора с двумя рядами колючей проволоки, огораживавшего новый фермерский дом Бо Арбу: наличники на окнах покрашены синей, как море, краской, на свежескошенном газоне расселись гипсовые утки, а на крыше – первая из длинного ряда телевизионных антенн рисует в воздухе петли и завитки, напоминающие своим узором старое клеймо для скота – «сковородку с гадюками».
– Вы только посмотрите на этот симпатичный домик, и ведь никогда не скажешь, что старик Арбу умер от проказы. О, я помню, тогда все только и говорили, что ноги у него, как сыр, а большой палец отвалился прямо в спальне, потом его увезли в Карвилль, в лепрозорий. Специально ведь скрывали, чтобы он мог пожить дома.
– Как же, был бы у него такой дом, если бы не буровые, – промычал Бадди правой стороной рта. Они обогнули онесифоровскую поилку для коров и свернули к гаражу. Бадди с невесткой жили на другом конце поселка у рисового поля в щитовом доме, за который еще нужно было выплачивать кредит. Пикап остановился рядом со старым грузовиком Онесифора; краска с машины полностью облезла, а изъеденный мокрой солью темно-красный кузов покрывали вмятины – следы аварии, в которую как-то попал старик, и гульбы распаленных водителей на парковке перед танцзалом. По всей кабине, словно брызги, дыры от пуль – память о той ночи, когда убили Белль.
– Давай сперва снимем кормушку, – сказал Онесифор. – Хочу выставить ее за ограду на место этой старой деревяшки. – Одинаково зажав сигареты углами ртов, чтобы дым не лез в глаза, они оттащили кормушку к забору и выволокли наружу старое ломаное деревянное корыто, которое стояло тут всегда, по крайней мере столько, сколько Бадди себя помнил; Онесифор прикрутил обновку проволокой. Гальванизированный металл ярко сверкал на солнце.
– Пока пустое, коровы не будут его бодать, ох-хо, – сказал он. – Надо бы дать им немного сена, пусть привыкают к новой штуке. – И вывалил в корыто тюк. Послышались раскаты грома.
Белль
Невестка заставила детей снять на крыльце обувь; мадам Мэйлфут была помешана на чистоте – еще и поэтому Бадди с семьей так редко сюда заходили. Белая газовая плита уравновешивалась сверкающим холодильником у противоположной стены. Чистый голубой свет, падая из окна, отражался сначала от белой эмалевой поверхности обеденного стола, а потом от урны из полированного стекла. Пол был покрыт белым линолеумом и натерт до гладкости воды. Мадам Мэйлфут перестелила этот линолеум несколько лет назад после того, как на парковке в Эмпайре застрелили Белль. В ту ночь еще три человека получили пули или удары ножом, двоих ранил взбесившийся пьяный бандит по имени Эрл, которого вышвырнули из бара за то, что ему захотелось помочиться на чужие ноги (он потом умер в тюрьме от приступа кашля). В темноте и суматохе люди бросались от одной стены к другой, на улицу и обратно, словно муравьи от лошадиных копыт. Эрл принял Белль за одного из барменов – оба были стройны и невысоки ростом, у обоих лохматые курчавые волосы: она получила в грудь заряд картечи и на следующее утро умерла в больнице. В приемной тогда пахло морскими свинками.
И прежде опрятная и собранная мадам Мэйлфут после похорон Белль помешалась на чистоте, мало говорила и надолго погружалась в молчание. Она оставила постель Онесифора, и спала теперь в комнате погибшей дочери. В потоке света восходящей луны ей часто казалось, что девочка всего лишь уехала в Техас навестить кузин. Плавная возвышенная музыка и чистые голоса лились, огибая рваные облака, вместе с лунным светом прямо в комнату. Лучи рисовали на стене тонкую закругленную сетку, похожую на натянутый лук с волокнистой бахромой и тесьмой на одном конце, а над стоявшим у окна электрическим обогревателем колебались вместе с воздухом длинные нити луны. Она не могла найти источник этого странного и прекрасного узора – он висел над кроватью несколько минут, потом исчезал, оставляя после себя обычную скучно-белую стену. Женщина видела в нем знак того, что ее дочь на небесах. По секрету от всех она купила набор красок и, когда Онесифор уходил из дома, восстанавливала образ умершей дочери, сначала на листах бумаги, потом на квадратах холста – без мольберта, просто расстелив его на столе, она копировала старые фотографии. Сперва нарисовала ее совсем маленькой, потом появилась девочка с поднятой над головой черепахой, следом – она же на коленях во время молитвы, и вот молодая женщина сидит рядом с отцом и бьет в ’tit fer, который и стал причиной ее смерти, ибо если бы она не лезла за Онесифором и Бадди в эти буйные притоны, не бы носила эти американские джинсы, имела бы грудь пополнее – бедная девочка, плоская, как доска, – никто бы в этом кошмарном месте не перепутал ее с мужчиной, и она была бы жива. Будь она чуть более норовистой, невинная девочка из тех, кто совсем не боится зла. За год до того Онесифор сам заработал шрам от глаза до челюсти, когда играл в деревенском танцзале («каблуки в пол, начинаем танцы!»), ужасном месте, где нет даже проволочной сетки, чтобы защищать музыкантов от летающих бутылок; там жуткий дым и так жарко, что на следующий день глаза краснеют, как Рождество; Бадди там вечно ввязывался в драки и все из-за своего воинственного характера: разозлившись, он невероятно свирепел, но до сих пор ему удавалось сразить нападавших хуком справа или пинком колена в пах. Лучше всего получилась та картина, где Белль, еще девочка, держит на руках тряпичного кота – мадам Мэйлфут повесила ее в спальне, приделав вместо рамки черное туалетное сиденье с золотой каемкой. Чтобы увидеть портрет, нужно было поднять крышку.
Онесифор изучает зеленый аккордеон
Белые муслиновые занавески окаймляли надвигавшуюся грозу. Картина с радугой и тремя ангелами в полупрозрачных одеждах, тоже принадлежавшая кисти мадам – при том, что один из ангелов был очень похож на Белль, – висела над календарем с рекламой страховой компании. Белые фарфоровые тарелки и чашки цвета крутого яйца опирались на бордюр в буфете, рядом – белая раковина и белая фаянсовая доска для сушки посуды. Невестка чувствовала себя примерно так же уютно, как сгоревший мотылек, на эмалированной поверхности. Среди этой холодной белизны разве что сама мадам Мэйлфут в лавсановом брючном костюме кремового цвета, запах свежемолотого кофе, да еще стулья оставались живыми и теплыми. Стулья были самодельными, с толстыми ножками и перекладинами на спинках, дерево гладко выскоблено обломком стекла, а сиденья обиты бело-красной воловьей кожей с кое-где сохранившимися щетинками. У окна стояло кошачье кресло, а за окном на траве изучал новую кормушку его хозяин – огромный квадратный рыжий кот, похожий на чемодан с хвостом вместо ручки. Грозовая туча надвинулась на траву, и кот зашагал к задней двери дома.
Мадам держалась строго и горделиво, седые волосы скручены на макушке в тугой двойной пучок. Над кружевным воротничком плыло крупное лицо, похожее на фарфоровую тарелку. Она безо всякого чувства обняла невестку, холодно поцеловала детей, высыпала ореховое печенье в жестяную форму для пирога – а не в фарфоровое блюдо, что было расценено невесткой, как оскорбление, – и принялась молоть кофейные зерна, прервав это занятие лишь на минуту, чтобы впустить кота, когда тот стал царапался в дверь. Кот прошагал к своему креслу, запрыгнул в него и стал короткими неприятными мазками вылизывать шерсть.
Бадди открыл футляр, достал зеленый аккордеон и протянул отцу. Онесифор, усевшись с широко расставленными ногами на стул, с минуту его разглядывал, потом отстегнул ремешок. Прошелся по кнопкам, кивая самому себе, затем поднял руки, опустил локти и начал тянуть из инструмента музыку; по кухне понесся бодрый ускоренный марш, прыжки через октавы разгоняли ритм. Через минуту он остановился, взглянул на Бадди, подмигнул, опустил глаза, заиграл вновь и запел, то возвышая голос так, что не слышен становился гром, а фарфоровые тарелки стукались о буфетный бордюр, то понижая его а в конце каждой строки до резкого всхлипа, точно после удара кулаком.
– Yie, chére `tite fille,
Ah, viens me rejoindre l – bas la maison.
Trois jours, trois jours apr s ma mort, yie,
Tu vas venir la maison te lamenter moi.
Yie, garde-donc `tit monde…[242]242
Й-и, дорогая девчоночка,
ах, приходи ко мне вон туда, домой
через три дня, три дня, когда я умру, й-и,
ты придешь в дом меня оплакивать
йи, поберегись, малютка… (искаж. фр.)
[Закрыть]
– Ох-хо, видно мастер, что делал этот аккордин, знал пару-тройку сектретов. Ми немного гудит, должно быть, оторвался язычок. Быстрая штучка, и двигается хорошо, но шумновата. Слышишь, как щелкает? – Он закурил сигарету, печально скосив глаз в почти пустую пачку.
– Что до меня, я люблю этот звук. Это часть музыки. Каджун должен щелкать.
– Говорю тебе, если тут и есть что некаджунское, так это клапаны – слышишь, как булькает, такой горловой звук. Послушай. – Он заиграл опять:
– Fais pas a ou ta maman va pleurer.
Viens aves moi, yie, lá-bas,
Non, non, ta maman fait pas rien.
Yie, toi, `tite fille,
Moi je connas tu ferais mieux pas faire ça, tie, yie, yie [243]243
Ой, не надо, не то мама заплачет.
Пойдем со мной, й-и, туда,
нет, нет, мамы не бойся
Эй, девчоночка,
Я-то знаю, лучше бы не надо, ти-йи-йи (искаж. фр.).
[Закрыть]
Они поймали этот жесткий звук, а еще первый стук дождя, что появился в тот же миг, словно на зов музыки.
– Помоет мою машину не хуже, чем на мексиканской мойке, – сказал Бадди.
– Это все твои кожаные клапаны. Они все время закручиваются. – Он раскрыл инструмент и осмотрел язычковую пластину. – Старая гармошка, смотри, как сделано, ох-хо, все руками, все хорошо. Смотри сюда. Меняем клапаны. Просто одна большая язычковая пластина. Видишь, какие он поставил загибы на концах язычков? Значит больше железа, глубже тон, полнее. Знаешь что, мы пожалуй поставим сюда новые язычки, перенастроим, понизим терции на полтона, чтобы было порезче. «Чужжжаая жженаааа».
– Он хорошо звучит.
– Ладно. Тогда меняем прокладку в дисканте. Совсем ведь плохая. Решетку убираем. Красиво, но ведь тон смазывает. К субботе будет готово. Говорят, сюда едет дама-фотограф, хочется ей посмотреть на каджунов, устричные щипцы, fais dodo [244]244
Традиционные у луизианских французов вечеринки с танцами, на которые собирался весь поселок.
[Закрыть], la boucherie [245]245
Мясные лавки (фр.).
[Закрыть]. Сколько ты отдал за эту коробочку?
В комнате наступила тревожная тишина. Бадди прислонился к раковине, скрестил щиколотки. Оглушительный гром, и почти сразу вспышка молнии окрасила кухню в голубой цвет.
– Не надо сидеть у окошка, cher, – попросила мадам Мэйлфут рыжего кота.
– Сто пятнадцать долларов. – Он не обращал внимания ни на грозу, ни на мать.
– Mon dieu![246]246
Мой бог! (фр.)
[Закрыть] Ты что, Джин Сот[247]247
Герой луизианского фольклора, деревенский дурачок.
[Закрыть]? Такие деньги.
Целое состояние. Как ты можешь так разбрасываться деньгами. Ты что, не мог показать, что в нем не так? Сбросил бы пятьдесят, а то и все шестьдесят. Конечно, он кой-чего стоит, хо-хо, я же не говорю, что нет, ручная работа, особый стиль, но тут нужен ремонт, и был бы ты поумнее, мог бы и поторговаться, non? – Он смял в пепельнице окурок.
– Нет. Послушайте, папа, вы становитесь бесчувственным, как шкура старого козла. У меня были на то причины. Эта несчастная женщина из Мэна – после всего, что случилось, ей нужно каждое пенни. Она никогда, никогда, никогда не оправится, так сказала Эмма.
– Она сама его нашла?
– Нет, слава всем святым. Какой-то человек рубил рядом лес, он его нашел и понесся прочь, как сумасшедший. – Бадди понизил голос, чтобы не слышали дети, хотя те все равно услышали. – Он отрезал себе голову. Прямо в лесу, привязал пилу между деревьями, включил, а потом… потом подошел ближе и… раз. – Бадди провел рукой поперек шеи.
– Non!
– Да. Но знаете что? Он сперва выполнил всю дневную норму.
– Вот что значит француз!
– Дедушка, а почему коровы спят прямо под дождем? – спросил мальчик.
– А? Ох, ох, святый боже! – Выскочив через заднюю дверь во двор, Онесифор уставился на трех коров – несмотря на проливной дождь, от их неподвижных тел валил пар; старик перевел взгляд на опрокинутый столб: от места, где он раньше стоял, тянулся к забору провод, задевая по пути искрящую железную кормушку с мокрым сеном. Однако они были живы. Через двадцать минут коровы поднялись на широко расставленные ноги, и с тех пор ничто не могло заставить их приблизиться к корыту. Онесифору пришлось вывалить сено прямо на землю, но даже после этого они относились к пище с большим подозрением.
Женщина на fais dodo
Фотограф Ольга Бакли, высокая белокурая женщина с курчавыми, как у африканки, волосами и в красных брюках-клеш, славилась своим умением вовремя оказаться в нужном месте и пробраться в центр любых событий; сейчас она поставила машину на пыльном неровном дворе перед танцзалом – дощатым строением, обитым понизу гофрированным железом и с такой же гофрированной крышей. Женщина приехала на новом «де-сото» с плавниками-стабилизаторами и автоматическим управлением. В прошлом году ее лучший снимок появился на обложке журнала «Лайф» – агонизирующее лицо крупным планом, голова с выпученными глазами на куче матов – двадцатилетний прыгун с шестом умирал под щелчок фотоаппарата.
Свое задание она получила от вашингтонского Института изучения внутренних районов Америки, финансируемого правительством архива, в котором трудились аккуратные мужчины с седыми козлиными бородками. Она никогда не расслаблялась, не пила – даже несмотря на чьи-то слова о том, что выпивка у каджунов вместо рукопожатия, – не танцевала, не понимала, что хорошего все находят в bourrée, зевала на ипподромах, ежилась на бойнях, ни разу не пробовала мясо коровьих хвостов и cocodrie, не умела балансировать на ялике, не спала на подушке из сухого мха, не принадлежала к католической церкви, никогда раньше не видела стиральных досок или наперсточных ритм-секций, рисовых или тростниковых полей, не погоняла мула, не скакала на лошади, не ловила свиней, не понимала французского языка и не любила женщин. Она курила одну сигарету за другой. Почти на всех ее снимках были запечатлены мужчины, хотя для одного или двух ей позировали ткачиха бабушка Реню (похожая на мужчину) и мадам Фортье – пятикратная вдова: склонившись с иголкой над стеганым одеялом, она таращилась прямо в объектив глазами редкого фиолетового цвета.
Уже в зале к ней боком протиснулась литераторша по имени Уинни Уолл.
– Все уже думали, что вы потерялись.
– Я никогда не теряюсь.
Уинни Уолл, молодящаяся и не признававшая бюстгальтеров дама, сейчас была одета в ситцевое платье «Матушка Хаббард» с узором из веточек и тащила за собой магнитофон. Эта женщина была способна задать человеку сотню безжалостных вопросов на таком деревянном и нелепом французском языке, что люди обычно не выдерживали и умоляли ее говорить по-английски. При взгляде на нее казалось, будто ей вот-вот станет дурно: подмышки ее вечно промокали, грубая кожа на лице без намека на косметику или губную помаду лоснилась от пота, а спутанные сальные волосы свисали до плеч.
– Она очень больна, у нее болезнь в особом месте, – шепнула в бледное невесткино ухо миссис Блаш Лелёр, traîteuse [248]248
Знахарка, целительница (фр.).
[Закрыть]. Они стояли в специально отделенной от танцевального зала детской комнате с огромной кроватью, на которой хватило бы место для дюжины детей. В главном зале играли «Невезучий вальс». Невестка попросила traîteuse подержать тарелку с «зефирной радостью Криспи», пока она уложит Дебби. После вальса к микрофону вышел конферансье по имени Аршан.
– Хозяин бело-бордового пикапа. У вас не выключены фары.
Traîteuse, высокая женщина с большими сильными руками была в розовых слаксах и пурпурной ацетатной блузке с обшитыми материей пуговицами и китайским воротником. На шее у нее болталось двенадцать нитей искусственного жемчуга, самая длинная свешивалась ниже пояса. В шестьдесят пять лет ее волосы оставались черными, как сажа, и курчавыми, как сухие стебли одуванчиков. Она носила позолоченные очки «арлекин» с затемненными стеклами. В высохших мочках ушей болтались перламутровые шарики. На морщинистом лице застыло туповатое, но милое черепашье выражение, губы накрашены помадой цвета «барбекю». Невестка накрыла не желавшего засыпать ребенка красной шалью и запела наполовину по-американски, наполовину по-французски:
– …засыпай, малыш bébé, утром дам тебе вишневый пирожок… – Белая кожа ее рук блестела, как лакированная. Музыка опять прекратилась, микрофон взвизгнул и запищал.
– Хозяин двухтонного пикапа, если вы сейчас не выключите фары, вы пойдете домой пешком. Вы уже почти посадили аккумулятор.
– Я чувствую эту болезнь по запаху. Она у нее в особом месте, бедняжка не может даже надеть трусы, так ей больно. И никому ведь не скажешь. Фотографша, она ее не любит, не хотела, чтобы она приезжала. Они вдвоем изучают каджунов. – Она рассмеялась с добродушной злостью. В дверной проем было видно, как молодая женщина берет из чьей-то протянутой руки бутылку пива.
– От пива ей будет только хуже, – сказала миссис Блаш Лелёр, – пиво очень вредно в таком состоянии. Лет десять назад была у нас в приходе женщина, ее раздуло так, что особое место стало похоже на куски арбуза, ужасно чесалось и горело огнем. Ее муж – он был альбинос, и я сперва подумала, что это все из-за того, что кое-что от него в нее попадает, ты понимаешь, о чем я, что все из-за этого – но он не мог даже находиться с ней в одной комнате. Она молила о смерти и плакала день и ночь, такая сильная была боль.
– Так из-за чего же?
– От пива. И еще продукты и приправы, совершенно обычные для других людей, простые вещи: окра, сладкий картофель, фасоль и орехи, пекан и даже овсянка. Ко мне это пришло во сне. Мне снилось, как она пьет пиво и страдает. Для начала я заставила ее пять дней поститься и пить только дождевую воду, чтобы очистить ее тело от ядов. Затем я дала ей немного кукурузного хлеба и салата, рис и другую легкую еду, это ее насыщало, но не воспаляло особо восприимчивые места. Она прожила много счастливых лет, пока какой-то злодей не поставил кость в банке на верхнюю ступеньку лестницы; с испугу бедняжка впала в каталепсию и умерла. Как поживает мадам Мэйлфут?
– Она хорошо себя чувствует, если не считать артрита, но стала совсем бессердечной. Почти не прикасается к внукам. Просто не обращает на них внимания, так получается. Онесифор спит один в своей постели. Почти все время она сидит в комнате Белль. Что мы можем сделать? Есть от этого какое-нибудь лечение?
Музыка опять смолкла, и высокий голос Аршана произнес: – Вы бы лучше позвонили своей мамаше, хозяин пикапа – никак вам теперь не добраться до дома.
– Хотите ли вы, чтобы я этим занялась?
Невестка на минуту задумалась. Это было не ее дело, и лучше бы ей в него не лезть. Онесифор и Бадди, вот кто должен разговаривать с traîteuse. Но почему-то она была уверена, что они не станут этого делать. Она подумала о детях, бабушка так холодна, даже когда их обнимает, отворачивается, словно от червяков.
– Да.
– Очень хорошо. Эту женщину заморозило горе. Она сама запечатала свое сердце. Она ничего теперь не боится – ни смерти, ни Господа; ад для нее наступил на земле. Она ничего не чувствует к своему мужу, раз покинула его постель. Она ничего не чувствует к своим внукам, раз холодна с ними и не замечает их. Она не замечает и тебя. Но как же ее сын Бадди, она так же холодна и к нему?
– Ко всем. Кроме рыжего кота. В ту грозу, когда свалило молнией коров – она смеялась, что коровы валяются в грязи, – кот тогда сидел под окном, и она умоляла его подвинуться. Она называла его cher.
– Может это и добрый знак. Она хотя бы что-то чувствует. Плохо, что именно кот завладел ее вниманием. Но через эту узкую трещину можно влить в ее сердце лекарство, которое вернет ее к семье. Позволь мне положить это дело к себе под подушку. Приходи, если сможешь, через пару дней, у меня будет план.