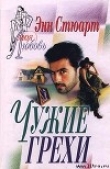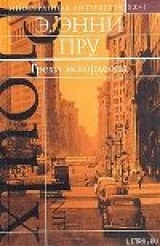
Текст книги "Грехи аккордеона"
Автор книги: Энни Прул
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
Жировая ванна преподобного Визи
Тамонетт хрипела и давилась дымом.
– Для этих сидений не надо ехать ни в Монтгомери, Алабама, ни в Северную Каролину. В субботу большая демонстрация – в Стифле, Миссисипи. В буфете «Вулворта».
– Откуда ты знаешь?
– Мы туда едем – я, мама и «Баптистская Молодежь». Преподобный Визи везет нас на церковном автобусе.
– Ты? Детка, с каких пор тебя интересуют демонстрации? – И этот старый червяк-куроед, этот преподобный Визи туда же, собрал полный автобус народа, подумать только, и мамаша Тамонетт – ей-то что демонстрировать? Тамонетт сама теперь, как арбуз на спичках, за всю жизнь слова не сказала о каких-то там гражданских правах.
– Тогда я с вами.
– Тока никому не говори.
Сидячая демонстрация
Она не стала нарядно одеваться, нарядной одежды соответствующего размера просто не выпускали. На ней были обычные мужские джинсы и мужские рабочие башмаки; правда, Лэмб сшила рубаху размером с палатку и перед уходом Ида кое-как ее погладила – по всей материи расползлись складки. Тамонетт не влезала ни во что, кроме старого оранжевого платья для беременных, но парни были в пиджаках, как для похода в церковь, и в брюках со стрелками, другие девушки и женщины тоже расфуфырились, надев на себя красивые ацетатные платья, пояса и чулки, а кое-кто, несмотря на жару, даже шляпы и перчатки. Впереди Ида заметила бывшего дружка Тамонетт Релтона, который и сделал ей ребенка; он сидел рядом с Мойрой Рут, вытянув длинные ноги в рыжих ботинках.
– Так вот зачем тебе понадобилась эта демонстрация, – шепнула Ида.
– Закрой свой рот. Ничего подобного. – Но так оно и было на самом деле. Острый глаз Иды уже видел всю жизнь Тамонетт, как вокруг нее будут вечно крутиться мужчины, она станет рожать одного ребенка за другим, старое оранжевое платье для беременных будет болтаться на ней до тех пор, пока не развалится на куски, и ничего никогда не устроится.
Преподобный Визи, грустный человек с дряблыми щеками и платочком, торчавшим из нагрудного кармана, словно гора Эверест, сидел на переднем сиденье рядом с матерью Тамонетт. Автобус тронулся, и женщина запела, подлаживая мелодию под гул мотора.
– Теперь так: они не знают, что мы придем, – объявил преподобный Визи. – Запомните: вы просто садитесь за стойку и сидите тихо, а если подойдет официантка, заказываете кока-колу. У всех есть пятьдесят центов на кока-колу, на случай, если вас обслужат? Но этого не будет. Что бы они с вами не делали, помните: вы можете только тихо и спокойно заказывать кока-колу. Сохраняйте спокойствие. Ничего не ломать и ни к чему не прикасаться, кроме кока-колы – если вам ее принесут. Но этого не будет. Если полиция потащит вас к дверям, держитесь за стойку. Никому ничего не говорите, просто держитесь за стойку. Иисус с вами, пусть они вас тащат, не сопротивляйтесь, только держитесь за стойку. Пассивное сопротивление, спокойствие, помните о преподобном Кинге и о том, что вы делаете очень важное дело, которое требует от вас настоящего мужества, – ради ваших братьев и сестер, ради вашего народа, ради всех, ради торжества справедливости сохраняйте спокойствие.
Это был обычный городок: жара, несколько больших деревьев, на главной улице ряд магазинчиков, в окнах половины из них таблички «СДАЕТСЯ В АРЕНДУ». Они проехали его насквозь, и, миновав свалку автопокрышек, остановились на дальнем конце перед универмагом «Дикси Белл». Плотной взволнованной группой они вошли в «Вулворт»; парни ослабляли крахмальные воротнички и галстуки, напрягая при этом мышцы живота. Все вместе они подошли к буфету. Белый фермер лет сорока в заскорузлом комбинезоне, со слипшимися от грязи волосами, допивал остатки молочного коктейля, на тарелке перед ним валялись крошки хлеба и кусочки тунца. Они расселись перед стойкой на пустые табуреты. Фермер вытаращился на них, положил на прилавок деньги и ушел. Единственная в зале официантка протирала блестящий кран и детали какой-то машины: отвлекшись от своего занятия, она посмотрела в зеркало – не нужно ли кому-нибудь принести меню. Увидав ряд черных лиц, она застыла, потом рванула в кухню. Там заорала пронзительным голосом: где мистер Сиплэйн, там, в зале черт знает что творится. В узком проеме с крутящейся дверцей появился пожилой седовласый повар и уставился на них, держась одной рукой за другую так, что видны были грязные манжеты; потом исчез, уступив место посудомойкам и другим официанткам.
Ида ерзала задницей на неудобном круглом сиденье, хотелось покрутиться на нем, но она ясно чувствовала, как за спиной собирается толпа, и поглядывала в зеркало, чтобы получше ее рассмотреть; в основном там были добропорядочные белые мужчины, и они наперебой повторяли: что за чертовщина, что это, откуда черномазые, похоже, у нас неприятности, эй, ниггеры, что вам тут надо? Из кухни вышел высокий белый человек в коричневом костюме – начальник или хозяин, никто не знал.
– Вот что, черномазые, или вы убираетесь прямо сейчас, или я зову шерифа. Считаю до трех, и если на счет три хоть один останется, я обещаю большие неприятности. Раз! Два! Три! – Не шевельнулся никто, только дружок Тамонетт, подняв руку, попросил: принесите мне, пожалуйста, кока-колу, а коричневый костюм, не обращая на него внимания, опять стал считать до трех, потом сказал: хорошо, я зову шерифа и полицию, и ушел в кухню. Не успела за ним закрыться дверь, как полиция была уже здесь, так что всем стало ясно – он вызвал их до всякого счета. Кто-то из толпы спросил дружка Тамонетт: ты хочешь кока-колы? За спиной у парня возник рыжеволосый приземистый человек в футболке с торчащей из кармана пачкой сигарет; он поднял вверх бутылку кока-колы, и потряхивая вылил дружку Тамонетт на голову.
– Вкусно, правда? Жопа слипнется, тогда почувствуешь. – Перед их лицами вдруг возникло множество рук, которые быстро собрали бутылки с кетчупом, солонки и перечницы. Ида почувствовала, как что-то, похожее на песок, сыпется по ее затылку и стала чихать – кто-то открутил крышку и теперь рассыпал перец вокруг. Люди по ту сторону стойки собирали с полок сливки, молоко, масло, пироги, майонез, горчицу, яйца; плюгавый белый человечек схватил трехгаллонный бидон из нержавейки и вылил прогорклое, холодное кухонное масло прямо на преподобного Визи. (Позже преподобный Визи говорил на церемонии:
– Господь не оставил меня, ведь это масло МОГЛО быть ГОРЯЧИМ.)
Ида чувствовала, как по лицу и шее течет какая-то жидкая субстанция, конвульсивно чихала – вокруг летал перец и капала горчица, кто-то разбивал ей в волосы яйца, ледяное молоко струилось по плечам и груди, она была вся усыпана пшеничными хлопьями, облита сиропом «Каро», закидана джемовыми бомбами.
– Продуктовая война, – крикнул плюгавый и швырнул банан в маму Тамонетт – та вздрогнула от удара и запела:
– НАС НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИИИИТЬ, – и все подхватили, чихая и вскрикивая, но не прекращая пение, они так и сидели за стойкой, и тогда двое легавых вместе с людьми из толпы увесистыми тычками дубинок стали спихивать их с табуретов, выкручивать руки, бить под колени и утробным первобытными рыками рассказывать, что они сейчас сделают с этими ниггерами. Ида почувствовала, как крепкие пальцы схватили ее за грудь, затем выплеснули на спину горчицу, и слова: мерзкая черная манда, блядь, жирная черная корова, вали отсюда, а не то запихаю эту штуку тебе прямо в пизду, – он ткнул ей в пах обломком бильярдного кия и так сильно и больно ударил им в лобковую кость, что она вскрикнула, колени подогнулись; преподобный Визи все повторял и повторял: спокойно, спокойно, спокойно, но он был весь в масле, и они никак не могли за него ухватиться, лишь скользили и падали на пол.
Ида встала. У нее за спиной человек с кием тоже пытался ухватиться за преподобного Визи. Со всей силы она стукнула его по хребту, и он покатился под ноги толпе с воплями: аааа, ааааа, держите ее, сука, уберите ее отсюда, она сломала мне спину, проклятье, помогите.
Что дальше?
– Ой, доченька моя, – запричитала Лэмб, когда три дня спустя Ида заявилась домой с заплывшими глазами, расцарапанная, босая, пропитанная запахом острых приправ, блевотины и тюрьмы. – Что я тебе говорила? Посмотри на себя, ты ж еле жива, тебя ж чуть не убили. Ну как же ты меня не послушалась, зачем же ты туда пошла? Теперь меня выгонят с работы, миссис Астрэддл про все узнает. Что ты делаешь?
Ида разделась, залезла под холодный душ, который, перед тем, как уехать на север, провел в дом Октав, потом вышла, влезла в старые джинсы, растоптанные черные кроссовки, достала из-под раковины целлофановый магазинный мешок и стала складывать в него одежду.
– Что ты делаешь?
– Уезжаю. Я теперь с ними. Теперь меня никто не остановит, никогда. Я уезжаю вместе с другом Тамонетт. Не трогай мои бумаги, я их потом заберу. Мы будем устраивать демонстрации.
– Да ты ж просто ходячий пример: пусти свой хлеб по водам, получишь плесень.
– Я с ними.
Через год она от них ушла. Сидячие демонстрации она превращала в потасовки, дралась, крушила все вокруг, орала, прыгала и махала кулаками. Ее пассивное сопротивление заключалось в том, чтобы навалиться на мелкорослого представителя белой расы, притвориться, что теряет сознание, затем изо всех сил ущипнуть его за мягкое место и одновременно поинтересоваться:
– Где я?
– Ты не понимаешь, что такое пассивное сопротивление, – говорил ей лидер группы. – Ты вредишь нашему делу. В тебе слишком много гнева, сестра. Мы должны направлять нашу ярость в полезное русло, иначе она сожрет нас самих, уничтожит нас. Возвращайся домой и найди другой способ помочь своим братьям и сестрам.
Она вернулась в Байю-Ферос, вытащила из-под кровати книги и бумаги, распаковала их по восемнадцати ящикам, уехала в Филадельфию и устроилась работать в «Фудэйр» – компанию, которая готовила и паковала завтраки для самолетов. Там она прожила три десятилетия, и каждую субботу отправлялась на своей маленькой машине к югу, где, катаясь по разным местам, заводила разговоры с седовласыми женщинами и задавала им вопросы.
(Много лет спустя в лос-анджелесской больнице, приходя в себя после операции на желчном пузыре, она переваривала новость о том, что анализ на туберкулез у нее положительный, и читала газеты: в Джексоне, Миссисипи, полиция, остановив чернокожего за превышение скорости, отправила в его в тюрьму, где его до смерти избили – следователь написал, что причиной смерти стал сердечный приступ; на другой странице статистика: за шесть лет в тюрьмах Миссисипи покончили собой сорок чернокожих; мистер Уилл Симпсон, вынужденный уехать из Видора, Техас, обратно в Бьюмонт, через неделю был застрелен. И так далее, и так далее, и так далее. Газета соскользнула на пол. Это не прекратится никогда. Чего они добились, тогда, в шестидесятые? Неужели люди умирали за то, чтобы получить право голоса и гражданские права? Ну получили, а дальше что? Кому-то достались власть и деньги, но остальные все теми же креветками корчатся на сковородках городов, где в мусорных баках находят детские трупы, на обеденные тарелки капает с потолка чья-то кровь, младенцы гибнут под перекрестным огнем, и сами названия этих городов становятся синонимами чего-то глубоко отвратительного, неисправимого и неправильного. Деньги катились огромными волнами, но даже пена не достигла черного берега. Все сотни ее блокнотов не вытащили из горячей сковородки ни одну креветку, истории черных женщин, свидетельства невидимых страданий лежат сейчас на дне мешка. Идину квартиру заполняли тетради, пожелтевшие любительские снимки, студийные фотографии, дневники, что велись на оберточной бумаге, рецепты лечебных настоек – с грамматическими ошибками, цветами и листьями, нарисованными самодельной краской из плодоножек и пестиков – испольный счет, что писался на дранке обгоревшей палочкой, печатными буквами на обрывке фартука – история, в которой фермерша из Канзаса описывала смерть своего мужа, пухлая рукопись каллиграфическим почерком в журнале из цирковых афиш, «Моя так называемая жизнь с О. К., цирковым комедиантом», кулинарные рецепты, нацарапанные на дощечках испачканным в золе ногтем, ночные мысли поденщицы, убиравшей во время Второй мировой войны федеральные конторы, стихи анонимных поэтов, отпечатки жизней тысяч и тысяч черных женщин. Она собирала это все на свою ничтожную зарплату: магазины старой книги, церковные благотворительные базары, дворовые распродажи, темные пыльные коробки в комиссионных магазинах, мусорные корзины и свалки; она спрашивала всех, кто попадался на пути: у вас есть книги или письма, или что угодно о черных женщинах, о любых черных женщинах, обо всех черных женщинах? Она вспомнила Октава, Чикаго и его зеленый аккордеон: жив ли он еще? Несколько лет назад она послала ему письмо – написала так, как это сделала бы Лэмб: «мне бы послушать, как ты играешь зайдеко на своем старом зеленом аккордеоне». Ни слова в ответ. Не в том ли извечное зло – братья и сестры теряют друг друга? Не в том ли повторение старой-престарой истории про то, как семьи рвутся, словно клочки бумаги, а родной дом исчезает навсегда?)
Старый зеленый
Словно в полусне Октав ждал, когда кончится затянувшаяся безработица – он так и не получил профсоюзный билет, черт бы их побрал, слишком много народу просилось на эту работу; он перепробовал все, сменил пятьдесят мест, работал штукатуром, плотником, укладчиком ковров, мусорщиком, грузчиком, таксистом, водителем катафалков, разносчиком продуктов, помощником повара, слесарем, установщиком навесов, развозчиком телевизоров, его увольняли или он уходил сам через неделю, максимум через десять-одиннадцать дней, пока до него наконец не дошло, что если никого не убивать, то никто и не умрет; все получалось через задницу, да и вообще он уже не годился для стройки – так и не разобрал, что было в том письме. Через неделю нашел его под креслом и на этот раз прочел. Старый зеленый – блядь, старый зеленый уже сто лет как в ломбарде.
– Да, – сказал он, – к сожалению, сестрица, старый зеленый лежит себе в ломбарде вот уже три года, понятно, да?
(Он загремел на несколько лет, в тюрьме умудрился закончить младшее отделение колледжа, подумывал о том, чтобы стать негром-мусульманином, поменять имя, начать новую жизнь, снова все сначала. Он размышлял о деньгах и о том, как они делаются. Сперва ему казалось, что кроме музыки и преступлений других путей нет, что только к этим работам он привязан силами обстоятельств. Что ж, он не собирается опять ловить рыбу и не будет зарабатывать на зайдеко, джазе, роке, всей этой ебанутой музыке.
Он читал, как сумасшедший ублюдок, читал так, что стали косить глаза, но не сказочки и прочий мусор, как все остальные, а «Уолл-Стрит Джорнэл», финансовые издания и аналитиков мелкого бизнеса – выяснив за год или два, что необходимо миру, он занялся мусором. В 1978 году, когда шестнадцать банков отказали ему в кредите, он ограбил супермаркет, с этим начальным капиталом вернулся в Луизиану, купил восемьдесят акров и предложил нескольким крупным городам привозить ему за определенную сумму твердый мусор. В 1990 году он был владельцем современной пятисотакровой свалки и главного трубопровода, по которому переработанный мусор попадал из Нью-Йорка на поля Айовы, обеих Дакот, Небраски, Колорадо, Техаса и Калифорнии. Он разыскал дважды разведенную Вилму, поиграл с ней немного, завел как следует, и бросил. Он никогда больше не брал в руки аккордеон и не любил слушать.
– Если бы я не бросил играть, был бы сейчас уличным музыкантом, на холоде, в метро, собирал бы в консервную банку четвертаки и десятицентовики. На хуй. – Но он был очень осторожен и никогда не водил по ночам машину.)
СТУКНУЛ ПОСИЛЬНЕЕ И УПАЛ

Бандоньон
За дворами
Старая миссис Юзеф Пжибыш работала до шестидесяти шести лет – «Есть работа, нет заботы, будут гроши, будет суп хороший», – но в 1950-м, в том самом году, когда, поймав своего внука Джо за раскуриванием сигареты из стыренной в магазине пачки, она сломала ему нос привезенным еще с родины яйцом из слоновой кости, миссис Пжибыш вышла на пенсию и сосредоточилась на походах в церковь, стряпне, общественных делах и рассказах о том, какие тяжелые времена им всем пришлось пережить.
– Трагедия. Наша семья – это кошмарная трагедия. Все умерли, кроме меня. Да, ничто не вечно, мой милый мальчик. Погоди, я только накину на себя что-нибудь потеплее – ты ведь не будешь больше таскать в магазине курево, правда?
Двадцать лет спустя, в восемьдесят шесть лет, она похоронила старшего сына Иеронима. Она была тучной женщиной; кожа, вся в морщинах и желтушных пятнах, топорщилась на ней, как обивка на диванных пружинах, но мускулистые руки и крепкие пальцы намекали на то, что ей и теперь не составит труда вскарабкаться по отвесной скале. Впадины глаз и рта на тяжелом лице напоминали следы от ногтей в тесте, а стянутый на макушке желто-белый пучок волос – суфле на сдобной булке. Бифокальные очки без оправы невероятно четко отражали предметы и вспыхивали голубым пламенем газовой горелки.
Поверх вискозного платья с узором из диагоналей, квадратов, цветов, горошков, перьев и летящих на темном фоне птиц она повязывала передники, обшитые голубой или розовой, как у Мэйми Эйзенхауэр[272]272
Мэйми Джинива Дауд Эйзенхауэр (1896—1979) – Первая Леди США (1953 – 1961), супруга 34-го Президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (1890 – 1969).
[Закрыть], тесьмой, но сильно хромала и согнулась настолько, что уже не могла собирать грибы.
Много лет миссис Пжибыш, ее сын Иероним, невестка Дороти (чистая холера, а не баба) и двое внуков, Раймунд и Джо, прожили все вместе в тесном домике на южной стороне Краков-авеню в исключительно польском квартале; этот дом она купила сама на деньги, заработанные на сигарной фабрике, уже после того, как ее бросил муж, ибо, как повторяла она по несколько раз в день, «без земли что без ног: ползать ползай, но уйти не уйдешь». На противоположной стороне улицы жила семья Чезов из Пинска; позже они поменяли фамилию на Чесс, два их мальчика выросли и занялись делом – автосвалки, бары, ночные клубы, в конце концов они стали выпускать пластинки входивших тогда в моду чернокожих музыкантов, только и умевших, что выть свои блюзы, и в 1960 году добрый польский квартал вдруг почернел со всех сторон. Она понимала, что в этом нет вины братьев Чесс, но в голове каким-то образом все это соединилось вместе – чернокожие, блюзы, братья Чесс, новые соседи.
После войны поляки уезжали, черные приезжали, и все попытки защитить квартал огнем и камнями провалились.
Иероним с самого начала навострился швырять в чернокожих камни и подбивал на это детей.
Он орал на негров:
– Пшел вон, вали отсюда, тут живут честные трудовые поляки, пшел к черту, ниггер, не пачкай наши дома, прочь, пся крев, на каждой груше вырастет по манде раньше, чем вы тут поселитесь. – Мальчишки в ответ тоже швырялись камнями, называли его грязным полячишкой, тупым пшеком, катись к черту – откуда приехал. Ирландцы, немцы, американцы.
У Иеронима было маленькое овальное лицо, бусинки голубых глаз прятались в глубоких пещерах, впалый рот – точно такой же, как у отца, зато длинные руки и мощные плечи были словно созданы для швыряния камней; несколько лет спустя вместе с соседями он ходил протестовать против грандиозного строительного проекта под названием «Дома Фернвудского парка» – эти идиоты из правительства надумали поселить черных в белом квартале. Тогда собралась огромная толпа, несколько тысяч человек. Позже Иероним высматривал, где еще что строится, и по ночам вместе с другими мужчинами воровал стройматериалы – не столько воровство, сколько вредительство, они рассчитывали таким образом замедлить работу. (Во время одной такой экспедиции он упал в недостроенный лестничный пролет и повредил позвоночник. С тех пор прихрамывал и жаловался на боль в печени.) Специально для «Парк-Майнор»[273]273
Парк-Майнор – название одной из негритянских христианских организаций.
[Закрыть] он заливал бензин в бутылки из-под кока-колы. В своем квартале основал перестроечную ассоциацию, но ничего хорошего из этого не вышло. Он нашел применение зуммеру, висевшему на дверях польского клуба: в 1953 году, по ночам, он заводил его под окнами поселившегося в «Домах Трамбул-парка» семейства – негритянского, несмотря на почти светлую кожу, – пока те не сдались и не убрались обратно в свои трущобы.
Еще через несколько лет к ним в дом постучался торговец недвижимостью.
– Вы бы ехали отсюда, ребята, пока не поздно. Еще немного, и вам не дадут за этот дом ни гроша. А я плачу прямо сейчас. – Но хозяйка отказалась продавать дом, несмотря на постоянные жалобы невестки, что жить тут стало слишком опасно; Иероним тоже ворчал, но реже. К тому времени он смирился – смотрел по телевизору «Вопрос на $64 000», выкрикивал неправильные ответы и выискивал недостатки в игре наряженных в блестящие костюмы аккордеонистов.
Рядом стоял дом Збигнева и Янины Яворски; миссис Юзеф Пжибыш вспоминала, как они поселились там в 1941 году, и оба тогда работали.
– …он на сталелитейном, а она на патронной фабрике. Ох, мы женщины любили войну; если польки когда и могли получить работу, так это во Вторую мировую. – До войны на каждое место просилось по тридцать женщин, но бригадиры никогда их не брали, говорили: бабы вечно чего-то хотят, от них только неприятности. А какими опрятными были детки Яворских, во дворе ни пятнышка, цветочки, хозяйка ходила к мессе, добрые друзья, да, он был не прочь выпить, но какой мужчина этого не любит, и сколько радостных часов они провели вместе с Яниной, попивая кофе и закусывая нежными имбирными пирогами. А теперь, только посмотрите на эту черную прачку, что поселилась в их доме, – свалявшийся свитер, штаны грязные, подошвы шлепают, полдюжины оборванных детей только и знают, что носиться по округе да безобразничать: то дубасят по мусорным бакам, то лезут в почтовые ящики, толкаются, дерутся – а еще пробки от бутылок, бумажки, деревяшки, продавленные колпаки от колес, мятые консервные банки – не успевают дети проснуться, как все это уже разбросано; дом обветшал, краска ободралась, вместо стекол покореженный картон, и все в таком духе. По ночам в незапертую дверь лезут какие-то мужики, потом орут, распевают песни, а то и дерутся – шум на всю улицу. Кто знает, что будет дальше? Но частенько, когда невестка уходила на работу, миссис Пжибыш носила соседке прикрытые фольгой голубцы, а то раздавала оборванцам печенье или маленькие шарики из ящика старого Юзефа.
Несколько лет подряд, пока старость окончательно ее не согнула, миссис Пжибыш частенько повязывала у подбородка платок, брала в руки корзинку и отправлялась по грибы в Гловацкий парк.
– Столько грибов! – шептала она сама себе, корзинка наполнялась и оттягивала левое плечо. На обратном пути она непременно шла мимо продуктового магазина «Выпрями спину», где прямо на тротуар выставляли яблоки от «Макинтош и Деликатесы», а еще корзинки промышленных грибов с химических грядок Пенсильвании. Она презирала эти гладкие бежевые головки, пресный вкус и брызги ядохимикатов. Пусть их едят тупые американцы! Что за жуткая лавка, бубнила она, никакого сравнения с «Отличной свининой и провизией», как жаль, что его давным-давно снесли, вспомнить только огромные сардельки в полосатых мешках, копченый бекон с квадратами коричневой, словно тетрадные обложки, кожицы, крепкие бледные ножки подвешены на прикрученной к копытам проволоке, ребра на прямоугольных наклонных полках, точно фотографии с воздуха изрытых оврагами равнин, и жуткие свиные головы: брови сдвинуты от последнего мучительного понимания, – мутные глаза, вытаращенные или наоборот, запавшие, лохмотья ушей, верхняя часть тугих рыл выпячена вперед, словно в предсмертном восклицании. Дома она опрокидывала корзинку на белую скатерть, будто котят, гладила по головам эти превосходные грибы: пятнадцать фунтов трутовиков с крапчатыми коричневатыми веерами в дюйм толщиной пахли арбузами; мешочки сморчков с бороздками на шляпках приковывали к себе взгляд, а их полые внутренности утыканы блестящими пупырышками, словно штукатурка на церковном потолке; к кремовым волнам вешенок прилипли кусочки листьев и мякоть орехов – все это нужно было вычистить, рассортировать и залить уксусом. Ни для чего, просто так, из одного лишь из охотничьего азарта. Как же билось ее сердце, когда летом на опушке она находила двадцать семь отличных зонтиков. Зато теперь парк изуродовали и истоптали до того, что он стал похож на земляную площадку в какой-нибудь африканской деревне.
В лучшие свои годы она любила готовить и вкладывала в это занятие страсть и опыт – умелый мастер, которому не нужны мерные ложки и рецепты, она все держала в голове. Во дворе размером чуть больше носового платка она умудрилась развести огород, привязывала помидоры к старым костылям, раскопанным в больничном мусорном баке, по собственным рецептам делала сосиски или кровяную колбасу, и побольше – для своего женатого сына Иеронима, когда тот был еще жив, и это несмотря на то, что он поменял имя на Ньюкамер – американцы звали его Гэрри Ньюкамер; на закуску полагались pieroеki, наваристый суп złurek с грибами, картошкой и перебродившей овсянкой, а еще добрый кислый хлеб – она месила тесто до тех пор, пока не слабели руки, а однажды, когда приятель Иеронима, отправившись охотиться в Мичиган, вернулся с целым оленем и разделил его с друзьями, она приготовила настоящий bigos (оленью, а не свиную ветчину, или сладкое мясо литовского бизона, которое мало кому доводилось попробовать), проливая слезы радости над кастрюлей, ведь прошло столько лет – а еще goеabki, капустные трубочки в кисло-сладком соусе к воскресному обеду и всегда одну или две свежеиспеченных babka. Йозеф заявлялся в кухню, когда она готовила bigos из американской говядины, копченой колбасы, квашеной капусты и, конечно, своих грибов – он складывал руки на груди и заявлял, что «весь дом провонял». Неудивительно, что дети, придя домой, набрасывались на еду, как волчата, и говорили, что никто не умеет готовить так, как она. Это было правдой. И не она ли приносила столько вкусных вещей на пикники в честь Дня Монахини? А как же иначе. Она презирала американские супермаркеты с их яркими квадратными коробками и тяжелыми консервными банками, жуткие поваренные книги Бетти Кукер, Мэри Ли Тэйлор, Вирджинии Робертс, Энн Маршалл, Мэри Линн Вудс, Марты Логан, Джейн Эшли – всех этих тонкогубых протестанток, которые ничуть не стесняясь, подают на стол вздувшиеся бисквиты из пекарских полуфабрикатов, безвкусные консервированные овощи и соленый баночный «Спам», худшую еду на свете. Посмотреть только на ее дуру-невестку Дороти, жену Иеронима – подумать только, эта холера, которая даже перекреститься толком не умеет, открывает банки с супом, жарит сосиски, берет в магазине черствые пироги и мажет их какой-то зеленой гадостью, картошка у нее в фанерных ящиках, соки из концентратов, целые коробки жутких крекеров, соусы, подливки, эта Дороти варит борщ из детского питания, свеклы и морковки в баночках, а однажды подала свекрови стакан молока, в котором копошился огромный паук. И эта балда корчит из себя знатную кухарку, раз на каком-то там «Всеамериканском национальном пекарском конкурсе» выиграла набор алюминиевых кастрюль, сляпав из гамбургера, пшеничных хлопьев и обрезков морковки фальшивый бифштекс с косточкой. Smacznego [274]274
Приятного аппетита (польск.).
[Закрыть].
Но все это в прошлом. Теперь старуха сидела одна-одинешенька в задней комнате, муж ее давно бросил, сын умер, в кухне царствует невестка, а внуки Раймунд и Джо уже взрослые мужчины, у Джо есть жена Соня и двое детей – ее правнуки Флори и Арти. Состроив каменную рожу, Дороти частенько жалуется, что Джо и Соня совсем ее забыли. Говорит, не приходят из-за черномазых, и не петрит дура, что виной тому – ее жуткая стряпня.
Вот-вот, Дороти, моргая своими блестящими голубыми глазками, умоляет их каждую неделю: приходите, говорит, в воскресенье, приходите в субботу, в пятницу приходите, в любой день, у меня вкусный обед (кроме борща из детского питания и фальшивого бифштекса она еще делала рыбу – из творога, баночного тунца, желе и черной оливки вместо глаза), берите с собой детей, мы посмотрим телевизор, но они никогда не приходили, а телевизор у них был теперь свой, портативный «Филко», и приглашения Дороти им как об стенку горох, разве что на Рождество они являлись к Opеatec Wigilijny [275]275
Рождественский обряд разделения облатки (польск.).
[Закрыть] и к ужину, которым командовала старая, хотя она почти ничего уже не могла делать сама; однако на полуночную мессу в прошлом году они не пошли, и даже не постились, как поняла старуха по тому, что девчонка почти все оставила на тарелке, ныла, чтобы ей дали пиццу, теребила соломку от скатерти и требовала открыть подарки – при том ни Соня, ни Джо не сказали ей ни слова. У девочки такие же пепельные волосы, широкие скулы и курносый нос, как у Дороти. Мальчик – совсем другое дело, тут ничего не попишешь, он еще мал, а за девочкой нужно следить. Ведь взрослая, раз ходит в танцкласс и разучивает прежние танцы. Да, не такая уж маленькая – может держать в руках совок и веник.