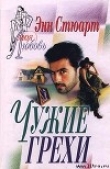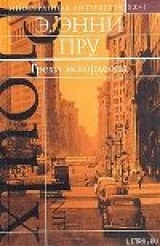
Текст книги "Грехи аккордеона"
Автор книги: Энни Прул
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)
Пожар в кафе
Рано или поздно он должен был попасть в настоящую беду. Ему пришлось быть шафером на свадьбе у Жюли – заставили братья и Старый Дени, развратник-папаша, чьим девизом было «buvez et pissez» [159]159
Пить и писать (фр.).
[Закрыть], в этом ходячем трупе болталась печень размером с портмоне, и потому мероприятие превратилось в череду стопарей на дорожку, стопарей перед свадьбой, ссать только по команде старика, и вот уже в кафе, посреди жуткой смеси злобы и триумфа Шарль подымал очередной стопарь, поглядывая краем глаза на тугой атлас, обтягивавший живот девушки и то гаснувший, то вспыхивавший вновь, когда сквозь жалюзи пробивались солнечные лучи – в животе был скрюченный младенец. Несколько рюмок спустя толпа гостей ввалилась в кафе «Жирандоль», названное так в честь пыльной люстры, большинство хрустальных подвесок которой давно отвалились, но сегодня, по случаю торжества, ее украшал двойной серпантин из креповой бумаги; через пару часов, когда все были уже пьяны, а низкорослая расплывшаяся Жюли танцевала, как корова с электрическим приводом au cul [160]160
Ко дну (фр.).
[Закрыть], в дверях появилась сенегалка – и завопила.
Олив, изящная черная девушка, которая ему всегда нравилась, бросилась прямо на Жюли: пальцы скрючены, как садовые грабли, изо рта гранатового цвета бьет фонтан ругательств, а плотный живот рвется в бой впереди остального тела. В дверях собралась команда ее родственников – громадных черных мужиков с буграми мускулов, лоснящимися бритыми головами и сальными ушами, за которые никому еще не удавалось ухватиться. Глаза с красной сеткой вен, уставились на невидимые полутораметровые фантомы, расположившиеся прямо перед ними.
Отец и братья Жюли повскакивали с табуретов и побросали на пол окурки, выпуская изо ртов клубы дыма и проклятий. Две беременных бабы, визжа, бросились друг на дружку; Жюли изо всей силы стукнула Олив по лицу, так что из носа у той хлынула кровь, Олив ответила тычком в атласный живот, старый Дени метнулся к дверям, засверкали бутылки и ножи, полетели обломки стульев, женщины покатились по полу, черный мужик вцепился зубами в небритую щеку Шарля и принялся ее жевать. Полилась какая-то жидкость, затем вспышка, по полу пробежала огненная дорожка и тут же, с мягким пшиканьем, превратилась в огненный шар. Затрещала креповая бумага. Шарль в горящей рубашке и в обнимку с черным мужиком, вывалился за дверь, на мокрую улицу и тут же удрал, смылся, оставив в зубах противника кусок щеки, оставив гореть заживо и женщин, и бастардов, уже шевелившихся в своих темных камерах. Весь в страшных ожогах, Старый Дени тоже мчался прочь, призывая на голову Шарля смерть от залитого в глаза, уши и рот расплавленного свинца, загнанных под ногти стальных обрезков и отрезанных плотницкой пилой филейных частей.
Монреаль
Стоял 1931 год, Шарль перебрался через Атлантику в Квебек, почти сразу нашел там женщину и меньше чем через год, в разгар Депрессии, уже женатым отцом семейства жил на восточной окраине монреальских трущоб. Несколько месяцев у него была работа: он развозил белые мусорные корзины по шикарным отелям и многоквартирным домам, но потом один из владельцев компании взял на это место своего племянника, а другую работу Ганьон найти не смог. Большой accordéon сдавался в ломбард и выкупался снова. Больше всего Шарля раздражал тягучий исковерканный язык и то, как квебекцы играли мюзетты – торопливо и без всякого вкуса, хуже чем все, что ему доводилось слушать. Джаза там не было вообще, и он лишь презрительно отворачивался от идиотских рилов и gigues [161]161
Жиги (фр.).
[Закрыть] – любимой музыки морковных фермеров и bûcherons [162]162
Лесоруб (фр.).
[Закрыть], невнятного выборматывания нечеловеческих звуков и дурацкой привычки музыкантов пританцовывать во время игры. Он стащил пару пластинок Жо Прива, и, хотя у него не было «Виктролы», почувствовал во рту воображаемый вкус Парижа, аромат уличной жизни.
Жену звали Дельфин – она быстро растолстела, превратившись из вполне симпатичной девушки, с радостью доставлявшей ему небольшие удовольствия, в женщину, прибитую гвоздями к невидимому кресту. Она происходила из обедневшей фермерской семьи, ничем не отличившийся с семнадцатого века, когда в Квебеке высадился человек на редкость вздорного характера и через шесть недель предстал перед судом за то, что назвал своего соседа «une sauterelled'enfer»[163]163
Чертов кузнечик (фр.).
[Закрыть], адской саранчой, «unbougredechien» [164]164
Сукин сын (фр.).
[Закрыть]и ударил по лицу курицей – за этот ущерб он был приговорен к штрафу и публичному amende honorable [165]165
Благородное исправление (фр.).
[Закрыть] – раскаянию и просьбе о прощении. Он быстро покинул поселок, превратился в voyageur и coureur de bois [166]166
Лесной путешественник (фр.).
[Закрыть], наплодил по всему континенту несчетное количество детей смешанной крови, потом осел на небольшом участке земли у западного берега riviére [167]167
Река (фр.).
[Закрыть] Сагенай и сделал еще семь детей полуабенакской женщине. (Отец Дельфин, родившийся от одного из этих семерых, погиб в 1907 году, когда недостроенный консольный мост через реку Святого Лаврентия вдруг обрушился и сбросил в черную воду семьдесят три человека, множество тачек, лопат, шестов, лебедок, инструментов и судков с обедами).
Дельфин укладывала волосы в высокую прическу, валик из закрученных прядей изгибался на висках, а непослушные кудри удерживала сзади пластмассовая заколка в форме морского конька. Ох как много она говорила и как любила жаловаться. Если бы хоть немного денег, повторяла она, если бы она не вышла за него замуж, если бы опять вернулось детство. Терпения не хватало. Легче всего было залепить ей оплеуху, рявкнуть, чтобы она, наконец, заткнулась, и хлопнуть дверью, оставив ее рыдать за столом – в ситцевом платье с торчащим из-под подола потрепанной комбинацией телесного цвета. Она нервно кашляла и, несмотря на постоянные напоминания о том, что жена должна знать свое место, теребила его день и ночь, умоляя согласиться и пересечь границу: это их последний шанс, может быть, ох, я знаю, там Депрессия, но брат говорит, лесопилки пока работают, пусть не все, там есть хоть что-то, здесь – ничего! Она тянула к нему тонкие руки – им нечего есть, неужели он не понимает. И, как это делают все женщины, касалась руками живота – животный аргумент, которому мужчинам нечего противопоставить. Ее брат, чей дух постоянно витал над их разговорами, работал в Мэне на фабрике ящиков. Она писала ему, спрашивала, есть ли шанс найти работу для Шарля. Небольшой, пришел ответ, возможно на неполный день. Возможно. Если Шарль не будет чересчур разборчив. Он должен соглашаться на то, что есть, это всегда лотерея, должен учить американский язык. Неделю-другую они поживут у брата.
Наугад
Они пересекли зимнюю границу поздно ночью, по глухой тропе. Ее брат, храня на индейском лице хмурую мину, иногда сменявшуюся резкими улыбками, встретил их на другой стороне и провел к небольшому домику, где они полчаса отогревались перед последним отрезком пути; то была настоящая лачуга, крошечная, затерянная в снегу хибарка какого-то незнакомца, труба над крышей выпускала в ночь искры. Замурзанные дети выглядывали из рваных одеял, взрослые выпили по чашке горького кофе и вместе с братом двинулись дальше на подбитых гвоздями санях, которые тянули две лошади.
Они ехали сквозь поросшее темными кедрами болото, и Дельфин, и Шарлю оно казалось громадным и страшным. Тяжелый древесный аромат напоминал Дельфин о болезнях, испарине и припарках, а ветер шуршал в иголках зловещим голосом безграничного леса. Шарль видел, что шурин не особенно радуется их появлению, и весь пылал от унизительной мысли, что, сам того не зная, связался с женщиной из второсортной семьи. Он злобно перешептывался с Дельфин. Та отказывалась признавать индейскую кровь, брат просто смуглый, только и всего. И, не считая прерывистых всхрапов лошадей, глухого стука копыт об утоптанный снег и посвистывания сосен, вокруг стояла обиженная тишина.
Фабрика ящиков
Они привыкали к новому месту – тесному дому брата, грубым окрикам на американском языке и обрубкам французского. Едва скопив денег, они сняли халупу с низким потолком и керосиновыми лампами. Перебирались в пронизывающе-холодный день. Шарль толкнул ногой дверь, вошел внутрь, остановился, воскликнул:
– Mais non [168]168
Только не это (фр.).
[Закрыть]! – и опустил на пол вязанку дров. Дельфин стояла у него за спиной с ребенком на руках и не сводила глаз с разложившегося скелета повешенной на стене кошки – в тех местах, где животное отчаянно царапало стену, штукатурка была содрана до деревянных реек.
Каждое утро Дельфин рубила в ручье лед, набирала воды и скользила к дому по обледенелой тропинке, затем мокрая от брызг и слез вваливалась в кухню и клялась, что будет держать своих детей в чистоте, даже если за это придется заплатить жизнью. Она с отвращением вспоминала ирландское семейство, что поселилось около помойки, в хижине из канистр от машинного масла «Тритон»: осенью эти невежественные иммигранты зашивали на своих детях одежду, а в июне, словно кожуру, сдирали с них прилипшие тряпки. Прошел год, другой, потом еще два, и вместе с близнецами у них теперь было шестеро детей. Они так и жили в Рандоме, побоявшись двинуться вслед за братом Дельфин, которого Шарль называл Вождь Уорбоннет[169]169
Индейский головной убор из перьев птиц.
[Закрыть], – тот перебрался на Род-Айленд работать на фабрике шерсти – дети подросли и могли тоже приносить домой деньги. Так Ганьоны остались одни в чужом лесу. Чарльз проклинал эту грязную, холодную, засиженную мухами страну, с тоской вспоминал об утраченной жизни, улицах, музыке и вине. Он клял Жо Прива, которому достались все счастливые билеты.
Если ад похож на раскаленный мюзик-холл, думал он, где дьявольской какофонией скребутся и вопят расстроенные инструменты, а среди хаоса и грохота скачут изувеченные черти, то всякий раз, являясь на фабрику ящиков, он входил через заднюю дверь в l'inferne [170]170
Преисподняя (фр.).
[Закрыть]. Стучали и гремели механизмы, металл сталкивался с визжащим металлом, над головой рычали приводные ремни, в воздухе стояла мелкая пыль. Нужно было или привыкать, или уходить. Он стоял у пресса для досок, через которые с визгом проползали деревяшки, и бригадир-янки не спускал с него глаз. Полтора доллара в день за пятнадцать часов работы, и будь доволен, что есть хотя бы это. Вечерами его хватало лишь на то, чтобы затолкать в рот неважно какую еду и уснуть. По субботам он напивался, бранился, размахивал кулаками, а ночью карабкался на Дельфин. Только чтобы расслабиться – безжалостно объяснял он ей. Желать ее может только слепой – слепой с затычками в носу и перчатками на руках, поскольку от нее воняет, а кожа грубая, как у крокодила. Нужно было любой ценой заставить ее с ним считаться. В воскресенье он просыпался после полудня, заливал похмелье новой порцией виски – вина в этой несчастной стране не водилось, – и тут наступала пора аккордеона, его можно было достать из футляра и негнущимися после досок пальцами сыграть «Розу на жимолости», помечтать о клубах и о блестящих в свете уличных фонарей булыжных мостовых.
Рандом стал новым доказательством его черной звезды. Ганьона дурачили и надували с того самого дня, когда проклятая мать туго скрутила проволочной вешалкой его руки, и толкнула – сначала на набережную, а потом в мутную Сену; ему пришлось бежать в Квебек, где люди пережевывают язык в размазанную кашу, и где его обманом – да, обманом – женили на отвратительной краснокожей бабе и, опять обманом, заманили в Мэн, эту грубую провинциальную дыру. Очередное доказательство он получил весной 1937 года, когда строгальный станок отрубил ему на правой руке три пальца, а сильно порезанный указательный через несколько дней распух и позеленел от инфекции.
В два часа ночи приехал доктор и, бросив косой взгляд на руку, сказал, что керосиновая лампа бесполезна, и под ней ничего не видно. Он вышел во двор, подогнал свой «бьюик» к кухонным окнам и в свете фар осмотрел оставшийся палец.
– Нужно резать.
Шарль не понимал, как это произошло; все случилось само собой в одну из минут, отличимых от миллиона лишь тем, что все остальные закончились вполне благополучно.
Он поправлялся медленно, на руке остались розовые болезненные обрубки. Семья получала пособие – раз в неделю ящик с продуктами: мука с долгоносиком, банка топленого сала и мешочек фасоли. Ящичная фабрика неожиданно закрылась, и всех, кто там работал, выбросили на улицу, украв недельную зарплату, поскольку хозяин задерживал чеки. Люди исчезали в ночи, перебираясь в Вунсакет, Потукет, Манчестер, на шерстяные, хлопковые, шелковые или обувные фабрики, где у них были родственники и могли хоть чем-то помочь.
Шарль проклинал свою жизнь, угрюмую природу, что насылала на них беду за бедой, вскрывая тем самым свою злобную сущность. Лишь раз после того несчастного случая, он достал аккордеон и попытался играть, повернув инструмент вверх ногами, чтобы левой рукой нажимать на кнопки, но собственная неуклюжесть быстро довела его до белого каления, и он в наказание стал пихать le maudit instrument [171]171
Проклятый инструмент (фр.).
[Закрыть] в печь – тот застрял, треснул, пришлось проталкивать кочергой, но так и не пролез. Дельфин вытащила аккордеон из печи и выбросила во двор. Догорая, он сильно дымил. Утром она принесла инструмент обратно, завернула в коричневую бумагу и поставила на полку.
Этой зимой Дельфин стала ходить во сне – босиком по снегу. Когда она возвращалась, ступни напоминали красную ваксу, а подол ночной рубашки покрывали кристаллики льда. Однажды ночью, когда снег покраснел в лучах северного сияния, Шарль объявил, что поедет в Бангор искать работу – специальную работу для одноруких. Рано утром он вышел из лачуги. К концу недели жена узнала, что он уехал навсегда, обратно во Францию – забыть эту жизнь, семью и наполовину выученный язык. Самому младшему, Долору, исполнилось два года.
(Когда во Франции разразилась Вторая Мировая война, Шарль вступил в Сопротивление и стал курьером; в безлунную ночь его серьезно ранили, он упал с велосипеда, прополз десять миль на руках и коленях, но все-таки доставил сообщение, которое, как потом выяснилось, было не таким уж важным. Внезапно он переметнулся к коллаборационистам и несколько раз участвовал в рейдах против zazou [172]172
Стиляги (фр.).
[Закрыть]: с парой садовых ножниц наизготовку прятался в тени у свинговых ночных клубов, чтобы состричь догола «помпадуры», эти высокие сальные прически, с голов самовлюбленных юнцов, как только те появятся на улице, возбужденные танцами «J'ai un clou dans ma chussure» [173]173
У меня гвоздь в ботинке (фр.).
[Закрыть]. И это называется музыка? Не джаз, а свинг, ничего кроме шума, идиоты-танцоры с выпученными глазами, щелкают пальцами, дергаются и скачут, словно мухи на сковородке. После войны он несколько лет болтался по ночным клубам, бегая по поручениям и подметая в предрассветные часы туалеты – заработанного хватало на шесть бутылок vin blanc [174]174
Белое вино (фр.).
[Закрыть], которые он выпивал ежедневно. В 1963 году он все еще работал в клубах, все еще подметал, пока однажды, полируя краны в гольф-клубе Дрюо, не упал с сердечным приступом под раковину и не умер в окружении синтетических носков и лодыжек юных «yé-yés».)
Что ей оставалось делать? Дельфин написала брату в Провиденс, хотя прекрасно знала, что он уехал на юг не столько из-за работы, сколько подальше от повисшего на нем семейства Ганьонов. Ну, приезжай, кисло ответил брат. Я пришлю тебе денег на автобус. Но всех детей брать нельзя. Жизнь слишком трудна. Только двоих старших. Они смогут работать. И ты тогда тоже найдешь себе место.
Гнездо
Самым красивым зданием в Олд-Раттл-Фоллз считалось Гнездо – витиеватый особняк, выстроенный в девятнадцатом веке для железнодорожного барона: фасад украшали зубцы и эркеры, сверху восьмиугольная «вдовья площадка», впереди «порте-коше» и две громадные китайские урны, а по всему периметру галерея в двадцать футов шириной. В 1926 году город забрал Гнездо за неуплату налогов и отдал его округу под приют. Высокие комнаты, оклеенные импортными обоями с орнаментами Уильяма Морриса[175]175
Уильям Моррис (1834 – 1896) – английский художник, дизайнер и поэт.
[Закрыть], высокие потолки с воздушной, словно свадебный торт, лепниной, резные панели платяных шкафов, матовое стекло, ореховые перила, танцевальный зал – все было перегорожено и приспособлено для нужд приюта: спальни обставили железными кроватями, танцзал превратился в пропахшую картошкой столовую, паркет замазали серой краской. Комнату для завтраков загромоздили металлические ящики для бумаг. Платяные шкафы превратились в карцеры. Сад, разбитый по проекту Кельверта Вокса[176]176
Кельверт Вокс (1824 – 1895) – известный американский архитектор.
[Закрыть], зарос сорняками, вирджинские вьюны оплели узорно подстриженные деревья, на мраморных ступенях гротов слежались кучи веток, на клумбах взошли побеги ясеня, а многолетние луковицы сожрали скунсы.
Мальчику было всего два года; сначала он плакал и просился обратно в лачугу к знакомому запаху дровяной печки, к худым твердым рукам матери, и ее нервному кашлю. Уже тогда, во младенчестве, на него наваливалась депрессия, и час за часом он мог только спать или лежать неподвижно с закрытыми глазами, набирая в легкие воздух и выпуская его, вдох, выдох, вдох, выдох, тише, тише, тише.
Сестры-близнецы Люсетт и Люсиль, а также старший брат Люсьен жили в том же приюте, хотя он об этом не знал. Он проводил свои дни среди младенцев и ползунков – долгие, долгие часы в деревянной кроватке, одной из целого ряда, в каждой, как в клетке, заперт ребенок, все они качаются, бормочут, хнычут, бьются головами о прутья. По утрам приходили две женщины, меняли подгузники и простыни, совали им в рот бутылки голубоватого молока, мало разговаривали и перекладывали детей, как поленья дров. Долора уже год как отняли от груди, но он находил утешение в липкой резиновой соске. Детей на час выносили в большую комнату – утреннюю комнату, где во времена Гражданской войны супруга железнодорожного барона писала свои тупые письма, – и опускали на грязный квадрат ковра поиграть с деревянными кубиками, такими старыми, что углы их стесались, а от краски остались лишь редкие следы. Бегать запрещалось. Звуки французского языка забывались, новые слова были американскими. Больных детей оставляли в тюрьмах-кроватках. В Гнезде жили только сироты и взрослые женщины. Из мужчин там появлялись лишь врач, окружной инспектор, да еще раз в месяц приходил поп-пятидесятник и выкрикивал «Иисус, Иисус» до тех пор, пока самые маленькие не начинали плакать. Дети постарше ездили в воскресную школу на церковном автобусе – обрубленной машине с парусиновыми боками, летом их закатывали наверх – удивительные получались прогулки. Автобус, скрипя, скатывался по длинному холму, полз сперва через весь город мимо знаков «МЕДЛЕННО», сменившихся, когда началась война, надписями «ПОБЕДА. СКОРОСТЬ 35 МИЛЬ В ЧАС», потом дальше по усыпанной гравием речной дороге. Весной дети таращились на разбросанные по берегу огромные ледяные пироги.
Население приюта менялось: кого-то забирали матери, кого-то материнская родня. Отцы не появлялись никогда. Кто-то из детей попадал в больницу, кто-то в морг. Некоторых брали в семьи; в шесть лет Долор тоже попал на полгода в семью, но мужчина получил работу на военном заводе, несостоявшиеся родители переехали на юг и вернули мальчика в приют. Они сказали, что он очень тихий ребенок. Из того времени он запомнил лишь куриц-пеструшек – как они сбегались, когда он бросал на землю горсть дробленой кукурузы, – и еще запах их горячих вшивых перьев, и кудахтающие голоса, что спрашивали его о чем-то на птичьем языке. Он отвечал им похожими словами. Еще он вспоминал, как глава семейства, усевшись, перед автоматическим пианино, пел тонким голосом, а клавиши падали и поднимались так, словно у него на коленях устроился невидимый музыкант:
– Ох, не жги меня…
В школе Долор был маленьким и всегда последним – слишком робкий, он стеснялся не только разговаривать, но даже открыто смотреть на то, чем занимались другие дети. Он уходил поглубже в себя, иногда чуть заметно улыбался и кивал, словно участвуя в воображаемой беседе. Больше всего он любил «Уикли Ридер», настоящую маленькую газету, и чувствовал себя поразительно взрослым, когда брал ее в руки и принимался за чтение. На школьных торжествах он сидел, повернувшись лицом к картонной табличке «ОТДАЙ ВСЕ ЛУЧШЕЕ». Иногда ему доверяли сворачивать флаг – поскольку он всегда молчал.
От школы до Гнезда автобус добирался за десять минут, и, поскольку не было причин с кем-то о чем-то говорить, Долор просто выскакивал из дверей, выволакивая за собой серый мешок, который округ выдал каждому из них для книг и завтраков; концы светлых кос девочки с переднего сиденья были странного зеленоватого оттенка из-за того, что их постоянно макали в чернильницы – потом, правда, школьное управление отменило чернила и велело всем принести из дома шариковые ручки. В Гнезде им раздали ручки с выведенным на боку Похоронная контора «Ле Бланк». В пятом классе Долор подружился с Толстым Уильямом – тот вечно задыхался от астмы и часто мучился из-за больных ушей. Дети из Гнезда обычно держались вместе. В автобусе с ними ездил мальчик постарше в коротких не по росту штанах; другие дети называли его Прилив или Француз. У него постоянно текло из носа, и он все время лез драться.
– Этот парень твой брат, но он сволочь, – сказал Толстый Уильям Долору, и тот стал ждать какого-нибудь знака, но Француз смотрел мимо, и ни разу не сказал ему ни слова, а между тем, по словам Толстого Уильяма, трепался по-французски со скоростью миля в секунду и умел по-всякому ругаться; некоторое время спустя Француз перестал ездить с ними в автобусе, куда-то делся, и никто не знал куда.
(Сестер-близняшек Люсетт и Люсиль, в первый же год после того, как они попали в Гнездо удочерила пара, переехавшая потом в Рочестер, Нью-Йорк. В 1947 году Люсетт, которая очень чистым голосом пела «Белое Рождество»[177]177
«Белое Рождество» – песня, написанная в 1942 г. Ирвингом Берлином.
[Закрыть] и страдала от непонятного хронического кожного заболевания, легла в больницу, где в соответствии с программой секретного медицинского эксперимента ей сделали укол плутония. В 1951 году она умерла от лейкемии. Ей было семнадцать лет, и она весила всего шестьдесят три фунта.)
После того, как на Толстого Уильяма напал самый тяжелый приступ астмы, в приюте объявилась кривобокая тетка и сказала, что она его бабушка; с тех пор Долор обращал внимание только на Моргало, школьного клоуна, мальчика с воспаленными глазами и кудрями грязноватого цвета, на два или три года старше Долора. Тот вечно гримасничал, притворялся пьяным, визжал на весь класс, задирал девчонок, елозил ботинками по полу, во время контрольных нервно стучал карандашами, ногами, пальцами, и все это одновременно – на задней парте никогда не замолкала настоящая ударная установка.
– Моргало! – рявкали учителя; на минуту он успокаивался, потом все начиналось снова.
Однажды Долор стоял за ним в столовской очереди – Моргало тогда обернулся и посмотрел на бурлящий зал, выискивая свободное место. В его глазах Долор увидел хаос; словно заглянув сквозь тонкий голубой диск в широкий зрачок, он разглядел страх, неприкрытый и отталкивающий. Долор отвернулся, притворившись, что его очень интересует железный блестящий черпак повара и апельсиновая каша с ячеистыми кубиками турнепса, но сквозь ресницы наблюдал, как Моргало с важным видом пробирается по проходу, раздавая тумаки попадавшимся по пути головам и плечам, расплескивая молоко и выталкивая изо рта «пах-пах-пах-пах».
Молчание и прятки на задних рядах не спасли Долора. В четвертом классе старшие ребята уцепились за его имя.
– Эй, Доллар! Ты, наверное, богач! Дай мне денег!
– Доля! А ну поделись!
Миссис Брит, директор Гнезда, постучала чернильной ручкой по школьной записке.
– Знаешь, что я думаю, тебе же будет лучше, если записать тебя под обычным американским именем. Что тебе больше нравится, Фрэнк или Дональд?
– Фрэнк, – шепнул он. Так он получил новое имя, и еще один фрагмент его сущности отлетел, словно чешуйка ржавчины.