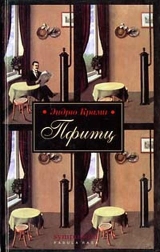
Текст книги "Пфитц"
Автор книги: Эндрю Крами
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
День тянулся медленно и уныло; если что-то и скрашивало скуку Шенка, так это визиты хозяйки с ее сплетнями, советами и бесконечными проявлениями заботы. Оставаясь в одиночестве (чтобы, по выражению фрау Луппен, «отдохнуть и набраться сил»), он с тоскою смотрел на лучи света, пробивающиеся сквозь щели в закрытых ставнях, и думал о ярком, живом мире, о времени, песком просыпающемся сквозь его пальцы. Единственным доступным для него развлечением была книга, так и лежавшая в чудом спасенной от неизвестного злодея сумке – «Афоризмы» Винченцо Спонтини. Шенк достал ее и раскрыл.
Глава 6
Башенки, шпили, горгульи, витые украшения колонн, ажурные окна. Собор подобен гадючьему гнезду, лабиринт отравленного камня окружает и стесняет, опутывает мои мысли. Я нахожусь в чреве хладного тела, чей последний вздох все еще звучит, постепенно стихая. Это было бы самым подходящим местом для задуманного – сразу после мессы, пока она не успела еще уйти, пока бдительность остальных еще притуплена. Траектория клинка в пространстве, сверкающая дуга окружности, чей радиус равен длине руки, дуга, определенная мечтой, невозможным движением. Мечта, которая началась бы в этом месте, чтобы здесь же и завершиться быстрым, невозможным движением клинка.
Каково это – думать подобным образом? Читая эти строчки, я пытаюсь восстановить в памяти чувства, с какими их писал, – задача настолько трудная, что поневоле задумаешься, да мои ли они? Или чьи-нибудь чужие, и их подкинули сюда, в эту камеру, с единственной целью умножить мои страдания?
И снова в памяти эта великая книга, раскрытая в обсерватории. Тайны мироздания, переведенные рукой моего астролога в черные значки на белой бумаге, – тайны прошлого, а равно и тайны будущего. Всем правит движение сфер, нас объемлющих. Наши поступки, наши желания, перемещения по церкви закутанной в плащ фигуры, воздымание и опускание руки – всем правит бесстрастное коловращение сфер.
Это я шел по церкви, у меня нет в том никаких сомнений. Но разве ложная память ощущается иначе, чем истинная? Возможно, по церкви этой шел совсем другой человек, другой князь – шел и идет поныне. Возможно, я придумываю эти слова, не читаю их, а пишу в своем воображении. Я верю, что слова написаны на лежащей предо мною бумаге, но эта бумага и даже сама эта камера могут быть очередными их трюками, ловким обманом.
Он составил мой гороскоп, показал, как точно его расчеты сходятся с обстоятельствами жизни, и моей, и моих подданных. Слава, удача, богатство – и все это не более чем случайные последствия некоих уравнений. И красота тоже, и грация; нежность кожи, изящный взмах руки, все лишь продукция бездумной, безразличной машины, пребывающей вне нас, над нами. Учащенное биение сердца. Его неверность. Астролог показал мне свои расчеты, строчки и столбики неопровержимых цифр. Это было бы самым подходящим местом, безо всяких сомнений.
А может быть, эти мои мысли суть последствия иного из его уравнений? Мне является мысль, что, может быть, он думает обо мне, что эти мысли могут мыслиться в его голове, не в моей. Мои мысли могут быть не более чем стезей, предписанной бесстрастным движением звезд.
И снова я вспоминаю обсерваторию, мир и таинственный покой этой комнаты наверху башни. Днем она казалась куда более сонной, чем ночью; астролог, сидящий за столом, над картами и цифрами, поглаживающий давно не мытыми пальцами свою длинную седую бороду (непременный атрибут волшебника). В комнате пахло голубиным пометом и его ногами. Где-то тикали часы – несколько часов, и везде, куда ни посмотришь, приборы; секстанты, глобусы, циркули. Отдельная, полная пыли вселенная.
Он показал мне толкование составленной им карты, гороскоп моей жены. Теперь намерение полностью доказано, так же как и предрасположенность. Осталось только вычислить, где, и когда, и с кем. Он указал длинным грязным пальцем на математическое подтверждение худших моих опасений. Ее сердце, как понял я теперь, во всем подобно блуждающей звезде, влекомой непреодолимою силой притяжения. И я последую за этой неровно бьющейся звездой, за этим красным, трепещущим шаром непостоянства.
Я пытаюсь убедить себя, что ничего этого нет, мысль весьма утешительная. Я не автор моих поступков, а значит, нет нужды в угрызениях совести. Я просто читатель, один из многих. Жизнь, кою я почитал своей собственной, – не больше чем текст, данный мне для моего развлечения. Слова, полученные мною от них, суть жизнь кого-то другого, его мысли и вспоминанья.
Из обсерватории удобно наблюдать за улицами внизу, не менее, чем за небесами вверху. При посредстве телескопа содержимое окна может быть изучаемо столь же легко, как кратеры на Луне или фазы Венеры. Из этой комнаты наверху башни я мог начать наблюдение за распластавшимся внизу городом, за этой галактикой интриг и обманов. Я мог приступить к сбору данных, сформулировать свои теории. Там, наверху, сильно сквозило, и все мое общество составляли случайные голуби. Шелест ветра и хлопанье крыльев по крыше. Выпавшее перо, несомое ветром, – я наблюдал за таким однажды; серое с белым, трепещущее в падении. Вся моя жизнь, все мои преступления – реальные или воображенные – не больше чем пушинка в дуновении Господа.
Мне уже мерещится, будто это я писал эти слова, я, а не тот, другой (темнейший). Я все еще вижу его, даже здесь, в этой камере, ночью, иногда, в колыхании теней, когда догорающая свеча бросает на стены последние клочья желтого света. Мне уже мерещится, будто это я думал эти слова, будто это я поддерживал существование целого государства силой одной лишь силы убеждения. И я вижу его сейчас, того, другого, себя самого, сидящим наверху башни, в обсерватории. Я читаю слова, написанные им для меня.
И каждый день я смотрел вниз, на город. Управлять телескопом очень непросто, но со временем я научился. Я мог направить его на любые выбранные мною места и предметы – на эту дверь, из которой она непременно появится (тикающие рядом часы терпеливо отмечают время), чтобы затем повернуть налево (налево для нее, для меня же направо) и пройти некоторое расстояние, до другой двери, которая перед ней распахнется. Все крайне невинно. И комната наверху, крошечное окошко которой я мог, с помощью телескопа, вспороть, как кружевную салфетку. Крупинки света расходятся, отталкиваясь друг от друга, квадрат окна делается все шире, больше. И все содержимое комнаты вываливается, обнажается, подобно внутренностям убитой лисицы. Я почти могу их потрогать, так до них близко. Как две куклы в кукольном доме. Моя жена, мой слуга.
Две незначительные планеты, кружащие в безразличном космосе. Пылинки, проплывающие сквозь пустую тьму, подобную пустой полости собора, скудно освещенной (свечи почти догорели), – одинокий бедолага, бытие, определяемое одним лишь движением закутанной в плащ фигуры.
Я снова там, я вижу его, мою закутанную в плащ фигуру. Я не автор своих поступков. Астролог, он все это мне объяснил. Мы суть не больше чем расположение звезд, наши жизни суть созвездие, холодное и чистое, плывущее в беспредельной тьме. Я воображаю себя сидящим в камере, но эта камера – иллюзия. Даже слова, которые я пишу – или думаю, что пишу, – суть еще одна иллюзия, засланная ими в мое сознание, чтобы меня обмануть.
Астрологос, язык звезд. Тогда вселенная должна быть огромной книгой, звезды и планеты суть слова в ней, пламенное стремление кометы – высказывание, смысл которого нужно понять. С верхушки башни, из обсерватории, можно было пытаться прочесть небеса либо, обратившись вниз, следить за деяниями заблудшего сердца.
И собор. Самое подходящее место и момент. Теперь я лишился его, также как и ее. Она ускользает – ее диск убывает, стремясь по огромной дуге прихотливой орбиты. Я вижу ее снова, как видел прежде, много раз, неколебимым взглядам телескопа, – далекий объект, сверкающий ледяной красотой, увлекаемый прочь силами, неподвластными моему разуму. Гаснущая звезда, моя гаснущая жизнь, вздох живых и усопших. Влекомая теперь во тьму, в бесконечную полость.
Глава 7
– Что вы там читаете, герр Шенк? – спросила, возникнув на пороге, фрау Луппен. – Что-нибудь неприличное? Не забывайте, что сказал доктор: вам нельзя перевозбуждаться. – Студенистое подрагивание ямочек на щеках грозило разразиться шаловливым хихиканьем.
Шенк сказал ей, что чувствует себя гораздо лучше и скоро попробует встать (в действительности его гнали из постели тоска и уныние).
– А как у нас с температурой?
Фрау Луппен тронула его лоб пухленькими костяшками пальцев и задумалась, а затем без каких-либо дальнейших комментариев убрала руку, чтобы тут же сменить ее своей щекой.
Ее щека была подобна большой, очень мягкой подушке, в такой щеке можно утонуть, бесследно исчезнуть. Отбившийся от стада завиток волос щекотал Шенково ухо, аромат ее духов навевал мысли о неопределенной природы цветах и детских утренниках. Бледно-розовый аромат. В этот ужасающий миг телесного сближения континенты ее грудей висели прямо перед глазами Шенка. Он мог сполна наглядеться на эти обильные полусферы, рвавшиеся на свободу из жесткой хватки корсета, на бескрайние снежные поля, изрезанные извилистой синевою вен. Стоило лишь согнуть руку да вытянуть палец, и он мог бы замерить мягкость этой богатой почвы.
А где-то высоко, на краю вселенной и сознания, парила фигура жизнеописательницы, брезгливо на него взиравшей.
Фрау Луппен распрямилась, повернулась и ушла, не проронив ни слова. Но теперь Шенка смущало видение этой огромной массы, разоблаченной до розового естества и хихикающей, пахнущей мылом и притираниями, лавандой, гвоздиками и гардениями. Бессознательная месть за безразличие жизнеописательннцы? Нет, ведь оно его пугало, это видение уродства и несовершенства, безвкусная бордельная сцена, вызывающая дрожь далеко не страстную. И все же он не остался совсем уж глух к зову этих сокрытых просторов, безмерных и неизученных, знакомых ему лишь по смутным очертаниям.
Шенк хотел было вернуться к книге Спонтини, но не смог сосредоточиться на чтении, а потому принялся опять, как и раньше, блуждать бездумным взглядом по закрытым ставням, по узким клиньям света, пробивавшимся сквозь щели.
Вскоре фрау Луппен вернулась с известием: «К вам посетитель», а следом за ней в комнату вошел Грубер.
– Ну мы ж и парочка, что один, что другой. Сперва моя рука, теперь вот твоя голова. Этак к концу недели они останутся совсем без картографов.
Шутливость Грубера выглядела несколько натужно; они с Шенком никогда не поддерживали сколь-нибудь близких отношений.
– Как там твоя рука, лучше? – поинтересовался Шенк (сугубо по долгу вежливости).
– В полном порядке и готова к дальнейшим действиям. – Грубер грубо расхохотался и окинул фрау Луппен таким взглядом, что та зарделась и выскользнула из комнаты.
Шенку мучительно хотелось узнать, успел ли этот тип повидаться с жизнеописательницей, вот только как бы это сделать не прямо, а исподволь?
– А где это тебя угораздило повредить руку?
– Чертова таратайка. Сшибла меня сзади колесом.
– А больше никто не пострадал?
– Это в каком смысле?
– Ну, может, там кто-нибудь еще рядом был.
Грубер безразлично пожал плечами, из чего Шенк сделал вывод, что соперник вряд ли добился более серьезных успехов, чем он сам.
– А как у тебя с этой рыжей? – вопрос Грубера звучал не очень дружелюбно, – Чего это тебе так не терпелось забрать у нее эту карту?
– Она потребовалась в другом месте.
– Да? И где бы это, интересно узнать?
Чувствуя, что разговор балансирует на грани между добродушным поддразниванием и едкой злобностью, они благоразумно оставили эту скользкую тему. Теперь наконец выяснилась истинная причина неожиданной заботливости Грубера; ему потребовалась консультация по составлению новой карты подземных потоков. С переходом на нейтральную почву недавняя напряженность быстро разрядилась. Шенк с радостью порекомендовал коллеге ряд книг и статей, к которым стоило бы обратиться.
– Ну спасибо, Шенк, а то я уж не знал, что и делать. Может, и я тебе чем-нибудь помогу? На работе тебе ничего не надо?
Шенк на секунду задумался. Надо-то надо, но не пошлешь же Грубера к жизнеописательнице.
– Я хочу что-нибудь узнать про писателя Спонтини. В общем-то, из чистого любопытства – его фамилия попалась мне на какой-то карте.
Грубер разразился дурацким смехом, словно подозревая Шенка в некоем тайном умысле. Отсмеявшись, он пообещал поискать какую-нибудь информацию, а затем попрощался и пошел «дальше тянуть лямку» (его собственное выражение).
После ухода коллеги Шенк попробовал встать с кровати, однако примчавшаяся на совсем вроде бы неслышный шум фрау Луппен в корне пресекла его намерение.
– Я ничуть не сомневаюсь, что все это из-за какой-то женщины, – строго сказала она, присаживаясь на краешек кровати. – Отсутствие аппетита, голодные обмороки. Ах, бедняжка, ну до чего же мне вас жалко.
Она сочувственно стиснула Шенкову руку, а затем еще раз проверила его лоб на предмет жара (только рукой, несмотря на все погрешности этого метода). Шенк взирал на массивный уступ груди, нависшей над его лицом, и пытался представить себе, скольких усилий стоит ей затолкать все это богатство в корсет, и это ведь ежеутренне, год за годом.
– Жаль, – сказал он, – что я таки не имел чести познакомиться с вашим покойным супругом.
Фрау Луппен торопливо убрала руку с Шенкова лба.
– Да. Хороший он был человек, – Она неловко поерзала.
– Вам, наверное, очень его не хватает.
– Да, конечно. – Она взглянула на свои руки, лежавшие, подобно связкам розовых сосисочек, у нее на коленях. – Такая внезапная утрата. Все произошло так неожиданно.
– А как это, собственно…
– Давайте не будем говорить о таких вещах, – решительно отрезала фрау Луппен и столь же решительно поднялась. – Он ушел в лучший мир, оставив нас здесь, в этой юдоли скорби.
– Аминь.
Фрау Луппен явно ждала, чтобы Шенк сказал что-нибудь еще, но он молчал.
– Да, – повторила она, – мне его очень не хватает. А ночами…
Глаза ее наполнились слезами. После недавней попытки встать у Шенка отчаянно разболелась голова, иначе бы он, пожалуй, вскочил сейчас с кровати и попытался распустить этот мощный, тугой каркас из китового уса и шнурков. Вдова повернулась и ушла.
Бесконечный день перешел постепенно в вечер. Когда солнце почти уже село, вторично появился Грубер.
– Это было на твоем столе, – сказал он, протягивая Шенку конверт. – Не знаю уж, от кого.
Жизнеописательница! С трудом обуздав желание тут же вскрыть конверт, Шенк сунул его под подушку для позднейшего приватного ознакомления. Далее Грубер вынул из своей сумки сложенный вдвое лист.
– Я тут все для тебя переписал. Это про этого твоего Спонтини. Странненький, к слову сказать, мужик. И чего это он тебе понадобился? Ты там часом не надумал перебраться в Биографический?
Шенк счел за благо пропустить этот вопрос мимо ушей, а только поблагодарил Грубера и сказал, что уже поздно и он за сегодня очень устал, да и самому Груберу завтра рано вставать. Грубер вежливо кивнул, пожелал Шенку скорейшего выздоровления и ушел.
Шенк развернул принесенный им лист. Это была биографическая справка по Спонтини; начиналась она с дат и названий городов, имен отца и матери и прочего в этом роде, завершалась же кратким обзором его творчества:
Винченцо Спонтини приступил к работе над «Афоризмами» незадолго до начала болезни, лишившей в конце концов его разума. Эта книга была задумана как переложение истории князя Рудольфа (исторический персонаж, семнадцатый век), который заподозрил свою жену в интимной связи с одним из слуг и убил ее по совету астролога, поддержавшего эти подозрения. Однако быстро прогрессировавшая болезнь заставила Спонтини уйти от первоначального замысла; его книга постепенно приобретала автобиографический характер. Общее название «Афоризмы» принадлежит издателю, собравшему и опубликовавшему те немногие фрагментарные наброски, которые успел написать Спонтини к моменту своей смерти.
Душевное заболевание породило у Спонтини иллюзию, что он не автор своей собственной книги, а один из ее персонажей. Он видел себя то князем, то подозреваемым слугой, а вдобавок вообразил целую группу авторов, ожесточенно борющихся за контроль над его душой. В конечном итоге Спонтини твердо уверовал, что он вообще не существует иначе, как в мыслях других людей. Кризис разрешился трагическим образом: Спонтини зарезал свою жену, решив, по примеру князя Рудольфа, что она ему изменяет. Арестованный на месте преступления, он прокомментировал случившееся словами: «Вот и конец повествования». Признанный невменяемым, он был помещен в дом для умалишенных, где и продолжал работу над тем, что получило позднее название «Афоризмы», вплоть до своей смерти, последовавшей через полтора года. За дальнейшими подробностями обращайтесь к полной биографии.
Странно, с какой это стати взялся Пфитц за такую книгу? А может, потому-то имя Спонтини и было стерто с этого плана? Третий персонаж постепенно разворачивавшейся истории графа Зелнека приобретал тревожащие черты. Завтра нужно будет разузнать о нем побольше.
Теперь Шенк позволил себе достать из-под подушки драгоценный конверт. Запах у него был как у любой канцелярской бумажки, никаких ассоциаций с нежной кожей жизнеописательницы. Отрывая краешек конверта, Шенк надеялся найти там какое-нибудь объяснение ее вчерашнего отсутствия, но в записке не было об этом ни слова. «Принесите еще о Пфитце». Вот и все. Ни благодарности, ни извинения.
Шенк встал и оделся. День, конечно, прошел по-дурацки, но зато голова теперь не болела, и вообще хватит прикидываться инвалидом. Услышав, что Шенк хочет перебраться к себе наверх, фрау Луппен пришла в полный ужас, однако все ее мольбы, чтобы он не подвергал себя такому риску, ведь болезнь еще не прошла и обморок может повториться, остались гласом вопиющего в пустыне. Дурное самочувствие Шенка никоим образом не было связано со вчерашней травмой.
Поднявшись в свою комнату, он снова сел за приставленный к окну столик. Чернильница и стопка бумаги были на прежнем месте. Она просила принести еще. Шенк обмакнул перо и начал писать вторую часть истории Пфитца.
Глава 8
ГРАФ. А каков он был, твой отец-стекольщик?
ПФИТЦ. Позвольте мне пересказать вам мое самое первое о нем воспоминание. Отец сидит в дальнем углу комнаты, пересчитывает разложенные по столу монеты. Мать что-то шьет. И вдруг он поворачивается, хватает ее за талию и начинает целовать.
ГРАФ. Сколь постыдно помнить такие вещи!
ПФИТЦ. А что я с собой поделаю? Далее он затаскивает ее на кровать и делает с ней все, что положено, прямо у меня на глазах.
ГРАФ. Я не верю ни одному слову твоего рассказа, я никогда не поверю, что они могли заниматься подобными вещами на глазах у своего ребенка, а также, впрочем, и тому, что ты мог это запомнить. Скорее всего, ты просто фантазируешь – ложная память, вызванная неумеренным употреблением алкоголя.
ПФИТЦ. Никак нет, герр граф. Все вышеописанное действительно произошло у меня на глазах, я наблюдал за их действиями и все время думал, ну до чего же это смешно. Я не очень понимаю, каким образом я это думал, ибо в то время я не умел еще говорить, а может быть, не умел еще и смеяться, в каковом случае трудно понять, каким образом я мог посчитать эту сцену смешной, но так или иначе я прекрасно помню, что я видел, как мои родители занимаются любовью.
ГРАФ. Ерунда какая-то. Поверь мне, ты просто нафантазировал все это непотребство. Скорее всего, оно приснилось тебе не далее как прошлой ночью в этом мерзейшем трактире, где мы были вынуждены остановиться, а теперь ты принимаешь сохранившийся в голове сон за реальное воспоминание. Пить меньше надо. К слову сказать, прежде ты и словом не упоминал эту историю.
ПФИТЦ. Из того, что я не рассказывал ее вам, герр граф, раньше, отнюдь не следует, что она не произошла. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы накопить все истории, хранящиеся в моей голове, и потребовалось бы еще несколько жизней, чтобы все их вам рассказать. Я уверен в подлинности своих воспоминаний еще и по той причине, что, наблюдая, как дергается вверх-вниз задняя часть моего отца, я заметил на ней весьма необычный шрам.
ГРАФ. Я совсем не уверен, что мне так уж интересна интимная анатомия твоего отца.
ПФИТЦ. А несколько лет спустя мне представился случай выяснить его происхождение. Не знаю уж, каким образом в нашем с отцом разговоре возникла эта тема, но я спросил его (не забывайте, что я тогда был совсем еще маленьким мальчиком): отец, а откуда это у тебя такая отметина на заду? Отец покраснел как рак, и я было испугался, что сейчас он придет в ярость, однако, по всей видимости, краска на его лице была вызвана не гневом, но стыдом и удивлением. Он спросил меня, а откуда я знаю, я же догадался соврать и сказал, что видел его однажды купающимся в корыте. Тогда он сказал, что расскажет мне, как все это было.
Далее Пфитц рассказал своему хозяину, как много лет назад его отец принимал участие в Брюнневальдской битве. К тому времени Ганс (именно так его звали) не вышел еще, по сути, из мальчишеского возраста (ему было не то пятнадцать, не то шестнадцать лет), а потому получил в армии (куда его насильно завербовали) место полкового барабанщика. Его полку пришлось проделать двухсуточный марш под проливным дождем и без крошки провианта, не считая того немногого, что солдатам удавалось награбить у многократно уже ограбленного населения. Подойдя к крошечной деревушке, они решили остановиться там на ночлег. Деревушка состояла из нескольких крестьянских хозяйств с хлевами и амбарами, и полковник сказал своим подчиненным располагаться кто где может. Проникшись жалостью к голодному, дрожащему от холода Гансу, он отправился вместе с ним в один из крестьянских домов на поиски крова и пропитания.
Полковнику пришлось изрядно побарабанить в дверь, прежде чем та была открыта симпатичной, очень молодой девушкой, которая, конечно же, не могла отказать в приюте двум воинственного вида незнакомцам. Девушку звали Лиза, она жила со старой женщиной, которая нашла ее, чуть ли не новорожденной, на засаженном репой поле, где ее оставили на верную смерть, а потом полюбила и удочерила (так, во всяком случае, рассказывала сама Лиза). Полковник и Ганс вошли в дом и увидели древнюю старуху, глухую, а вдобавок еще и слепую. Лиза усадила незваных гостей за стол и налила им по миске супа. Они съели все до последней крошки и капельки, после чего полковник сказал, что уже поздно и им пора ложиться. Лиза предложила в их распоряжение комнату за кухней, где два человека могли бы поместиться с легкостью, однако полковник сказал, что человеку с его положением необходима настоящая кровать и отдельная комната. В результате он получил комнату с кроватью на втором этаже, Ганс же был вынужден улечься в кладовке на каменном полу. Не трудно догадаться, что в действительности полковник хотел расположиться как можно ближе к Лизе, которая была весьма собою недурна, и в то же самое время подальше от Ганса, чье присутствие могло помешать ему в осуществлении его замысла.
ГРАФ. Как то часто бывает, я замечаю в этой явно надуманной истории измывательский подтекст. Ты не вспоминаешь отцовский рассказ, а перелицовываешь события прошлой ночи, имея в уме выставить меня на посмешище.
ПФИТЦ. Никак нет, герр граф. Моя история не имеет ровно никакого отношения к трактиру, где мы ночевали, равно как и к хорошенькой девушке, которую вы сочли столь занятной. Если между двумя этими историями и есть какое-либо сходство, то оно, как и все в этом мире, является совершенно случайным.
ГРАФ. А то, что эти две девушки, из твоей истории и вчерашняя, носят одно и то же имя – это тоже, значит, случайность?
ПФИТЦ. Должен вам признаться герр граф, что имя я действительно позаимствовал, по той единственной причине, что не помню в точности, как называл эту девушку отец, когда он рассказывал мне свою историю, а он любит ее рассказывать и рассказывал неоднократно. Более того, мне кажется, что имя девушки варьировалось – сегодня ее звали Лиза, через месяц – Гретхен, еще через год – Магдалена…
ГРАФ. Что еще раз доказывает, что если даже ты не врешь, врал твой отец.
ПФИТЦ. Простите великодушно, герр граф, но вам бы не стоило выдвигать столь тяжких обвинений. Если мой отец и изменял некоторые малозначительные подробности, то лишь с целью поддержать интерес аудитории, ибо нет никакого смысла рассказывать точь-в-точь ту же самую историю вторично, а по десятому разу – так и подавно.
ГРАФ. Именно что есть – если, конечно, рассказчик понимает разницу между фактами и вымыслом.
ПФИТЦ. По моему, герр граф, опыту, такой разницы не существует вовсе. Реальны ли события, о которых мой отец рассказывал мне, а я, с его слов, вам? Или, может статься, мы сами – не более чем вымысел в некой большой истории? Подобные вопросы слишком тонки для моего понимания.
ГРАФ. Не пытайся сбить меня с толку своими философствованиями. Насколько я помню, ты намеревался рассказать мне историю про графа, или там полковника, который провел ночь в комнате, соседней с той, где спала девушка по имени Лиза…
ПФИТЦ. Так вот, ночью этот граф или полковник решает встать с постели…
ГРАФ. Чтобы облегчиться…
ПФИТЦ. И по возвращении оказывается не в той спальне? Вот тут, герр граф, вы совершенно ошибаетесь. Это не та история, в которую попал мой отец невесть сколько лет тому назад, и было бы воистину невероятным совпадением, попади он все-таки в нее.
Далее Пфитц рассказал, как его отец Ганс был настолько утомлен длительным переходом, что уснул буквально в то же мгновение, как опустился на жесткий холодный пол. Через какое-то время он проснулся от дикого грохота. Пока до смерти напуганный Ганс соображал, в чем тут дело, грохот повторился, дом заходил ходуном и озарился вспышкой – где-то снаружи стреляли из пушек. Как выяснилось позднее, расположившийся на ночевку полк подвергся нападению вражеских солдат, не знавших, по-видимому, что до начала битвы остаются еще сутки с лишним, да и произойдет она не в этой безвестной деревушке, а под Брюнневальдом. Солдат этих было раз-два и обчелся, однако они бесчестнейшим образом и в вопиющем противоречии с международными законами застали соратников Ганса врасплох, спящими, а потому повергли их в полное смятение. Вскоре один из сараев уже пылал, выскочившие из него солдаты беспорядочно метались, исполненные уверенности, что на них напала не иначе как целая армия. Ганс благоразумно остался в доме; дрожа от страха и холода, он наблюдал за этими кошмарными событиями через щелку между занавесками. Ничего не понимающие солдаты палили в своих же товарищей, что еще больше усиливало сумятицу. В конечном итоге полк разгромил сам себя наголову и поверг свои жалкие остатки в паническое бегство – уцелевшие солдаты попрятались по окрестным лесам, да так там и сгинули.
Ганс впервые стал непосредственным свидетелем военных действий и, как нетрудно понять, не очень вдохновился увиденным. Мало-помалу грохот самоубийственного сражения (оно продолжалось около получаса) стих, оставив после себя кисловатый запах пороха и жуткую, какую-то нереальную тишину. За все это время полковник так и не появился; по некотором размышлении Ганс решил посмотреть, что это там с ним. Он подошел к лестнице и прислушался, но сверху не доносилось ни звука. Тогда он начал осторожно, не зажигая света, подниматься наверх. Он допускал даже самое худшее: вдруг страшные враги, столь быстро и безжалостно разгромившие его полк, успели уже захватить этот крестьянский дом и теперь в каждой комнате, в каждом углу, притаились кровожадные, до зубов вооруженные солдаты?
Ступенька за ступенькой преодолев лестницу, Ганс увидел три двери. Он подкрался к ближайшей из них, прислушался, ничего не услышал и потянул за ручку. В комнате не было никого, только пустая кровать, сброшенное на пол одеяло и стул, на котором лежала аккуратно свернутая шинель полковника. Ганс вышел в коридор и приложил ухо ко второй, столь же массивной, как и первая, двери. На этот раз он различил еле слышный ритмичный звук, похожий на поскрипывание ворот, раскачиваемых туда-сюда легким ветерком. Он заглянул внутрь и увидел хозяйку дома; глухая старуха крепко спала, лежа на спине и тихо похрапывая. Непроверенной оставалась только одна, третья дверь. Ганс подошел к ней, дрожа от нелегких предчувствий. Полковник и Лиза так и оставались необнаруженными; если они живы, то находятся там, за этой дверью. Но если враги успели проникнуть в дом – какая сцена может открыться его глазам?
ГРАФ. И ты продолжаешь утверждать, что все это не имеет ни малейшего отношения к событиям прошлой ночи? Полковник покинул свою комнату и перебрался в Лизину. Ну и что же ты намерен рассказать мне дальше? Что Лиза ушла куда-то там еще?
ПФИТЦ. А что, прошлой ночью так оно и было?
ГРАФ. Ты прекрасно знаешь, как все было прошлой ночью. Я встал, чтобы облегчиться…
ПФИТЦ. А ночной вазы там не было?
ГРАФ. Не было и в помине. Кошмарное упущение, соответствующее общей обстановке в этом убогом трактире. Поэтому я отправился на поиски уборной.
ПФИТЦ. А не найдя таковой, решили вернуться в свою комнату.
ГРАФ. Да, как я и говорил тебе ранее.
ПФИТЦ. А вам что, уже не хотелось больше облегчиться?
ГРАФ. Потребность как-то притупилась. Мне уже хотелось одного – снова лечь и уснуть. Однако в темноте и неразберихе, будучи незнакомым с расположением комнат…
ПФИТЦ. Вы попали не в ту, в какую надо, и не осознавали этого до того момента, когда обнаружили, что в кровати есть, кроме вас, кто-то еще. Ошибка легко объяснимая и вполне простительная. Но позвольте мне закончить историю злоключений моего отца.
Ганс подошел к последней двери и прислушался. Ни звука. В конце концов Ганс решился: он начал осторожно поворачивать ручку, а когда услышал легкий щелчок высвободившегося язычка, медленно, со страхом приоткрыл дверь. Сквозь медленно расширяющуюся щель его глазам предстало ужасающее зрелище: полковник (вернее труп полковника) лежал на полу лицом вверх; из его груди, прямо вверх, торчала его собственная шпага. Лиза сидела на краю своей кровати, ее руки и ночная рубашка были обильно измазаны кровью. Эта картина не нуждалась в пояснениях – смысл произошедшего был ясен без слов. Защищая себя от поползновений полковника, Лиза была вынуждена повернуть против него его собственное оружие.
ГРАФ. Да никак ты вознамерился убить меня в этой своей байке? Это попахивает предательством.
ПФИТЦ. Но это же отнюдь не ваша история, но история моего отца. Будь это ваша история, все могло бы повернуться совсем иначе. Когда Ганс открывал эту дверь, что бы вы ожидали там увидеть? Полковника в объятиях Лизы? Или вы предпочли бы, чтобы полковник лежал на этой кровати один, спал без задних ног, а оказавшаяся лунатичкой Лиза разгуливала бы где-нибудь по крыше? Или вы ожидали увидеть Лизу одну, а полковник вышел бы, со все тем же намерением облегчиться, во двор, оказался бы в самой гуще завязавшегося вскоре сражения и продемонстрировал в нем чудеса доблести?








