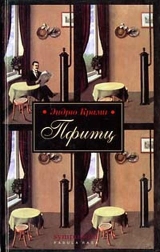
Текст книги "Пфитц"
Автор книги: Эндрю Крами
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Эндрю Крами
Пфитц
Мэри и Питеру
Глава 1
Двести лет тому назад некий князь записал свое имя на скрижали истории способом, весьма необычным даже по меркам того времени. Кто-то блистал на полях сражений, кто-то возводил храмы и монументы либо издавал мудрые законы, наш же князь посвятил всю свою жизнь строительству призрачных городов.
Все началось с Маргаретенбурга. Драгоценнейший плод юношеских его трудов, крик разбитого горем сердца, этот город был создан и назван в честь женщины, с которой он был обручен, пока их не разлучила оспа. Идея грандиозного мемориала возникла у князя еще тогда, когда невеста его лежала на смертном ложе; через шесть месяцев после ее кончины идея превратилась в проект. Топографический план будущего города отличался высочайшим геометрическим совершенством (реакция князя на бессмысленную жестокость судьбы), а работы архитекторов, победивших на объявленном конкурсе, поражали красотой и великолепием. Каждая улица и каждое здание, каждый парк и фонтан увековечивали в своих названиях память безвременно угасшей девушки.
Для более детальной проработки задуманного города князь заказал дополнительный комплект чертежей, которые должны были показывать отдельные районы и участки в более крупном масштабе, а также гравюры с изображением всех намеченных к постройке зданий. Чтобы нарисовать город в целом, как он будет виден с окрестных холмов (нанесение их на карту было препоручено особой секции Картографического отдела), со всех концов Европы были собраны лучшие художники-пейзажисты. К концу этой, второй стадии (каковая заняла около восемнадцати месяцев) князь почувствовал, что теперь он знаком с Маргаретенбургом значительно лучше, он мог уже мысленно бродить по его улицам и площадям, а затем обсуждать свои прогулки с придворными. Но все равно многое оставалось неясным, князь же не мог и помыслить о материальном воплощении своего грандиозного проекта, пока его омрачает тень хоть малейшей неопределенности. Как, к примеру, будут пахнуть сады? (Был организован садово-парковый комитет.) Какое влияние окажет дым от домовых печей на воздух в королевском дворце? (Была собрана команда выдающихся ученых.)
Этот период проработок и консультаций затянулся еще на три года. Память об утраченной Маргарите все так же сжимала сердце князя, и его решимость продолжать создание мемориального города ничуть не уменьшилась, однако расходы на проектирование настолько опустошили княжескую казну, что появлялись сомнения, хватит ли оставшихся в ней денег на начало реального строительства.
А неопределенности все равно оставались, и в ужасающих количествах. Был составлен подробный, с планами и чертежами, каталог всех улиц, имелись изображения внешнего и внутреннего вида всех главнейших зданий, однако представления об их обстановке оставались более чем туманными. Все дороги были поименованы и аккуратно обсажены деревьями и кустами – но куда и как будут убираться опадающие осенью листья? А когда зарядят дожди – можно ли быть до конца уверенным в эффективности дренажной системы? Несмотря на огромность проделанной работы, город все еще оставался смутным, неясным; желаемой уверенности, что он войдет в мир точно по плану, так и не возникло.
Князь долго над этим размышлял и принял в конце концов решение. Маргаретенбург останется мечтой, концептуальным городом, состоящим не из улиц и домов, но из чертежей и рисунков. Это будет город идей, мемориал более долговечный, чем любые нагромождения камня, ибо одни лишь идеи могут надеяться на бессмертие. Всю совокупность изображений и описаний великого города поместили в мавзолей Маргариты, после чего князь объявил о снятии траура.
Так он завершил свою первую работу. После трагического события, давшего ему начальный импульс, прошло уже почти пять лет; закрывая эту главу своей жизни, князь ощущал если не удовлетворение, то хотя бы облегчение – с его плеч спало тяжелое бремя долгой скорби. В будущем, озираясь назад, он увидит в некоторых аспектах Маргаретенбурга явственные признаки юношеской порывистости, даже незрелости. Смешение стилей порождало разноголосицу, диссонансы (наложение, к примеру, вычурной лепнины на строгие классические линии Лишицкого дворца). А строго радиальная планировка была, конечно же, пустоватой причудой и как таковая никогда им более не повторялась. Но при всем при том в первом творении князя уже угадывались черты неукротимой, бьющей через край оригинальности, которую принято называть гением. И если порывы его вдохновения все еще были несколько судорожными, нерегулярными, это следует отнести на счет недостатка практики и мастерства, единственный путь к которому – долгая цепь проб и ошибок. Все это придет позднее.
Князь вернулся к государственным делам. Он женился и стал отцом троих детей; постепенно складывалось впечатление, что эпизод с Маргаретенбургом был всего лишь одним из безумств молодости. Однако на этой, средней стадии его жизненного пути возникли еще три концептуальных города.
На его счету уже был город-мемориал; следующим стал город-каприз. Вскоре после рождения второго своего ребенка князь начал ощущать меланхолию и неудовлетворенность жизнью; это проявилось в том, что он утратил интерес к жене и увлекся одной из придворных дам. В его мечтах вставал город, где он мог бы полностью и без помех предаться своим страстям. Князь снова собрал команду архитекторов и картографов и лично возглавил проектирование Герцхена. На этот раз дело продвигалось значительно быстрее – был задуман город, имевший в своей основе не добропорядочность трудолюбивых жителей (как то было в случае Маргаретенбурга), но безоглядную погоню за удовольствиями. В центре города располагался огромный парк, устроенный по образу карты мира. Его отдельные участки были материками наслаждений – Америка, где редкостные экзотические птицы чаровали слух восхитительным пением, Азия, где в сказочной стеклянной пагоде подавали утонченнейшие восточные сласти, Африка, где располагался великолепный зверинец, и Европа, где просторы правильных, четко разбитых лужаек непрерывно оглашались сладкими звуками музыки, исполняемой множеством оркестров. Прочие части города, окружавшие сей вертоград гедонизма, представляли собой заурядную зону отдыха; на карте желтые улицы и здания, располагавшиеся вокруг обширного зеленого центра, напоминали неких паразитов, присосавшихся к огромному летаргическому животному.
Герцхен был не более чем изящной безделушкой, однако он стал важной вехой на жизненном пути князя как Творца Городов. Теперь в его работе появилась уверенность, особенно заметная в сравнении с нерешительными колебаниями, постоянно сопровождавшими создание Маргаретенбурга. Когда проект был завершен, князь запер альбомы карт и гравюр в большой ларец (специально для того изготовленный) и начисто выкинул Герцхен из головы – как и юную даму, бывшую для него источником вдохновения.
В этот срединный, блистательный период князь дал жизнь еще двум городам. Помония, город-празднество, создавалась в честь битвы, в каковой сражался бы и одержал бы победу его двенадцатилетний сын, происходи в это время война. Гравюры, изображавшие этот город прекрасных статуй, величественных арок и строгих, благородных казарм, снискали всеевропейскую славу, так что теперь уникальное творческое воображение князя стало в кругах просвещенных и возвышенных предметом постоянного обсуждения. Вдохновленный этой новообретенной известностью, он взялся за Шпеллензее, город развлечений. Задуманный как колоритное поселение на берегу живописного озера, город должен был иметь главным источником своих доходов тысячи посетителей, приезжающих со всех уголков континента, чтобы купаться в чистых озерных водах, а также посещать многочисленные театры, концертные залы и художественные галереи. Все было сделано в соответствии с новейшими вкусами – самые модные живописцы изготовили по заказу князя гравюры с полотен, которые они представят в художественные галереи, точно так же композиторы и либреттисты написали по его заказу оперы. В городе было множество кофеен (только-только начинавших тогда приобретать популярность).
И все это обернулось сущим бедствием. Торговля богато иллюстрированными путеводителями по Шпеллензее покрывала лишь ничтожную часть стоимости проекта, так что четыре года работы над ним привели казначейство на грань банкротства. Никогда впредь не станет князь пренебрегать своим непогрешимым художественным чутьем в угоду крикливой толпе, чей интерес угасает столь же быстро, сколь и разгорается. Шпеллензее стал для него предметом отвращения – неудачная, незавершенная работа, все материалы по которой были уничтожены в приступе гнева. Князь объявил, что отныне и навсегда прекращает создание городов.
И все же годы спустя он возьмется за то, что станет величайшим изо всех его творений. Князю шел уже шестой десяток, он имел полное право гордиться своими успехами и мог быть уверен, что потомки не забудут его имя. Но все это не приносило удовлетворения. Рана, нанесенная неудачей со Шпеллензее, все еще саднила, а ведь были прежде и Помония, и Герцхен, и превыше всего – Маргаретенбург, его первая и (при всех очевидных огрехах) лучшая работа, лучшая, потому что она шла от сердца. А потом – князь видел это с ужасающей ясностью – его творческий путь пошел под уклон, постепенно превратился в пустое разбазаривание таланта, дарованного ему судьбой. Он создавал работы, получавшие признание, но не имевшие непреходящего значения.
Князь надолго погрузился в черную меланхолию. Он забросил государственные дела и семью, предпочитая им общение с чертежами и рисунками своего первого города, извлеченными по его приказанию из мавзолея.
После долгих недель исследований и одиноких раздумий князь нашел наконец предмет, достойный его усилий, – свершение, которое не только оправдает все его прежние труды, но и блистательно их увенчает. Маргаретенбург прямо выводил его на верный путь, но тогда, в прошлом, он сознательно закрыл глаза на эти указания, погнался за суетным, преходящим и ничтожным. Он растратил лучшие годы своей жизни на города наслаждений, пустопорожних празднеств и легковесных развлечений. Теперь он возьмется за проект, не уступающий Маргаретенбургу в благородстве высокой цели, но на этот раз никто его не остановит, ничто не заставит его поступиться своими идеалами, – завершить поставленную задачу невозможно по самой ее природе, но он будет работать над ней сколько продлится его жизнь и позволит здоровье.
Он спроектирует город-энциклопедию, город, объемлющий всю совокупность человеческих познаний на их современном уровне. В его центре не будет ни королевских дворцов, ни садов наслаждения, ни увеселительных заведений. Вместо всего этого там будут выситься Музей и Библиотека, превосходящие все, что существовало или хотя бы мыслилось ранее. Одного уже этого достаточно, чтобы занять его до скончания жизни, но там, в великом городе его воображения, будет и много другого.
Для начала князь собрал совершенно новую команду проектировщиков, архитекторов, картографов и граверов. Он отдавал преимущество людям молодым и восприимчивым, людям, не дрожащим за свою репутацию, а потому готовых двигаться к цели, как бы ни пролегла ведущая к ней дорога, куда бы она их ни привела. Ни одна идея не будет отвергнута как дикая и смехотворная, все будет подвергаться равно тщательному исследованию и обсуждению. И этот город, в отличие ото всех прочих, будет спланирован до последней, мельчайшей детали, ничто не останется незавершенным. Предстояли колоссальные расходы, но и это было принято во внимание. Само Государство – всеми своими средствами и всей рабочей силой – сосредоточится на том единственном труде, который обеспечит каждому из его граждан вечную память благодарных потомков. Их убогий, будничный город (маленький, несовершенный и незначительный) пожрет самого себя, дабы породить другой – идеальный топографически, гармоничный социально и, если оставаться в пределах хранящихся в нем знаний, принципиально не способный к расширению.
Было продано все, на что нашелся покупатель. Двор был распущен, все придворные были приставлены к проектированию. Вне рамок проекта остались лишь те из подданных, чьи занятия были абсолютно необходимы для поддержания благоденствия, а значит, и для выполнения княжеского плана. Был объявлен конкурс на название города; его выиграл некий профессор филологии, предложивший (по причинам, занимающим большую часть первого тома Вводных Замечаний к Городу) поименовать его Ррайннштадт.
Прокладка улиц и проектирование зданий были лишь малой, простейшей частью грандиозного предприятия. Нужно было спланировать и изобразить не только внешний вид каждого строения, большого и малого, но и их внутренний вид, их обстановку и, что самое важное, всех их обитателей – предстояло сочинить их биографии, их письма, записки и мемуары (взаимосогласованные и снабженные системой перекрестных ссылок, для чего требовалось неослабное внимание и масса кропотливейшего труда). Требовалось написать картины для размещения в галереях и музыкальные пиесы для исполнения в концертных залах (не пустышки, как то было в случае Шпеллензее, но творения глубокие и прекрасные), а также анализ и комментарии как к этим работам, так и к биографиям их авторов. Отделу, вычислявшему погоду в Ррайннштадте – характер облачности, периоды холодные и теплые, ясные и дождливые, – предстояло совершить настоящий переворот в метеорологии. Но важнее всего было планирование Музея и Библиотеки, а также их не известного еще человеку содержимого.
Этот наиглавнейший элемент предприятия был с самого начала окутан завесой секретности и – как следствие – домыслами. Даже те, кто работал в Музейном отделе, знали о тех его разделах, с которыми не были непосредственно связаны, не больше любого постороннего. Живо обсуждался вопрос, способен ли сам князь досконально проследить за ростом своего детища.
С другой стороны, внешний вид Музея был всем и хорошо известен – великолепное здание с окнами на просторную площадь. Его внутренняя организация также была известна любому, кто взял на себя труд изучить общедоступные планы – множество чертежей, где указывалось размещение стеллажей, шкафов и застекленных стендов. Одно крыло Музея отводилось миру природному, другое – гуманитарному. Аналогичным образом делилось и каждое из крыльев: природный мир распадался на животный и растительный, животный – на летающий, плавающий и пресмыкающийся, пресмыкающийся – на имеющий ноги и безногий, и так далее по непрерывно ветвящейся классификационной иерархии. Таким образом, каждое существо обретало свое логическое место в стеклянном ящике, установленном в соответствующем отделе (законно было предположить, что там будет много пустых ящиков, ждущих открытия существа, попадающего в тот или иной классификационный разряд – четвероногой птицы, если брать простейший из примеров, или пернатой рыбы). Мир гуманитарный был разбит в соответствии с исходной классификацией, основанной на пяти чувствах и трех способностях (память, рассудок и воображение), так что картины, к примеру, должны были размещаться на скрещении двух прекрасных лестниц, одна из которых вела в Фойе Зрения, другая же – в Зал Воображения (по коридору, проходящему через Отдел Ремесел, расположенный прямо над Холлом Осязания). В свою очередь путь к Истории пролегал через сводчатую Галерею Памяти, великолепный (сплошь мрамор и бронза) интерьер которой был запечатлен в серии превосходных гравюр. Взаимосвязанность и взаимозависимость человеческих познаний и достижений как в зеркале отражались в сложности внутренней архитектуры Музея, схожего и сравнивавшегося с губкой, кристаллом и живым, испещренным прожилками листом. Сеть переходов и коридоров непрерывно разрасталась, что вело к бессчетным переделкам чертежей и рисунков, происходившим по мере того, как из Музейного отдела поступали таинственные указания проложить, к примеру, прямой путь из Зальца Забытых искусств в Палату Религии или от Мезонина Честолюбия к Алькову Сметливости. Что означают или предполагают все эти переходы, знал лишь тот, кто был причастен к глубочайшим тайнам воображаемых смотрителей Музея, остальным же оставалось строить догадки.
Что же касается Библиотеки (соединенной со своим соседом системой переходов, сложность которой превышала все возможности символического представления), здесь скрывались тайны едва ли не бóльшие. Была использована та же классификационная система, что и в Музее, – два этих здания зеркально повторяли друг друга (красота этой симметрии особенно заметна на гравюрах, изображающих их фасады). Каждому объекту в Музее соответствовала (по слухам) книга (или несколько книг) в Библиотеке. Но там было и множество книг, не связанных ни с одним из экспонатов (к примеру – естественная история единорогов или геометрия круглых квадратов). Тот факт, что книг подобного рода насчитывалось значительно больше, чем тех, в которых каталогизировались экспонаты Музея, означал, что общая площадь Библиотеки в точности совпадала – несмотря на плотность расстановки стеллажей – с площадью соседа (это же, в свою очередь, обеспечивало сохранение симметрии [1]1
Отсылка к строчкам из «Охоты на Снарка» Л. Кэрролла: «Но одно непременно имейте в виду: / Не нарушить симметрию в целом» (Вопль 5, перевод Г. Кружкова).
[Закрыть], коя была сочтена столь желательной членами первоначальной бригады архитекторов).
В итоге получалось (получалось бы) идеально уравновешенное здание, где нашло бы себе место все, что смог когда-либо придумать или понять мозг человека. Симметричный комплекс из двух половин, связанных коридорами и переходами, дающими возможность перемещать знания и переклассифицировать, анализировать и синтезировать, не покидая его богато изукрашенного чрева. Создавался некий мозг из мрамора, дерева и стекла, чей мыслительный процесс должен был осуществляться не течением живых гуморов [2]2
По средневековым представлениям гуморы – «жизненные соки» (кровь, флегия, желчь, черная желчь), взаимодействие которых определяет всю жизнь человека.
[Закрыть], но бесконечными странствиями его смотрителей, служителей и посетителей. Так что Ррайннштадту предстояло стать не только лишь городом-энциклопедией, но и городом-организмом; его центральная, мозгоподобная структура соединялась сетью прекрасных дорог со сторожевыми башнями на городских стенах и с обсерваторией, устроенной на одном из окрестных холмов. Более того, этот организм будет наделен самосознанием – ибо разве не будут все эти карты и чертежи, эти гравюры и биографии храниться в одном из отделов Библиотеки? Разве не будет Музей содержать самого себя как важнейший из своих экспонатов?
Головокружительный замысел, могший возникнуть у одного лишь нашего благородного князя. Это была работа его жизни, равно как и работа жизни всех его подданных, неустанно продвигавшихся к грандиозной цели, поставленной перед ними правителем. Их собственные жилища разваливались от небрежения, разбитые дороги не ремонтировались, пища становилась редкостью – чего не скажешь о бумаге и чернилах (запасы этих наидрагоценнейших материалов постоянно поддерживались и пополнялись). Голод и эпидемии стояли у порога, но их угроза не страшила подданных князя, потому что их конечной, высокой наградой должен был стать величественный Кенотаф, возведенный на центральной площади напротив Музея и Библиотеки. На Кенотафе будут высечены имена князя (сверху) и всех его подданных, снизу же будет надпись:
«В память о тех, кто отдал все, чтобы Ррайннштадт жил вечно».
Глава 2
Картограф Шенк работал по Ррайннштадту уже десять лет, с самых первых дней проекта. Собственно говоря, сперва его взяли в Бухгалтерскую контору калькулировать заработки некоторых из воображаемых жителей города, но вскоре было замечено, что у бухгалтера Шенка прекрасный почерк, и его перевели в Картографический отдел.
Умение красиво писать и аккуратно копировать было едва ли не важнейшим для его новой работы. Поскольку объектом исследований являлся город, не существовавший иначе как на бумаге, картографу не было нужды заниматься полевыми изысканиями. Ему не приходилось мокнуть под дождем, не приходилось с муками устанавливать теодолит, когда ветер все время сносит нить отвеса. Поле его изысканий ограничивалось картами, главной же их целью была полная согласованность со всем, сделанным прежде, – не только с обычными картами, показывавшими современное положение улиц и зданий, но и с другими, отмечавшими высоту над уровнем моря, и еще другими, показывавшими, какие здания и в какой последовательности стояли когда-то на данном месте (ибо к этому времени Ррайннштадт уже обзавелся собственной историей, стал самостоятельной сущностью, способной к видоизменению и развитию). На стеллажах Картографического отдела имелись карты масштаба настолько крупного, что на них умещалась одна-единственная комната какого-либо дома, или даже малая часть комнаты (во всех наимельчайших подробностях: контуры серебряной тарелки, чашка на столе, координаты и ориентация турецкого ковра, застилающего пол). Были карты (на тончайшей рисовой бумаге) поперечных сечений города на различных последовательных высотах (сложенные стопкой они создавали трехмерную картину), и были карты, дававшие не только пространственные координаты, но и временнЫе – схемы местонахождения отдельных горожан в конкретные дни и часы (горожан, чьи поступки на тот же самый момент описывались Биографическим отделом).
Десять лет кряду Шенк жил и работал в окружении подобных документов. В обеденный перерыв он ел не за столом, а положив на колени атлас, его сны были пронизаны драгоценными нитями широты и долготы, да и вся вселенная превратилась для Шенка в огромную карту с богатейшим словарем контуров и условных обозначений, в текст абсолютно самодостаточный и замкнутый, безукоризненно самосогласованный и все же бесконечно загадочный. Он представлял себе свое прошлое и будущее как постепенное движение по капризной, неровной поверхности карты, составленной в момент его рождения и предначертавшей его судьбу во всех подробностях.
Однажды Шенку поручили отнести несколько карт наверх, в Биографический отдел. Отдел этот занимал большую, с высокими потолками комнату, опоясанную галереей со стеллажами, среди которых неустанно циркулировали биографы, порождавшие обитателей Ррайннштадта. Здесь возникала из небытия новая жизнь – воспоминания, мечты, размышления. Работа биографов имела неоценимое значение (о чем сами они постоянно напоминали всем прочим), и когда Шенк нашел на галерее нужного человека, тот сухо поблагодарил его и тут же отпустил, словно простого слугу.
Пробираясь по галерее к выходу, Шенк скользнул взглядом по правильным рядам биографов, сидевших внизу за своими столами. Плотную, почти осязаемую тишину нарушал только скрип перьев да шорох переворачиваемых страниц. Приходя на работу, биографы даже надевали поверх обуви матерчатые боты, чтобы не отвлекать своих коллег звуками шагов, когда возникала необходимость пойти и поискать какой-нибудь документ.
И тут он увидел ее и застыл пораженный.
Она была в зеленом. У нее были рыжие волосы и бледная кожа с изящной прорисью сиреневых вен, отмечавших самые тонкие участки – то, например, место, где кожа обтягивает острый выступ ключицы. Именно это место и разглядывал сейчас картограф. Девушка что-то писала, низко склонившись над столом, а он разглядывал издалека этот кусочек туго натянутой кожи и тонкие вены, ветвящиеся, как дороги или реки – на карте. По мере того как взгляд его скользил от этих стылых просторов к югу, к теплому обещанию высокогорных областей, кожа плотнела и становилась немного темнее.
Если она наклонится чуть сильнее или просто изменит позу, он увидит больше. Откроются новые контуры, новые участки манящей местности. Когда-нибудь он мысленно сравнит то, что увидел сейчас, с материалами позднейших, более подробных изысканий. Шенк понимал, что задание он выполнил, делать ему тут больше нечего, а значит, надо уходить. Но никто не обращал на него внимания (они, из Биографического, всегда так). И он был очарован увиденным: удивительным соцветием рыжих волос, белой шеи и зеленого платья. Эта бледная кожа вызывала в его памяти карту арктических областей земли. Если она чуть сильнее склонится к своей работе, он – может быть – увидит чуть большую часть ее груди. Эта надежда, слегка приправленная страхом, не давала ему отвести глаза. Он застыл на месте, во рту у него пересохло, острое, граничащее с ужасом возбуждение скрутило его желудок в тугой комок.
Так на карте Шенковой жизни появился новый объект, снегом увенчанное видение возвышенной красоты. Сейсмические волны, порожденные этим толчком, раскатятся до самых дальних пределов его существования; до дней последних останутся с ним эти кряжи полузабытых снов, каньоны искаженной памяти, нежданно приходящие и также нежданно исчезающие. Куда бы он теперь ни свернул на карте своей жизни, куда бы он ни кинул взгляд, на каждом пейзаже будет ее отпечаток, подобный ямке, остающейся на подушке, когда поднимешь голову.
В конце концов она наклонилась, уже почувствовав, он был в этом уверен, что за ней наблюдают. Наклонилась, уступая его желанию произвести мгновенную картографическую съемку ее тела. Нет, не уступая – снисходя. С этим движением все изменилось – вся подвижная топография кожи и плоти, все высоты рельефа. Ее груди чуть приподнялись, опали, качнулись вперед, словно в подношении (лишь на мгновение!). Волнующее(ся) воспоминание. Он будет думать об этом потом, работая над картами, а сейчас в его мозгу образовался вопрос: что нужно сделать, чтобы продлить это наслаждение, повторить его? Что нужно сделать, чтобы сблизиться с этой неизвестной, столь живо заинтересовавшей его женщиной?
Она подняла голову, обвела глазами галерею, и он увидел ее лицо во всей его красе. Он почувствовал, что обнаружен, и в то же мгновение по лицу ее скользнуло выражение спокойного торжества. Картограф смущенно потупился; теперь ему оставалось одно – уйти. Но если спуститься с галереи по самой дальней винтовой лестнице, можно будет избрать путь отхода, пролегающий мимо ее стола. Спускаясь по ступенькам, он внутренне готовился к предстоящей встрече, к краткой близости (возможно, он даже чуть заденет ее, проходя мимо, или заметит в каком-нибудь непроизвольном ее движении признаки соучастия, благожелательности, обещание других подобных встреч, да мало ли что может случиться). Он приближался к предмету своего восхищения опустив голову, а затем устремил глаза прямо вперед, на дверь, вглядываясь периферийным зрением в прекрасную, загадочную фигуру. И наконец он шел мимо нее, дышал одним с ней воздухом. Набравшись смелости, он взглянул сверху на ее волосы, шею, на разложенные по столу документы. Исчезающе малый промежуток времени, а ведь ему хотелось узнать, впитать как можно больше, обрести как можно больше знания среди покалывающих его осколков восторга. Однако, скользя взглядом по лежавшей перед нею бумаге, он успел прочесть одно лишь имя, написанное аккуратными синими буквами. ГРАФ ЗЕЛНЕК. Он дошел, не замедляя шага, до двери, прикрыл ее за собой и начал спускаться в Картографический отдел, лелея в памяти это имя, слово, беззвучное повторение которого ощущалось на губах почти как поцелуй. Это был ключ, позволявший ему проникнуть хоть в малый закоулок ее жизни, клочок общей почвы, исследование которого может стать первым шагом к другому, великому и столь желанному акту познания.
Граф Зелнек, кто это может быть такой? Если Шенк сумеет что-нибудь про него узнать, это сразу приблизит его к благоуханной сфере, войти в которую было пределом его мечтаний. Имя казалось смутно знакомым, но это знакомство может быть и иллюзорным – как чувство, сжавшее его сердце при первом взгляде на женщину из Биографического отдела, как эта глубочайшая убежденность, что он знал ее прежде, в какой-то иной жизни, знал очень близко, хотя все связанное с этим знакомством бесследно изгладилось из его памяти. Вот так же и граф; едва возникнув из безвестности, он сразу стал чем-то вроде старого друга, общего с ней – и тем драгоценного – знакомого. Шенк хотел разузнать о нем как можно больше – или хоть что-нибудь. Он решил обратиться к картам.
Вскоре выяснилось, что граф не живет в Ррайннштадте, а значит, принадлежит к числу тех посетителей города, чья особая важность (из-за высокого статуса либо из-за тесных связей с горожанами) заставляла биографов уделять им достаточно серьезное внимание. Шенк обратился к разделу Топографического указателя, озаглавленному «Местонахождение временно проживающих и путешествующих».
Дело оказалось далеко не простым. Данный раздел (четыре толстых тома) содержал огромное множество карт, на которых были указаны (наряду с прочими данными) координаты всех иногородних в различные моменты времени за период, охватывавший несколько лет. Найти в этой разношерстной толпе одного конкретного человека было задачей почти невозможной, требовались какие-нибудь дополнительные данные относительно его предполагаемого местонахождения.
Но судьба благоволила картографу. Не прошло и часа, как он наткнулся в Главном хранилище карт на Грубера, который искал там дорожный план с данными по транспортному движению на период Празднества Лебедя, ежегодно привлекавшего в Ррайннштадт массу гостей изо всех уголков страны. Услышав, что розыски проводятся по заказу Биографического отдела, Шенк сразу ухватился за представлявшуюся возможность еще раз посетить это возвышенное – как в переносном смысле, так и в буквальном – место, где таились столь неоценимые сокровища.
– Спасибо за предложение, – ухмыльнулся Грубер, – но я уж как-нибудь сам. Запрос поступил от очень такой симпатичной штучки.
Шенк вспыхнул радостным возбуждением; даже отдаленная возможность, что разговор идет о женщине, занимавшей все его мысли, вызвала ее образ с такой яркостью, словно она сама вошла в комнату. Но одновременно у него возникли ревнивые опасения, что Грубер может обойти его в гонке к этой желанной цели. А с другой стороны – мало ли в Биографическом отделе сотрудниц?
– А какая это? – спросил он. – Как она выглядит?
– Рыжая. Как раз в моем вкусе.
Требовались быстрые, решительные действия. Он никак не мог задержать Грубера, но мог хотя бы получить от него как можно больше сведений – не выказывая, конечно же, излишней заинтересованности.
– Давай я тебе помогу. Что там ей нужно?
Грубер назвал день и год, а затем объяснил, что жизнеописательница планирует поездку графа Зелнека из его поместья в Ррайннштадт и хотела бы проложить маршрут, минуя дороги, наиболее забитые крестьянами и бродягами.
– А вот и она, – сказал Грубер, обнаруживший наконец нужную карту. Затем он пригладил волосы пятерней, поправил галстук, сунул альбом под мышку и направился к выходу. – Счастливо оставаться.








