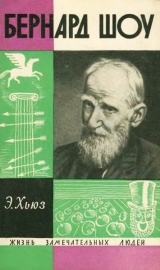
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Эмрис Хьюз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Глава 22
Король, архиепископ и дама. Ирландец и верноподданнические спичи. «Зрелище не для таких, как я…»
Хотя критика считала, что дни его драматургического расцвета были уже позади, Шоу продолжал живо интересоваться всем происходившим в мире и всегда готов был высказать свое мнение по вопросу, который, на его взгляд, заслуживал внимания. А таких вопросов он находил много. Теперь» когда Шоу был признан одним из выдающихся умов, распространенное раньше в Англии враждебное отношение к нему тоже мало-помалу исчезло: он стал чем-то вроде национальной достопримечательности, наподобие Тауэра, Стратфорда или Британского музея Когда бы ни звонили ему редакторы газет, у него всегда находилось для них наготове что-нибудь остроумное и пригодное для ссылки на авторитет мудреца и острослова.
В 1935 году король Эдуард VIII отрекся от престола, так как настаивал на своем браке с разведенной американкой миссис Симпсон, что противоречило желаниям премьер-министра, архиепископа Кентерберийского и церкви.
Выступление Шоу по этому спорному вопросу было облечено в форму диалога между главными участниками спора. Диалог был напечатан в лондонской «Ивнинг стэндэрд» под заголовком «Король, конституция и дама», и ему было предпослано небольшое вступление, кратко характеризующее положение в Англии, или, как назвал ее Шоу, «Королевстве полусумасшедших».
«Новый король, – писал Шоу, – хотя и достиг сорокалетнего возраста, был еще не женат; и теперь, став королем, он решил строить свою судьбу и, подав добрый пример своему народу, стать, наконец, семейным человеком. Ему нужна была женщина нежная, сочувствующая, и он нашел особу, обладающую как раз этими качествами. Ее звали, насколько я могу припомнить, миссис Дэйзи Белл; она была американка и уже дважды состояла в браке, а потому должна была стать отличной женой нашему королю, который не состоял в браке еще ни разу. Все это казалось вполне естественным, но в этой стране полусумасшедших никогда нельзя рассчитывать, что все обойдется мирно. Например, правительство здесь может спокойно допустить, чтобы целые районы страны впали в нищету и разорение, и при этом оно даже пальцем не пошевелит; но зато потом оно вдруг объявит светопреставление только из-за того, что какой-то там иностранный диктатор заявил без особых околичностей, что, мол, на дуврской дороге установлены верстовые столбы. Так что король вовсе не удивился, когда в один прекрасный день ему вдруг заявили, что явились архиепископ с премьер-министром и настаивают, чтобы он принял их немедленно. Король, который провел все утро с миссис Белл, находился в добром расположении духа, принял их и предложил им коктейль и сигары. Однако они не только весьма резко выразили отказ от угощения, но и проявили при этом столь явные знаки острого душевного смятения, что король был принужден спросить их с некоторой тревогой, в чем же все-таки дело.
Дальнейшее может быть изложено в форме диалога:
Премьер-министр.И вы еще можете спрашивать, сэр? Газеты просто заполнены этим. Нас не избавили даже от фотографий ее собачонки. Что ваше величество собирается предпринять в этой связи?
Король.Ничего сверхъестественного; в мае меня коронуют; а в апреле я женюсь на Дэйзи.
Премьер-министр (почти кричит). Это невозможно! Это безумие!
Архиепископ (чей приученный к кафедре голос является высшим достижением клерикального искусства). Это исключено. Вы не можете жениться на этой женщине.
Король.Я предпочел бы, чтоб вы называли ее миссис Белл. Или Дэйзи, если вам больше нравится.
Архиепископ.Если бы мне пришлось участвовать в церемонии вашего предполагаемого бракосочетания, то мне пришлось бы говорить о ней именно как об «этой женщине». И то, что подошло бы ей в доме божием, подойдет и здесь. Однако я откажусь участвовать в этой церемонии.
Премьер-министр (кричит). А я подам в отставку!
Король.Какой ужас! Не будет ли с моей стороны жестоким напомнить вам, что найдутся другие? Сэнди Маклосси в любую минуту сформирует для меня Королевскую партию. Народ на моей стороне. В любом случае вам придется подать в отставку задолго до коронации.
Архиепископ.Ваши насмешки не могут меня затронуть. Церковь откажется освятить ваш противоречащий конституции брак».
Здесь королю приходится обратиться к прецедентам и при этом напомнить архиепископу, что тот вовсе не является пастырем всех душ на территории обширной Британской империи.
«Мне приходится считаться с 495 миллионами – ну пусть с 500 – моих подданных. Только одиннадцать процентов из них христиане; и даже это незначительное меньшинство так раздроблено и разобщено всякими сектами, что я и слова не могу сказать о религии, чтобы не затронуть чьи-нибудь чувства. При существующем положении моя приверженность к протестантизму является оскорблением для папы и его церкви. Если я буду венчаться в церкви, и особенно в церкви со шпилем, я оскорблю квакеров. Если я буду исповедовать тридцать девять заповедей англиканской церкви, я буду вынужден предать проклятию большинство своих возлюбленных подданных, и сотни миллионов из них будут принуждены считать меня врагом своего бога. Так вот, хотя все эти религиозные штуки в обряде коронования давно устарели, я не могу менять их, это уж дело ваше. Но я могу вступить в законный брак, не оскорбляя при этом религиозных чувств ни единого из подданных моей империи. Я вступлю в гражданский брак, который будет зарегистрирован в местной регистратуре. Что вы скажете на это?
Архиепископ.Это неслыханно. Однако это, без сомнения, избавит меня от значительных затруднений.
Премьер-министр.Вы покидаете меня, архиепископ?
Архиепископ.Я просто не нахожу, чем в данный момент я мог бы ответить на весьма неожиданный ход его величества. Так что вам лучше использовать конституционный подход к ситуации, пока я смогу разобраться в ней.
Премьер-министр.Ваше величество не может пренебрегать конституцией. Парламент всемогущ.
Король.Он сохраняет эту свою репутацию только до тех пор, пока ничего не предпринимает. А я так же привержен конституции, как и вы. Однако поймите, что если вы толкнете меня на участие во всеобщих выборах, желая убедиться, что думает мой народ по этому поводу, я готов на эту крайнюю меру. Вы будете блистательно посрамлены. Газетная шумиха, которая является с вашей стороны грубой ошибкой, не производит на меня никакого впечатления.
Премьер-министр.Но речь вовсе не идет о всеобщих выборах. Просто, готовы ли вы поступать в соответствии с советами ваших министров или нет? Мы должны решить это между собой.
Король.Ну, а в чем же заключаются ваши советы? И на ком вы мне советуете жениться? Я сделал свой выбор, теперь вы сделайте свой. Нельзя говорить о браке просто так – абстрактно. Берите быка за рога, называйте вашу кандидатку.
Премьер-министр.Но кабинет еще не рассматривал этот вопрос. Вы играете не по правилам, сэр.
Король.Вы хотите сказать, что я вас обыграл? Этого я и хотел. Я и полагал, что я должен выиграть.
Премьер-министр.Дело вовсе не в том, сэр. Просто не могу же я выбирать для вас жену!
Король.Значит, вы не можете и давать мне советы на этот счет. А если вы не можете дать мне совет, то как я могу поступать в соответствии с вашим советом?
Премьер-министр.Это напоминает обыкновенный софизм. Просто не ожидал от вас этого, ваше величество. Вы отлично знаете, кого я имею в виду. Кого-нибудь из королевского рода. Не из американцев.
Король.Наконец-то мы услышали что-то определенное. Премьер-министр Англии публично причисляет американцев к неприкасаемым. Вы наносите оскорбление нации от чьей дружбы и родственных чувств зависит в конечном итоге самое существование моей империи на Востоке. Самые мудрые из моих друзей-политиков считают брак между английским королем и американкой шедевром дипломатии.
Премьер-министр. Мне не следовало говорить так. Я, конечно, оговорился.
Король.Ну хорошо, забудем об этом. Но вы все еще продолжаете настаивать на невесте королевского происхождения. Все еще мечтаете о династическом браке в стиле семнадцатого века. И я, английский король и монарх Великобритании, должен отправиться но Европе выпрашивать какую-нибудь кузину, пяти– или шестиюродную, из каких-нибудь лишенных трона, изгнанных вон Бурбонов, или Габсбургов, или Гогенцаллернов, или Романовых, на которых в их собственной стране, да ж в других тоже, чихать хотели Да никогда я не стану делать такие глупости, к тому же столь непопулярные в массах, И если вы все еще продолжаете жить в семнадцатом веке, то я живу в двадцатом. Я живу в мире республик и мощных держав, управляемых бывшими малярами, каменщиками, выслужившимися рабочими и сыновьями рабочих с обувной фабрики. Может, мне следует жениться на дочери одного из них? Сами выбирайте мне тестя. Есть шах Персии. Есть Эффенди Кактотюрк. Есть синьор Бомбардини. Есть герр Битлер. Есть русский стальной король. Таков сегодня королевский род. Еще не знаю, разрешит ли кто-нибудь из этих великих правителей своей родственнице выйти замуж за старомодного короля! Сомнительно. Я вам скажу, что в нынешней Европе не осталось ни одного королевского дома, из которого я мог бы взять себе невесту, не ослабив положения Англии; и если вы не знаете этого, то вы ничего не знаете
Премьер-министр.Вы, по-моему, просто лишились ума.
Король.Малочисленной лондонской клике, отставшей на два или три века от нашего времени, без сомнения, именно так и покажется. Но современному миру виднее…
Архиепископ.Я думаю, нам следует лучше обсудить возможность отречения от трона.
Премьер-министр.Да, да, ваше величество, вы должны отречься. Это решит все проблемы и поможет нам справиться со всеми трудностями.
Король.Мое чувство долга, о котором так трогательно говорят ваши друзья, вряд ли позволит мне оставить мой пост без малейшего оправдания для подобного поступка.
Архиепископ.Ваш трон будет потрясен до основания.
Король.Это уж моя забота, поскольку я на нем и сижу. Но что произойдет с основаниями церкви, если она вынудит меня вступить в брак без любви и остаться в сожительстве с женщиной, которую я действительно люблю?
Архиепископ.Вам незачем делать это.
Король.Вы знаете, что я поступлю именно так, если последую вашему совету. Отважитесь ли вы настаивать на этом?
Архиепископ.Право же, премьер, я думаю, нам лучше уйти. Если б я был суеверен, мне бы начало казаться, что сам дьявол подсказывает эти аргументы его величеству. На них просто нечего ответить; и в то же время они настолько расходятся с привычным ходом мысли образованного англичанина, что просто несовместимы с тем миром, к которому принадлежим вы и я.
Король (встает, потому что его посетители тоже встают). К тому же у моего брата, который должен наследовать мне, могут возникнуть возражения. А ведь он-то женат на доморощенной девице, которая пользуется большей популярностью, чем любая заграничная принцесса из бывших. И он никогда не будет считаться настоящим, пока я жив. Вам пришлось бы отрубить мне голову. Вы не можете шутить с троном: вы должны или упразднить его вообще, или уважать его.
Премьер-министр.Вы сказали достаточно, сэр. Бога ради, не продолжайте.
Король.Тогда оставайтесь завтракать. Дэйзи тоже будет. Или вы хотите, чтоб я повелел вам сделать это?
Архиепископ.Мне как раз время обедать; и я страшно голоден. Если вы повелеваете, я не возражаю.
Король (шепотом подавленному премьер-министру, который вместе с ним спускается с лестницы). Я предупреждаю вас, дорогой Голдуин, что если вы примете мой вызов и назовете свою кандидатку в невесты, то ее фотография назавтра же появится во всех газетах рядом с фотографией Дэйзи. Дэйзи и ее маленькой собачки.
(Премьер-министр грустно качает головой; и они вместе отправляются к столу. Премьер-министр вряд ли прикоснулся к еде; зато архиепископ ничего не оставил на своей тарелке)».
На самом деле в жизни все произошло по-иному, и Эдуарду VIII пришлось отречься от престола.
Наступил день коронации короля Георга VI, и в «Дэйли уоркер» появился следующий комментарий Бернарда Шоу:
«Коронация – зрелище не для таких, как я. Природа создала меня нечувствительным к иллюзиям и атмосфере идолопоклонства, которые должны возникать при подобных церемониях. И так как я по профессии своей создатель иллюзий на театре, то смотреть на эти любительские представления мне бывает просто скучно. Соответственно, все эти пробки в уличном движении и уродование расположенных по соседству лондонских улиц трибунами и беспорядочно развешанными флагами из пронзительно красной, белой и синей материи – все это до крайности неудобно и неуместно, хотя я и не собираюсь отнимать удовольствия у людей, которым это нравится, а у маленькой деревушки, где расположен мой дом, – мою лепту на полагающиеся в этот день верноподданные увеселения; но лично я, конечно, удеру в самый дальний уголок побережья, как можно дальше от всей этой шумихи, чтобы, ссылаясь на свой преклонный возраст, избавиться к тому же от банкета, посвященного коронации, на который лорд-мэр пригласил меня, отдавая тем самым дань литературе, хотя бы и в лице отъявленного большевика. Из соображений академических мне следовало бы принять это приглашение, хотя я все еще в достаточной мере ирландец, чтобы не испытывать чувства неловкости во время верноподданнических и патриотических спичей.
В последний раз я присутствовал на обеде в Мэншн-хаузе 50 лет назад и, будучи тогда еще молодым и неуважительным репортером новорожденной газеты «Стар», делал вид, что лихо осушаю круговую чашу (на самом деле я в рот не беру спиртного). На следующий день мой отчет обо всем происходившем появился в печати. С того дня газету «Стар» больше никогда не приглашали.
Церемония в аббатстве представляет собой курьезный пережиток той поры, когда королей посвящали в верховные жрецы, а императоров – в боги… Стало существенным с точки зрения конституционной, чтобы церемония эта носила как можно более символичный характер, для того чтобы ведущий актер не принимал ее слишком всерьез, как это сделал бедняга Яков II, и не воображал, что капиталисты позволят ему делать все, что ему вздумается…»
Глава 23
Пока толпа слушает речи. Распространенный порок. Капитаны ведут на мель. Разрешение диссонанса. Что есть истина? Переписывая Новый завет…
Новая пьеса Шоу «Горько, но правда» была поставлена в Нью-Йорке. «Пьеса была ниже его обычного уровня», – писали критики, подчеркивая, что Шоу все-таки уже семьдесят пять лет. И на самом деле, пьеса была довольно сумбурная и бессвязная, хотя в ней было, конечно, несколько вполне занимательных и живых диалогов. Для одного из персонажей этой пьесы – рядового Мика прообразом послужил полковник Лоуренс Аравийский, которого его заслуги во время войны в пустыне сделали фигурой почти что легендарной, но который вдруг заново вступил в Британские военно-воздушные силы рядовым. В пьесе этой большое место занимают дискуссии по вопросам этики и морали войны, и хотя некоторые куски читаются с несомненным интересом, неудача, которую потерпела эта пьеса на сцене, не вызывает особого удивления.
Следующая пьеса Шоу – «На мели» – рассказывала о попытке английского премьер-министра и английских политиканов бороться с безработицей. Это был фарс на темы дня, в котором Шоу дал яркие и смешные карикатуры на современных ему политических деятелей.
В первой сцене пьесы начальник полиции Бэшэм приходит на Даунинг-стрит, в резиденцию премьер-министра сэра Артура Чэвендера, чтобы обсудить с ним методы борьбы против непрекращающихся демонстраций безработных.
« Бэшэм (холодно). Вы посылали за мной? (С тревогой.) Что-нибудь новое?
Сэр Артур.Уличные митинги все продолжаются, и это уже переходит все границы.
Бэшэм (с облегчением). А какой от них вред? Толпа опасна, когда ей нечего слушать и не на что смотреть. А митинги эти их развлекают. И нас избавляют от неприятностей… нет, премьер, тут уж я прав: пусть у толпы будет развлечение. Кому это знать, как не вам!
Сэр Артур.Мне? Что вы этим хотите сказать?
Бэшэм.Главное – не допускать, чтобы толпа предприняла что-либо, правильно?
Сэр Артур.Что-либо злонамеренное. Да, пожалуй, вы правы. Однако…
Бэшэм.Но английская толпа ничего и не предпримет, злонамеренное или незлонамеренное, пока она слушает речи. А уж эти, которые речи говорят, на них можете положиться, они и вообще ничего другого никогда не делают. Во-первых, они не знают как. А во-вторых, боятся. Я даю своим агентам указание, чтоб они оказывали давление на все эти говорильные общества – этические, социалистические, коммунистические, фашистские, анархистские, синдикалистские, официальные лейбористские, независимые лейбористские, «Армии спасения», церковной армии и атеистические – и чтоб эти общества посылали на улицу своих лучших краснобаев, пользовались ситуацией.
Сэр Артур.Какой ситуацией?
Бэшэм.Они сами не знают какой. Никто не знает какой. Это просто так говорится, фраза такая; на это они обязательно клюнут. А мне нужно, чтоб у меня на Трафальгарской площади дело шло днем и ночью. Несколько лейбористских членов парламента мне бы тоже очень пригодились. У вас там под началом такое сборище пустозвонов – уникальное! Если б вы их с полдесятка к нам в Скотланд-ярд направили, я бы их поставил там, где б от них была настоящая польза.
Сэр Артур (негодующе). Бэшэм, должен вам сообщить, что мы настроены весьма решительно и хотим покончить с этой модой непочтительно высказываться о палате общин. Мы пойдем даже на то, чтобы отдать под суд самых видных нарушителей, невзирая на их высокое положение.
Бэшэм.Артур, как Глава полиции я и сам день и ночь борюсь против подобных явлений, однако и то факт, что теперь никто, кроме партийной клики, ни во что не ставит палату общин. (Встает.) Так вы сделаете то, о чем я просил вас, – пусть продолжают говорить, ладно?
Сэр Артур.Ну, я… э-э…
Бэшэм.Если только вы не решились применить пулеметы.
Сэр Артур.Нет, это вы оставьте, Бэшэм (возвращается к креслу и садится в задумчивости).
Бэшэм.Отлично! Пусть себе говорят. Спасибо большое. Простите, что отнял у вас так много времени, знаю, что оно просто бесценно».
Итак, премьер-министр, проводив хитроумного начальника полиции, решает вместе со своей секретаршей, энергичной Хильдой, приняться за неотложные дела, которых у него невпроворот. Что же это за дела?
« Сэр Артур (энергично). А теперь за работу. Работа! Работа! Работа! (Он встает и начинает мерять шагами пространство перед столом.)Я хочу, чтоб вы записали кое-какие наметки к речи, которую я должен произнести сегодня после обеда в церковном собрании. Архиепископ говорит, что англокатолики просто помешались на так называемом христианском социализме и что я должен отвратить их от этого.
Хильда.Сохранились те старые заметки об экономических трудностях, переживаемых социализмом, которые вы использовали в прошлом году, когда выступали в Британской ассоциации.
Сэр Артур.Нет, эти священники слишком хорошо обо всем осведомлены. К тому же сейчас не время говорить об экономических трудностях: мы в них сами увязли по уши. Архиепископ просил: «Избегайте цифр и упирайте на тот факт, что социализм разрушает семью». Я думаю, он прав: немножечко эмоций на тему о семье – это всегда хорошо действует. Набросайте кратенько. (Диктует.)Семья. Опора цивилизации. Опора империи.
Хильда.Будут ли присутствовать индусы или магометане?
Сэр Артур.Нет. В этом священном собрании не бывает сторонников полигамии. Кроме того, все знают, что семья – это значит британская семья. Между прочим, я мог бы подчеркнуть это. Поставьте это отдельной строкой и с прописной буквы: «Один муж – одна жена». Теперь посмотрим, как это можно было бы развить. «Один ребенок – один отец». Как это прозвучит?
Хильда.Я думаю, безопаснее было бы сказать: «Одна мать – один ребенок».
Сэр Артур.Нет, это может вызвать улыбку – не ту, что нужно. Лучше не рисковать. Вычеркните. Неуместный смех, да еще в церковном собрании, может все испортить. Откуда у вас это ожерелье? Очень милое. Никогда не видел его у вас.
Хильда.Вот уже два месяца, как я ношу его ежедневно. (Вычеркивая пометку насчет «одного ребенка».)Дальше?
Сэр Артур.Так вот, э-э… о чем шла речь? (С досадой.)Я просил вас меня не перебивать: у меня уже так прекрасно было придумано, а теперь я все забыл.
Хильда.Простите меня. Семья.
Сэр Артур.Семья? Какая семья? Святое семейство? Королевская семья? Швейцарское семейство Робинсон? Изъясняйтесь подробнее, мисс Хэнуэйз.
Хильда (с мягкой настойчивостью). Не какая-нибудь определенная семья. Семья вообще. Социализм разрушает семью. Для сегодняшней речи в церковном собрании.
Сэр Артур.Ах, да, да, да, конечно. Вчера я просидел в парламенте до трех часов утра, и голова у меня как чугунная, совершенно выдохся.
Хильда.А чего вы так долго сидели? Дело-то пустяковое было.
Сэр Артур (возмущенно). Пустяковое! Нет, право. Вам не следует говорить так, мисс Хэнуэйз. Важнейшие прения о том, кто был прав, Джеймсон или Томпсон, по поводу того, что Джонсон сказал в кабинете!
Хильда.Десять лет тому назад.
Сэр Артур.А какое это имеет значение? Существо дела заключается в самой постановке вопроса о том, кто из них лжец – Джеймсон или Томпсон, и это вопрос весьма актуальный, вопрос первостепенной важности.
Хильда.Но ведь они оба лжецы.
Сэр Артур.Конечно, оба; однако голосование по этому вопросу может повлиять на вхождение их в новый кабинет. Вся палата стала на дыбы. Просмотрите утренние газеты. Только об этом и говорят сегодня.
Хильда.И всего три строчки о безработных, хотя мне 20 минут пришлось сюда пробиваться через толпу…»
В пьесе немало злых и забавных наблюдений над уловками современных политиканов. Вот небольшой отрывок из разговора премьер-министра со старым делегатом Хипни:
« Xипни.Вы хорошо знаете мэра, сэр Артур. Вы назвали его «мой старый дружище Том».
Сэр Артур.Он принес мне как-то стул на избирательном митинге. И у него к тому же один искусственный зуб, будто цинковый. Поэтому я его и запомнил. (Добродушно. Вставая.)Какой только чепухой нам, премьер-министрам, не приходится заниматься, мистер Хипни! Вы ведь и сами небось знаете? (Он протягивает руку, показывая, что разговор окончен.)
Мистер Хипни (поднимаясь и пожимая ему руку с состраданием). Да благословит бог вашу невинность, сэр Артур, вы еще не знаете, что такое обманщики. Вот ужо погодите, что будет, когда вы лейбористским лидером станете (подмигивает хозяину, направляясь к двери)».
Характерно и то, как старик Хипни объясняет сэру Артуру свое нежелание войти в парламент:
«…Он меня доконает, как доконал уже многих лейбористов, которые туда вошли. В кабинете полным-полно лейбористов, которые поначалу были отъявленные красные социалисты, а всего и переменилось-то, что они теперь ездят в этот Букингемский дворец, будто пэры какие наследные».
К переутомленному политической деятельностью премьер-министру жена подсылает женщину-гомеопата, диагноз которой звучит несколько неожиданно.
« Женщина (снова садится). Вы погибаете от острого недостатка умственной деятельности.
Сэр Артур (не веря своим ушам). От… от… от чего вы сказали?
Женщина.Вы страдаете от очень распространенного английского заболевания – недогрузки мозга. Говоря короче, это тяжелый случай легкомыслия, по всей вероятности, излечимого.
Сэр Артуp.Легкомыслия! И насколько я понял, вы сказали, что легкомыслие – это распространенный английский порок?
Женщина.Да. Ужасающе широко распространен. Почти что национальная черта.
Сэр Артур.Вы понимаете, что это безумие?
Женщина.Кто из нас – я или вы – завел Англию на мель?»
По совету этой женщины сэр Артур отправился лечиться в Уэльс и, начитавшись там Маркса, предложил возвращении столь решительный план борьбы с безработицей, что поставил в тупик даже профсоюзы. В заключительной сцене пьесы, где в раскрытое окно кабинета доносится пение безработных: «Англия, восстань!», премьер-министр под занавес восклицает: «Представь себе, что она и на самом деле восстанет!»
По своему обыкновению Шоу предпослал этой пьесе длиннейшее предисловие, по существу мало связанное с ее содержанием и анализирующее проблемы убийства, смертного приговора и т. д. В этом предисловии содержится довольно любопытный воображаемый спор между Христом и Понтием Пилатом. Касаясь евангельской сцены суда над Христом и его казни, Шоу писал:
«Когда я перечитывал эту историю уже будучи взрослым человеком, да еще к тому же и профессиональным критиком, я испытал столь острое разочарование, что до сих пор чувствую себя как музыкант, который однажды, отправляясь спать, вдруг услышал где-то нерешенный диссонанс, и вот он лежит в постели и не может уснуть, пока, наконец, не заставляет себя встать, подойти к пианино и разрешить этот диссонанс в консонанс. То, что вы прочтете ниже, – моя попытка разрешить диссонанс Пилата».
Вот часть спора Христа и Пилата:
« Пилат.Так, значит, ты царь?
Иисус.Ты сказал. Я пришел в этот мир и был рожден человеком лишь для того, чтоб раскрыть истину. И всякий, кто способен принять истину, услышит ее в словах моих.
Пилат.А что есть истина?
Иисус.Ты первый, у кого достало ума спросить это.
Пилат.Хватит! Мне не нужна лесть. Я римлянин и, конечно, кажусь еврею человеком исключительного ума. Вы, евреи, вечно толкуете об истине, праведности и справедливости: слова служат вам пищей, когда вы устаете зарабатывать деньги или когда вы бываете слишком бедны, чтобы снискать другую пищу. Эти люди хотят, чтобы я распял тебя на кресте; однако я не вижу еще, какое ты причинил зло, и потому предпочитаю пригвоздить тебя доводами разума в споре. В Риме красивым словам не верят; соловья баснями не кормят. Ты говоришь, что призвание твое раскрывать истину. Я верю тебе на слово, но хочу знать, что есть истина.
Иисус.Это то, что человек должен утверждать, даже если будет побит камнями или распят на кресте за свои слова. Я открываю тебе эту истину не для собственной выгоды: я открываю ее безвозмездно для твоего спасения, с опасностью для своей жизни. Разве поступал бы я так, когда плоть моя протестует и корчится от страха, если бы господь не побуждал меня к этому?
Пилат.Вы, евреи, простой народ. Вы открыли только одного бога. Мы, римляне, открыли многих; и один из них это Бог лжи. Даже вы, евреи, вынуждены признавать Отца лжи, которого вы называете дьяволом, как всегда обманывая себя словами. Но это очень могущественный бог, не так ли? И поскольку он тешит себя не только ложью, но и другими злобными проделками, вроде избиения камнями или распятия, то как мне знать, дьявол подстрекает тебя жертвовать собой во имя лжи или Минерва побуждает тебя к жертве во имя истины? И снова я спрашиваю тебя, что есть истина?
Иисус.То, о чем вы по опыту своему знаете, что оно истинно, или чувствуете душой, что оно истинно.
Пилат.Ты хочешь сказать, что истина – это соответствие между словом и фактом. Истинно, что я сижу в этом кресле; но во мне нет истины, и в кресле этом нет истины тоже: мы представляем собой только факты. Мое представление о том, что я сижу здесь, может оказаться лишь сном; а потому представление мое не является истинным.
Иисус.Ты хорошо сказал. Истина есть истина и ничто иное. Таков ответ тебе.
Пилат.Да, но до какой степени она познаваема? Мы оба признаем истинным, что я сижу в этом кресле, потому что наши чувства говорят нам об этом; и вовсе не обязательно, чтоб двум людям одновременно снилось одно и то же. Но как только я поднимусь с кресла, эта истина перестанет быть истиной. Истина имеет отношение к настоящему, но не к будущему, и ваши мечты о будущем не являются истиной. Даже для сегодняшнего дня ваши суждения не истинны. Истинно то, что я сижу в этом кресле. Но является ли истиной, что для твоих соплеменников лучше, чтобы я сидел в этом кресле и навязывал им римский мир, чем если бы им разрешили перерезать друг друга в исконной их дикости, как сейчас они требуют, чтобы я убил тебя?
Иисус.Есть мир и покой господень, который недоступен нашему разуму; и мир этот возобладает над римским миром, когда пробьет час господний.
Пилат.Очень мило, мой друг; но час богов ныне и вовеки; и целому свету известно, что значит мир твоего иудейского бога. Разве не читал я о походах Иисуса Навина? А мы, римляне, заплатили за свой римский мир, за «pax Romana» своей кровью; и мы предпочитаем его как закон простой и понятный, позволяющий отвести ножи, занесенные над глоткой соседа, предпочитаем его твоему миру, который недоступен нашему пониманию, потому что побуждает убивать мужчин, женщин и детей во имя вашего бога. Однако так думаем только мы. Но не ты. И потому это не обязательно истина. Я должен опираться на это мнение, потому что наместник должен на что-нибудь опираться: он не может слоняться по дорогам и произносить красивые слова, как делаешь ты. Если бы ты был наместником, облеченным ответственностью, а не поэтическим бродягой, ты бы скоро обнаружил, что выбирать мне приходится по между истинностью и ложностью, которых я никогда не могу установить, а между разумным, обоснованным суждением, с одной стороны, и сентиментальным, не подтвержденным фактами побуждением – с другой.
Иисус.И все же суждение мертво, а побуждение полно жизни. И вы не сумеете навязать мне ваше разумное и обоснованное суждение. Если вы захотите распять меня, я смогу отыскать десяток доводов для оправдания этой казни; и ваша полиция предоставит вам сотню фактов в поддержку этих доводов. Если же вы захотите меня помиловать, я найду вам столько же доводов в пользу этой милости; а мои ученики предоставят вам столько фактов, что у вас не хватит ни времени, ни терпения, чтобы их выслушать. Вот почему ваши юристы могут защищать с равным успехом ту и другую стороны и, таким образом, могут, не навлекая на себя бесчестия, защитить ту сторону, которая им платит, подобно наемному вознице, который за ту же плату повезет тебя на север с такой же готовностью, как на юг.
Пилат.Ты умнее, чем я полагал; и ты прав. Такова моя воля; и такова воля Цезаря, которая превыше моей воли; и превыше его воли воля богов. Однако все они непрестанно противоречат друг другу; поэтому ни одна из них не является истиной, ибо истина одна и не может противоречить самой себе. Существуют противные суждении и изъявления воли; но единственно сущая мимолетная истина заключается в том, что я сижу в этом кресле. И все же ты утверждаешь, что явился свидетельствовать об истине! Ты, бродяга и краснобай, которому в жизни но приходилось выносить приговор, облегчать бремя налогов или издавать эдикт! Да что такого ты можешь сказать мне, чего бы не выбили из тебя мои палачи в качестве презумпции.
Иисус.Избиенье не есть средство для установления презумпции, как не является оно и правосудием, хотя именно так ты будешь называть его в своем донесении цезарю: оно есть жестокость; и то, что жестокость эта порочна и мерзка, ибо она оружие, которым сыновья сатаны убивают сынов божиих, – это как раз и есть часть той вечной истины, которой ты домогаешься.
Пилат.Оставь в покое жестокость, все правительства жестоки, ибо ничто не бывает столь жестоким, как безнаказанность. Целительная суровость…
Иисус.Нет, нет, прошу тебя! Ты должен простить меня, благородный наместник, но уж так создал меня господь, что от этих официальных фраз у меня все нутро выворачивает. А целительная «суровость эта для меня просто рвотный корень. Я говорил с тобой как человек с человеком, живыми словами. Не плати же мне неблагодарностью, пуская в обиход мертвые фразы.
Пилат.В устах римлянина слова имеют смысл; в устах иудея они лишь дешевая замена крепким напиткам. Если б мы позволили вам, вы наводнили бы мир своими писаниями, и псалмами, и талмудами, а история человечества превратилась бы в легенду, полную красивых слов и подлых поступков.
Иисус.И все-таки слово было вначале, до того как оно обрело плоть. Слово было изначальным. Слово было с богом еще до того, как он сотворил пас. Больше того, слово это был бог.
Пилат.Ну и что же все это означает, скажи на милость?
Иисус.Различие между человеком и римлянином всего-навсего в слове; но разница эта существенна. Различно между римлянином и иудеем тоже только в слове.
Пилат.Это существующий факт.
Иисус.Факт, который сперва был мыслью, ибо мысль есть содержание слова. Я не просто скопление костей и плоти: если б дело было только в этом, я сгнил бы, рассыпался у тебя на глазах. Я воплощение мысли божией: я Слово, облеченное в плоть: вот почему я предстал здесь перед тобой в образе бога.
Пилат.Звучит убедительно; но что годится одному, сгодится и другому; и раз ты ость Слово, облеченное в плоть, то, наверно, и я тоже.
Иисус.А разве не это я твержу тебе снова и снова? И разве не побивали меня каменьями на улицах за эти слова? Разве не рассылал я своих апостолов, чтобы возвестить эту великую весть всем неевреям и всем язычникам до самого края земли? Слово есть бог. И бог внутри нас. Именно в тот миг, когда я сказал это, иудеи, мои соплеменники, стали поднимать с земли каменья. Но отчего же ты, не иудей, попрекаешь меня этим?
Пилат.Я не попрекнул тебя этим. Я просто указал тебе на это.
Иисус.Прости. Я так привык, чтобы мне противоречили…
Пилат. В том-то и дело – существует столько разных слов; и все они раньше или позже облекаются плотью. Пройдись среди моих солдат, и ты услышишь немало грязных слов, увидишь немало жестоких и гнусных поступков, которые сперва были просто мыслью. Я не велю произносить эти слова в моем присутствии. Я караю эти поступки как преступления. И твоя истина, как ты именуешь ее, может оказаться всего-навсего мыслью, для которой ты нашел слова и которая обернется деяньями, если только я позволю тебе сеять эти слова среди народа. Твои соплеменники, которые привели тебя, сказали мне, что мысли твои отвратительны, а слова богохульны. Чем я могу опровергнуть их слова? И как мне увидеть различие между богохульствами моих солдат, о которых доносят мои центурионы, и твоими богохульствами, о которых донесли мне твои жрецы?
Иисус.Горе тебе и миру этому, если ты не видишь различия!
Пилат.Это ты думаешь так. Что ж, меня это не страшит. А почему ты думаешь так?
Иисус.Я не думаю: знаю. Я получил это знание от бога.
Пилат.Я получил то нее знание от нескольких богов.
Иисус.Коль скоро ты знаешь истину, ты получил ее от моего бога, который для тебя отец небесный так же, как для меня. У него много имен, и природа его многообразна. Называй ого как тебе угодно; и все же он отец наш. А разве отец лжет своим детям?
Пилат.Да, и часто. У тебя ость и земные отец и мать. Это они научили тебя тому, что ты проповедуешь?
Иисус.Конечно, нет!
Пилат.В таком случае ты выказываешь неповиновение отцу и матери. Выказываешь неповиновение церкви. Ты нарушаешь заповеди своего бога и заявляешь о своем праве поступать так. Ты вступаешься за бедных и утверждаешь, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное. И все же ты пировал у богачей и поощрял блудниц потратить деньги, которые нужно было раздать бедным, на благовония для твоих ног, – этим ты так раздосадовал своего казначея, что он предал тебя верховному жрецу за горстку серебра. Ну что ж, пируй сколько тебе угодно: я не виню тебя, если ты не хочешь разыгрывать факира или изображать на дорогах глупое аскетическое пугало; однако я не могу допускать, чтобы ты устраивал скандалы в храме и разбрасывал у менял золото, из-за которого твои ученики устраивают свалку. Я должен блюсти законы. А закон запрещает непристойность, подстрекательство к мятежу и богохульство. Тебя обвиняют в подстрекательстве к мятежу и в богохульстве. И ты не оправдываешься: ты лишь толкуешь мне об истине, которая на поверку есть лишь то, во что тебе хочется верить. Твое богохульство для меня ничто: с точки зрения римлянина вся иудейская религия – сплошное богохульство; но для твоего верховного жреца это очень существенно; и я не могу поддерживать порядок среди иудеев, иначе как обращаясь с этими иудейскими глупцами в соответствии с их иудейскими глупостями. Однако подстрекательство к мятежу касается непосредственно меня и моих подчиненных; а коль скоро ты вознамерился заменить Римскую империю царством, в котором ты, а не цезарь будешь восседать на троне, ты повинен в тягчайшем преступлении. Мне не хотелось бы подвергать тебя распятию; потому что хотя ты всего-навсего иудей, да к тому же еще и в поре незрелой юности, я все-таки сознаю, что ты на свой иудейский манер человек достойный; и потому мне не совсем по себе оттого, что я должен выдать толпе человека достойного, даже если это его достоинство является достоинством иудейским. Потому что сам я патриций и, следовательно, человек достойный; а ведь ворон ворону глаз не выклюет. И я снисхожу до столь длинных разговоров с тобой в надежде отыскать какой-нибудь предлог, чтобы я мог простить тебе и твое богохульство и твое подстрекательство к мятежу. Ты же в свою защиту не предлагаешь мне ничего, кроме пустой фразы об истине. Я искренне хочу пощадить тебя; ибо если я не освобожу тебя, мне придется освободить этого мерзавца Варавву, который зашел гораздо дальше, чем ты, убил кош-то, тогда как ты, насколько я понимаю, только воскресил какого-то иудея из мертвых. Поэтому пошевели-ка в последний раз мозгами и подыщи какой-нибудь благовидный предлог, чтоб я мог отпустить на свободу богохульствующего подстрекателя.
Иисус.Я не прошу отпускать меня на свободу; да я и не хотел бы получить от тебя жизнь ценой Вараввиной смерти, даже если бы верил, что ты можешь отвратить муку, которая суждена мне. Однако, чтобы удовлетворить твое стремление к истине, скажу тебе, что ответ на твой вопрос как раз и содержится в собственном твоем утверждении, что ни ты, ни узник, которого ты судишь, не могут доказать своей правоты; а потому ты не должен судить меня, дабы не быть судимым. Без подстрекательства к мятежу и богохульства мир остановился бы на месте и царство божие не приблизилось к нам ни на шаг. Римская империя началась с того, что волчица вскормила двух человеческих детенышей. Если бы эти детеныши не были мудрее, чем их приемная мать, ваша империя была бы волчьей стаей. Именно благодаря детям, которые мудрее своих отцов, подданным, которые мудрее своих императоров, бродягам и нищим, которые мудрее своих жрецов, – благодаря им люди перестают быть хищными зверьми, а в конце концов обретают веру в меня и спасение.
Пилат.Что значит верить в тебя?
Иисус.Это значит видеть мир так, как я его вижу. Что же может оно означать?
Пилат.А ты и есть Христос, мессия?
Иисус.Даже если б я был сатаной, мой довод не утратил бы справедливости.
Пилат.А стало быть, я должен щадить и поощрять всякого еретика, всякого мятежника, всякого нарушителя законов и всякого мошенника на тот случай, если он вдруг окажется более мудрым, чем все минувшие поколения, создавшие римские законы и на их основе Римскую империю?
Иисус.По их плодам узнаешь их. И остерегайся убить мысль, которая будет для тебя новой. Потому что мысль эта может оказаться основанием царства божия на земле.
Пилат.Она может оказаться также погибелью всех царств, всех законов и всего человеческого общества. Она может оказаться мыслью хищного зверя, который алчет вернуть свою власть.
Иисус.Хищный зверь не алчет вернуться: царство божие алчет прихода своего. Империя, что в страхе оглядывается назад, уступит место царству, что смотрит вперед с надеждой. От страха люди теряют разум: надежда и вера дают им дивную мудрость. Люди, которых ты наполнишь страхом, не остановятся ни перед каким злодеянием и погибнут в грехах; люди, которых я преисполню верой, унаследуют землю. И я велю тебе: исторгни страх. Не повторяй мне суетных слов о величии Рима. Величие Рима, как ты называешь его, не что иное, как страх: страх перед прошлым, страх перед будущим, страх перед бедняками, страх перед богачами, страх перед верховными жрецами, страх перед иудеями и греками, которые постигли науки, страх перед галлами, готами и гуннами, которые суть варвары, страх перед Карфагеном, который вы разрушили, чтобы избавиться от своего страха перед ним, и которого боитесь теперь еще больше, чем прежде, страх перед вашим царственным цезарем, перед идолом, которого вы сами создали, и страх передо мной, нищим бродягой, избитым и поруганным, страх предо всем, кроме власти божьей: и неверие ни во что, кроме крови, злата и железа. Вы, стоящие за Рим, вы в вечном страхе; я, который за царство божие, бросил вызов всему, потерял все и обрел вечный венец.
Пилат.Ты обрел лишь терновый венец и будешь увенчан им на кресте. Ты опаснее, чем я думал. Потому что мне нет дела до твоих кощунств против бога и верховных жрецов: по мне, ты можешь втоптать их религию в преисподнюю; но ты кощунствовал против цезаря и империи; и ты знаешь, о чем говоришь, и умеешь обращать против нее сердца людей, как едва не обратил мое. А потому я должен покончить с тобой, пока еще остался в мире закон.
Иисус.Закон слеп без совета. Тот совет, с которым согласны люди, есть тщета: он только отзвук их собственных голосов. Миллион таких отзвуков не поможет тебе править по справедливости. Но тот, кто не боится тебя, кто может показать тебе и Другую сторону дела, тому нет цены для тебя. Убей меня, и ты слепым сойдешь в свою пропасть. Величайшее из имен божьих – Советчик, и когда империя твоя рассыплется в прах, а имя твое станет притчей на устах народов, храмы бога живого еще будут звенеть хвалой Дивному! Советчику! Вечному Отцу и Князю Мира».

«Я являюсь специалистом по аморальным и еретическим пьесам».

Мэй Моррис (слева) и Джи-Би-Эс в восьмидесятые годы.

Кейр Харди, миссис Шоу и Джи-Би-Эс.
Шоу столь же мало останавливала задача переписать заново или усовершенствовать Новый завет, как и задача улучшить Шекспира: ведь ему было уже за восемьдесят, когда он переписал последний акт шекспировского «Цимбеллина» в полной уверенности, что Шекспир был бы ему благодарен за это.





