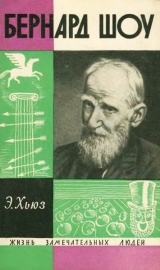
Текст книги "Бернард Шоу"
Автор книги: Эмрис Хьюз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Об этой «эпистолярной» любви было много написано, ей посвящена тоже вполне «эпистолярная» пьеса Джерома Килти «Милый обманщик», пользующаяся популярностью во многих странах, в том числе и в Советском Союзе.
Как мы уже говорили, история эта связана с «Пигмалионом». Еще в конце века, увидев как-то миссис Кэмбл в «Гамлете» вместе с Форбс-Робертсоном, Шоу впервые подумал о том, чтобы написать для нее пьесу. Через несколько лет после этого Джордж Александер, заметив Шоу на своем спектакле в ложе театра Сэн-Джеймс, послал за ним и спросил: «Почему вы не напишете для нас?» Шоу ушел домой и начал «Пигмалиона».
Потом он читал пьесу Александеру; после него он читал ее миссис Кэмбл. А потом он приехал к миссис Кэмбл обсудить некоторые деловые вопросы и сам не заметил, как все деловые вопросы вылетели у него из головы.
«Я мечтал и мечтал и витал в облаках весь день и весь следующий день, так, словно мне еще нет двадцати.
В голову не лезло ничего, кроме тысячи сцен, героиней которых была она, а героем я. А мне ведь уже вот-вот стукнет 56. Никогда, наверное, не происходило ничего столь смехотворного и столь чудного. В пятницу мы пробыли вместе целый час: мы посетили лорда; мы ездили на такси; мы сидели на скамейке в Кенсингтон-сквере; и годы спадали с моих плеч, как одежда. Я уже 35 часов нахожусь в состоянии влюбленности; и да простятся ей за это все ее грехи!»
Шарлотту обеспокоило это его состояние. Случайно она услышала его телефонный разговор, и, как сообщал Шоу в письме миссис Кэмбл, «впечатление было ужасающим…».
«Мне бесконечно больно видеть, когда кто-нибудь так страдает. Я должен, наверное, убить себя или убить ее… Что ж, нам, наверное, всем полезно страдать, жестоко лишь, что больше приходится страдать слабому. Если б я был человечнее и мог сам испытывать страдания, то этому было бы хоть какое-нибудь поэтическое оправдание; но я не могу: я могу только ощущать страдания других, испытывая боль, вызываемую жалостью, и яростное возмущение неразумностью всего этого – настоящую неизбывность ревности, которой я, кажется, никогда не смогу избежать.
И все же это утешение на худой конец – знать, что у тебя есть неистребимая веселость гения и что ты можешь все вынести… В отчаянии я простираю руки к небесам и спрашиваю, почему невозможно сделать счастливой одну женщину, не пожертвовав при этом другой? Все мы рабы того, что в нас есть лучшего, и того, что в нас худшее».
Об истории их любви написано немало: биографы и критики, искушенные в вопросах любви, давали свою оценку происходившему, выносили приговоры, комментировали неожиданные повороты этого довольно необычного и в значительной степени «эпистолярного» (а потому дошедшего до нас в стольких подробностях) романа.
Мы ограничимся лишь приведением некоторых любопытных высказываний самого Шоу, предоставляя вам самим размышлять над ними.
Узнав о желании миссис Пэт выйти замуж за Джорджа Корнуолиса Уэста, Шоу писал своей любимой:
«…хотя мне нравится Джордж (у нас с ним одинаковый вкус), я повторяю, что он молод, а я стар; так что пускай он подождет, пока я устану от вас.
При естественном ходе событий так продолжаться долго не может. Я самый ненадежный из мужчин, хотя в каком-то смысле я и постоянен тоже: во всяком случае, я не забываю. Но я прохожу через все иллюзии, а потом топчу их ногами с торжествующим воплем. Что же до вас, то я переполнен иллюзиями. И невозможно, чтоб я не устал от этого скоро: ничто подобное этому не может тянуться долго. Не можете же вы на самом деле представлять собой то, чем являетесь вы для меня; вы существо из моих мальчишеских грез: вся – любовь и вся – предчувствие, что свершится нечто, предначертанное человечеству, – то, что лежит где-то за далью тысячелетия. Я обещаю устать от вас как можно скорее, чтобы освободить вас. Я поставлю «Пигмалиона» и раскритикую вашу игру. Я буду зевать над вашими восхитительно глупыми замечаниями и спрашивать себя, впрямь ли они так забавны. Я буду бегать за другими женщинами в поисках новой привязанности; я постараюсь исчерпать мои грезы как можно скорее; только дайте мне догрезить до конца…»
Позднее он пояснял в одном из писем:
«В течение нескольких лет перед войной у меня были отношения с одной женщиной, во многом сходные с теми, в каких король Магнус находился с Оринтией в «Тележке с яблоками». При всем том я оставался столь же верным мужем, как и король Магнус; и фраза его «наши странно невинные отношения» правдива»
Шоу терпеливо разъяснял самой миссис Пэт:
«Существуют самые чудесные разновидности отношений – и тесная близость, и такое ощущение, точно мы дети, заблудившиеся в лесу, – все это помимо любви, которой, как вы указываете, мне не дозволяют моя диета и слабая натура. У меня, может, и бывают минуты влюбленности, но вы наверняка не замечаете их».
Итак, любовь или «какая-то другая чудесная разновидность отношений»? Не будем навязывать читателю свои формулировки. Лучше снова обратимся к письмам:
«Сегодня я проезжал через Дублин и клял каждый дом в отдельности, когда он проносился мимо. Все былое стремление к красоте и счастью пробудилось во мне; и теперь, когда я вернулся в эту страну, вы для меня больше не та знаменитая актриса миссис Белла Донна [22]22
Одна из ее ролей.
[Закрыть]а моя девочка, моя красавица, моя милая, босоногая, в пыльной юбчонке, или моя богоматерь, или еще десяток милых, безумных названий, которые немало удивили бы молодых львов в стенах Сэн-Джеймса…Так что если вам хоть сколько-нибудь интересно, продолжаю ли я любить Стеллу, то ответом будет да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да и миллион раз да. Ничего не могу поделать. Я в здравом уме, сохраняю силы, остаюсь самим собой, и все же я – это какой-то малый, заигравшийся с вами где-то в горах и неспособный понять, где вы берете начало и к каким берегам убегаете».
А она? Что было с ней? Любила ли она? Все это остается в значительной мере загадочным. Пирсон говорил, что история эта не могла не льстить ей. Одри Уильямсон встает на защиту женщины, которая не могла, подобно Шарлотте, пересечь континент, чтобы сидеть у его постели. Так или иначе, когда она в августе 1913 года уехала в Сэндуич, на южное побережье Англии, Шоу вдруг последовал за ней.
Увидев его 10 августа в Сэндуиче, она пришла в ужас и послала ему записку:
«Пожалуйста, уезжайте сегодня же в Лондон – или куда угодно, только не оставайтесь тут, если не уедете вы, придется уехать мне – но я очень, очень устала, и мне бы не следовало снова пускаться в путь. Пожалуйста, не вынуждайте меня презирать вас. Стелла».
Однако утром она все-таки уехала, оставив ему записку.
Он послал ей длинное письмо:
«Сэндуич. Сумерки. 11 августа 1913 г.
Хорошо, уезжайте. Потеря женщины еще не конец света. Солнце светит; купание доставляет мне удовольствие; и работать тоже хорошо; душа моя может перенести одиночество. Но я глубоко, глубоко, глубоко ранен. Вы испытали меня; вам со мной неуютно, я не могу принести вам мир, покой или хотя бы позабавить вас; в итоге выходит, что нет ничего по-настоящему искреннего в нашей дружбе. Счастлив был только я, безмятежно счастлив, спокоен, мог пройти чуть не бегом несколько миль в поисках вас, распевая дорогой… а потом вдруг ощутить здоровую и насмешливую сонливость, увидев, что вам докучает все это и что ветер дует не оттуда. Да, у вас нет мужества; у вас нет разума; вы карикатура на сентиментального мужчину восемнадцатого века… вы ничего не знаете, да поможет вам господь, не говоря о том, что все то, что вы знаете, ложно; свет дня слепит вас, вы гонитесь за жизнью украдкой, а потом убегаете прочь или кричите, сжимаясь в комок, когда она оборачивается к вам лицом и открывает объятия; вы позор и ослепление для мужчины, а не венец его, что «превыше рубинов»; вместо того чтобы приблизить мир к себе, вы удаляетесь от него, отделяетесь от него, оберегаетесь от него; вместо того чтобы дарить очарование в тысяче обличий тысяче разных людей, вы избираете один сорт обаяния и пробуете его наобум – получится или нет – на стариках и молодых, на слугах, детях, артистах, филистерах; вы актриса одной роли, да и та-то роль ненастоящая; вы сова, за два дня уставшая от моего солнечного сиянья; я слишком хорошо к вам относился, обоготворял вас, расточал перед вами свое сердце и ум (как расточаю их перед всем миром), чтобы вы извлекли из них все, что сможете извлечь: а вы только и смогли, что убежать. Идите же: шовианский кислород сжигает ваши маленькие легкие; ищите затхлости, которая будет вам по душе. Вы не выйдете за Джорджа! В последний момент струсите или отступите перед душой более смелой. Вы уязвили мое тщеславие; невообразимая дерзость, непростительное преступление. Прощайте, несчастная, которую я любил. Джи-Би-Эс».
Однако раздражение его не улеглось. Назавтра он пишет ей снова:
«Сэндуич. Тьма.
Нет, моя обида еще не утихла: я сказал вам слишком мало скверных слов. Да кто вы, несчастная женщина, чтобы из-за вас все внутри у меня разрывалось на части, час за часом. Из 57 лет я страдал 20 и работал 37. И тогда мне выпало мгновение счастья: я почти снизошел до влюбленности. Я рискнул порвать глубокие корни и освященные узы; я смело ступал на зыбучие пески; я бросался во тьму за блуждающим огоньком; я лелеял самые древние иллюзии, отлично сознавая при этом, что делаю. Я схватил горсть опавших листьев и сказал: «Принимаю за золото». А теперь – пустынный берег и огни Рэмсгейта, которые могли бы стать кострами небесных духов на горных вершинах. Я сказал: «Есть семь звезд, и семь печалей, и семь мечей в сердце царицы небесной: но для себя я прошу только семь дней». И они пришли; и я был сдержан; я не был алчным, потому что хотел, чтоб последний день был самым лучшим. А вы зевали мне в лицо и украли у меня пять оставшихся дней, чтобы провести их по-дурацки, в каком-то пустынном закоулке с горничной и шофером. О, пусть же скука одолеет вас с такою силой, что в отчаянье вы попросите официанта прогуляться с вами! О мой критический ум и острое зренье, дайте же мне вы тысячу доводов, чтобы я мог судить это легкомысленное творение по заслугам, если только можно найти воздаяние достаточно страшное. Соберитесь вкруг меня, все добрые друзья, которыми я пренебрег ради нее. И даже хулители ее будут ныне желанны; я скажу: «Изрыгайте яд; воздвигайте горы лжи; выплевывайте злобу до тех пор, пока самый воздух не станет отравой; и тогда вы еще не скажете всей правды». А друзьям ее, всем одураченным ею и всем ее обожателям я скажу: «То, что вы говорите, правда, и она заслуживает еще больших похвал, но все равно это ничего не значит: она вырвет струны из арфы архангела, чтобы перевязать пакеты с покупками, так она поступила и со струнами моего сердца». И подумать, что это существо мне придется тащить через всю пьесу, которую она будет изо всех сил гробить, что мне придется льстить ей, примиряться с нею, дружески поддерживать ее в минуты, когда она готова будет ринуться с крутого уступа вниз в море. Стелла, как вы могли, как вы могли?..»
Он не мог успокоиться и на третий день после ее отъезда:
«Я хочу причинить вам боль, потому что вы причинили мне боль. Мерзкая, низкая, бессердечная, пустая, недобрая женщина! Лгунья; лживые губы, лживые глаза, лживые руки, обманщица, предательница, вкравшаяся в доверие и обманувшая его!..»
Его удары попадали в цель, причиняли боль, и она не смолчала:
«Вы и ваше сквернословие в стиле XVIII века… Вы потеряли меня, потому что никогда и не находили… Но у меня есть мой маленький светильник, один огонек, а вы загасили бы его мехами вашего себялюбия. Вы бы задули его своим эгоистическим фырканьем – вы, изящный обольститель, вы, дамский угодник, вы, драгоценное сокровище дружбы, – и все же для вас я поддерживаю огонек светильника, боясь, что вы заблудитесь во мраке!..»
Элиза Дулитл была вершиной ее карьеры, которая пошла на спад после этого.
Он написал ей много писем, но разрешил опубликовать лишь некоторые из них в ее биографии.
Шоу писал о ней: «Весь земной шар был у ее ног. Но она поддала ногой этот шар и уже не могла достать его оттуда, куда он откатился».
В последнем своем письме, датированном 28 июня 1939 года, она писала, что «начинает привыкать к бедности и неудобствам…».
В бедности и одиночестве она умерла в Париже 9 апреля 1940 года 75 лет от роду.
«Да, она умерла, – писал Шоу в одном из писем, – и все ощутили большое облегчение; а сама она, пожалуй, в первую очередь; ибо на последних своих фотографиях она отнюдь не выглядит счастливой. Она не была великой актрисой, но зато была великой чаровницей; каким образом удавалось ей производить на людей столь сильное впечатление, не знаю; но уж если она хотела покорить вас, то вы могли ждать этого совершенно спокойно; потому что она была неотразима. К сожалению, в смысле профессиональном она представляла собой такую дьявольскую обузу, что всякий, кому хоть раз пришлось ставить пьесу с ее участием, никогда не повторял этой ошибки, если только была возможность избежать этого. Однажды она принесла большой успех Пинеро, в другой раз мне; и хотя оба мы впоследствии писали пьесы, где были роли, идеально подходившие ей, мы не брали ее в труппу. Она не умела обращаться с живыми людьми реального мира. По рождению в ней была смесь: наполовину итальянка, наполовину пригородная провинциалка из Кройдона; и переход от одной к другой бывал у нее просто ошеломляющим. Дед ее содержал цирк, а мать была наездницей в этом цирке и так никогда и не смогла англизироваться; несмотря на это, с итальянской стороны в ней была какая-то аристократическая струнка; по временам манеры у нее бывали просто отличными. Она очаровала и меня среди прочих; но я бы не смог прожить с ней недели; и я знал это; так что из этого ничего не вышло. Она была добра к Люси [23]23
Люси – сестра Шоу, в доме которой он несколько раз встречался с миссис Кэмбл, так как Люси не особенно благоволила к Шарлотте.
[Закрыть], которая каким-то образом умела с ней обходиться. Оринтия в «Тележке с яблоками» – это ее портрет в драме».
Глава 14
Здравый смысл и господа офицеры. Корабль разбитых сердец. Кладезь афоризмов. «Не знаешь, смеяться или плакать…»
В августе 1914 года, когда разразилась первая мировая война, Шоу, прихватив с собой как можно больше исторических и дипломатических документов о происхождении и причинах войны, покинул Лондон и отправился на приморский курорт Токи.
Два месяца трудился он над длинным памфлетом «Война с точки зрения здравого смысла» (иногда переводят как «Здравомыслящий о войне»), вышедшим в виде приложения к «Ньюстэйтсмен», новому еженедельнику, который выпускали видные деятели Фабианского общества и в финансировании которого принимал участие сам Шоу.

В угарной атмосфере тех дней, когда небольшую оппозиционную группку политических деятелей освистывали и в стенах парламента и вне этих стен, когда всякий, кто выступал с самостоятельной точкой зрения, рисковал заслужить ярлык «прогермански настроенного» и «германофила», выступление Шоу было весьма смелым. Он подошел к военному столкновению со своей, оригинальной позиции. Она отличалась от точки зрения левого меньшинства, во всех странах выступившего против войны; однако Шоу приходил почти к тем же выводам, что и это отважное меньшинство. Шоу выступал против правительств, против империалистов, против капиталистов, но не мог связать себя и с пацифистами типа Ромена Роллана, выступавшего против войны с позиций этики и при этом стоявшего «над схваткой». Ленин, который писал в то время свои антивоенные статьи в швейцарской ссылке, был еще сравнительно мало известен в Англии 1914 года. Фабианское общество не высказало официально своей точки зрения на войну Говорили, что Сидни Уэбб был за войну, а его жена Беатрис – против и что супруги решили умолчать о своих разногласиях Шоу высказал в памфлете свои собственные, личные взгляды
Он писал:
«Я не испытываю этического почтения к современному капиталистическому обществу и потому рассматриваю его английскую, немецкую и французскую части с беспристрастным неодобрением У меня такое ощущение, будто я присутствую при схватке двух пиратских флотов, с той, однако, весьма существенной деталью, что я сам, моя семья и мои друзья находимся на борту английских судов, так что я вовсе не желал бы, чтоб английская сторона потерпела поражение, если бы только это от меня зависело На всех судах поднят пиратский «Веселый Роджер», но на моем явно заметен в уголке еще «Юнион Джэк» [24]24
Британский флаг.
[Закрыть]
Шоу апеллирует здесь к сознанию английского и немецкого народов, которые позволяют правительствам дурачить себя, позволяют разжигать в себе взаимную ненависть, которую следовало бы обратить против юнкерства и милитаризма в их собственных странах
«Без сомнения, – писал Шоу, – героическое средство против этого трагического недоразумения заключается в том, чтобы и та и другая армии перестреляли своих офицеров и отправились по домам собирать урожай в деревнях и совершать революцию в городах, и хотя практически это в настоящий момент еще не является способом решить проблему, об этом следует сказать со всей прямотой, потому что возможность подобного решения всегда возникает в армии побежденных, если командиры этой армии загоняют своих солдат сверх человеческого терпения и солдаты эти вдруг поймут, что, убивая своих соседей, они лишь причиняют себе вред и что, желая досадить другому, они лишь туже, чем когда либо, затягивают на собственной шее невыносимое ярмо юнкерства и милитаризма Однако нет надежды на то, или как формулируют это наши собственные юнкера-помещики, нет опасности того, что наших солдат вдруг охватит подобная волна здравого смысла»
Как известно, ситуация, подобная описанной, действительно возникла на восточном фронте в 1917 году, результатом чего явилась русская революция, однако любопытно отметить, что Шоу указывал на ее возможность еще в 1914-м.
Шоу заявлял далее, что «милитаризм и юнкерство, которые, как утверждают, мы должны разрушить в Германии, существуют также в Англии и во всех остальных странах капиталистического мира». После этого заявления следовало, конечно, резкое разоблачение внешней и внутренней политики английского правительства.
«Милитаризм, – писал Шоу, – не следует рассматривать как болезнь, свойственную Пруссии. Он неистовствует в Англии; а во Франции он привел к убийству ее величайшего государственного деятеля (Жореса)».
Шоу вовсе не был подвержен так называемым «прогерманским настроениям»; он тоже хотел, чтобы Германия потерпела поражение. Однако он желал также многого, чего никак не могло желать английское правительство, например, создания Советов рабочих и солдатских депутатов. Или, например, радикальных изменений в английской экономической жизни, изменений столь существенных, что английская официальная пропаганда вряд ли смогла бы сказать, чего она боится больше – победы Германии или победы идей Шоу. В раскаленной обстановке войны Шоу подверг критике так много сторон английской политики и внутренней жизни, что официальная военная пропаганда немедленно принялась клеймить его, заявив, что памфлет Шоу является антипатриотическим и рассчитан на то, чтобы помочь врагу. А в такие времена с военной и государственной пропагандой шутки плохи.
Любопытно, что в заключение своего памфлета Шоу высказывал предостережение, прозвучавшее позднее, накануне второй мировой войны, с такой же актуальностью, как и накануне первой:
«Мы должны помнить, что, если эта война не положит конец войнам на Западе, наши сегодняшние враги могут завтра оказаться нашими союзниками, каковыми они и были вчера; и если мы добиваемся сейчас всего-навсего нового соотношения военной силы, то мы могли бы с таким же успехом вести переговоры о собственной погибели».
После опубликования этого памфлета Шоу во избежание беспорядков, а может, даже и суда линча пришлось надолго отказаться от публичных выступлений. Герберт Асквит, сын премьер-министра, выражая мнение многих собратьев-офицеров, заявил, что «этого человека следует пристрелить».
Разъяренная пресса призывала английскую публику бойкотировать пьесы Шоу, он получил по почте целую кучу угрожающих писем, и многие коллеги-писатели от него отвернулись. На одном из утренних спектаклей, устроенных с благотворительной целью, значительная часть актеров, участвовавших в представлении, отказалась сфотографироваться с ним рядом.
Однако большой поддержкой для Шоу явилось в те дни теплое и благодарное письмо от старого друга Кейра Харди, который из-за своих выступлений против правительства стал самой непопулярной фигурой в палате общин.
Харди умер в сентябре 1915 года, и Шоу написал длинный некролог, где противопоставлял его смелую, честную, истинно патриотическую позицию официальной линии лейбористской партии, выступавшей в защиту правительства.
Ведущие литераторы того времени резко нападали на Шоу за его памфлет. Уэллс сказал, что Шоу уподобился «бессмысленному ребенку, который хохочет в больнице»; Арнольд Беннет счел памфлет «несвоевременным» и постарался извлечь пользу из «своевременности»; Голсуорси назвал его проявлением «дурного вкуса»; Джозеф Конрад заявил, что «в вопросах жизни и смерти следует соблюдать некоторое достоинство».
В довершение Шоу был исключен из драматического клуба.
В 1915 году, отвечая литератору, который считал его выступление несвоевременным, Шоу писал:
«…хотя с той поры все тайное успело выплыть на поверхность, хотя «Таймс», «Морнинг пост» и все остальные в исступлении злобы визжат что есть мочи, раскрывая то, о чем я сказал так осторожно и вежливо, – вы имеете глупость утверждать, что это было несвоевременным. Вы правы. Было уже слишком поздно; я слишком долго молчал. Однако мне было трудно. Я не отваживался писать сгоряча. Мне пришлось трудиться несколько месяцев, собирая аргументы и доказательства; я правил и правил снова и давал читать людям, спрашивая их, не допускаю ли я несправедливости, не бью ли я ниже пояса, не отхожу ли от своих доказательств. Мне дурно становится от одного воспоминания об этом тяжком и нудном труде. Однако в конце концов я все же разрушил заговор трусливого молчания; я изложил наши претензии к Германии, и в этом моем обвинении не было никаких смехотворных и лицемерных выдумок».
На неистовый вой прессы Шоу ответил словами, полными сарказма:
«Этот бессердечный шут Бернард Шоу, который испытывает злобное удовольствие, отвлекая наше внимание от угрожающих нам нечеловеческих ужасов, который в лицо английским матерям, посылающим на фронт сыновей, смеется над безрукими и слепыми жертвами гуннов, пытается теперь подлизаться к сброду, требуя решительного разгрома наших врагов в своем памфлете, представляющем собой грубое подстрекательство против нашего союзника – царя. Куда смотрят власти? Почему эта обезьяна все еще на свободе?»
Война подходила к концу. Незадолго до ее окончания погиб сын миссис Кэмбл. Она написала об этом Шоу и получила ответ:
«…Бесполезно, я не могу выражать сочувствие. Когда случается подобное, я прихожу в ярость. Мне хочется ругаться: и я ругаюсь. Убит – только потому, что люди такие проклятые болваны. И капеллан туда же, говорит по этому поводу какие-то добренькие слова. Его дело не добренькие слова говорить по этому поводу, а кричать, что «кровь сына твоего взывает к престолу всевышнего». Конечно, пришлите мне письмо этого капеллана. Но я очень хотел бы сказать ему самому несколько добрых слов, этому милому капеллану, этому небесному поводырю…
Нет, не могу писать, Стелла. Потерпите неделю, и я снова стану очень разумным и терпимым и позабуду про этого капеллана. Я стану совсем такой же добренький, как он сам.
О, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт бы подрал все. И вы, о милая, милая, милая, милая, милая, самая милая!
Джи-Би-Эс».
Во время войны Шоу неизменно вступался за тех, кого преследовало английское правительство. Он писал многочисленные письма в защиту всех, кто отказывался воевать по политическим или религиозным убеждениям и кого посылали в тюрьмы за отказ вступить в вооруженные силы [25]25
В тюрьме сидел тогда и автор этой книги Э. Хьюз, (Прим. перев.)
[Закрыть]. Во время процесса ирландского патриота Роджера Кэйсмента, который был осужден и повешен за измену, Шоу написал для Кэйсмента защитительную речь, которой тот, впрочем, так и не воспользовался.
Война кончилась. А в 1917 году Шоу писал своему другу Хэррису, который эмигрировал в Америку:
«Дорогой Фрэнк Хэррис, добрые вести из России, правда? Не совсем то, что планировали все вояки, они повинны в этом не больше, чем Бисмарк в 1870 году был повинен в возникновении французской республики, но господь являет свою волю многими путями. И это, вероятно, не последний сюрприз, который он держит для нас за пазухой.
Ваш
Дж. Бернард Шоу».
Шоу написал длинный «Наказ мирной конференции», который, по его собственным словам, имел «примерно такое же влияние на происходившее в Версале, какое имеет жужжание лондонской мухи на размышления кита, плавающего в Баффиновом заливе». Победители, возбужденные победой, с энтузиазмом сеяли семена новой мировой войны, и предостережения Бернарда Шоу их мало интересовали.
Беседуя как-то с Шоу во время войны, Хескет Пирсон спросил его, над чем он работает:
«В свободные минуты, – сказал Шоу, – я работаю над пьесой в манере Чехова. Одна из лучших вещей, которые я писал когда-либо. Вы знаете пьесы Чехова? Вот это драматург! Человек, у которого совершеннейшее чувство театра. Он заставляет вас чувствовать себя новичком!»
Речь шла о пьесе «Дом, где разбиваются сердца», а ссылка на чеховскую драму содержалась даже в подзаголовке пьесы – «Фантазия в русском стиле на английские темы». Шоу одним из первых в Англии признал гений Чехова, как некогда одним из первых оценил гениального норвежца Ибсена.
В предисловии к пьесе Шоу объясняет название пьесы. «Дом, где разбиваются сердца» – это вся обленившаяся культурная Европа предвоенного периода.
«Русский драматург Чехов произвел четыре удивительных драматических исследования дома, где разбиваются сердца, из которых три – «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Чайка» – были поставлены в Англии. Толстой в «Плодах просвещения» провел нас по этому дому, показав нам его с величайшей яростью и презрением. Он не расходовал на него сочувствия; для него это был дом, где задыхалась душа Европы… Он лечил обитателей дома, как лечат при отравлении опиумом, когда пациента грубо хватают и трясут изо всей силы до тех пор, пока он окончательно не проснется. Чехов в большей степени фаталист, и у него нет веры, что эти очаровательные люди смогут выпутаться из своих затруднений. По его убеждению, они будут вконец разорены и пущены судебными исполнителями по миру; а потому он беззастенчиво эксплуатирует их обаяние и даже льстит им».
Шоу подробно останавливается в предисловии на характеристике сословия, которое вывел Чехов и к которому обратился теперь он сам:
«Пьесы Чехова, которые не были столь же доходны, как, скажем, качели или карусели, в Англии, где театр всего-навсего обычное коммерческое предприятие, выдержали не более двух-трех представлений в «Театральном обществе». Мы смотрели, широко раскрыв глаза, и говорили: «Как это по-русски!» Но у меня от этих пьес было совсем другое ощущение. Так же как поистине норвежские пьесы Ибсена с точностью приложимы для характеристики среднего класса или интеллигенции любого европейского пригорода, так и эти воистину русские пьесы применимы для характеристики всех усадебных домов в Европе, где люди наслаждаются музыкой, искусством, литературой и театром наряду с охотой, стрельбой, рыболовством, флиртом, едой и питьем. Те же милые люди, та же удивительная тщета! Эти милые люди умеют читать. Некоторые из них умеют писать; и они единственные хранители культуры, в силу своего социального положения имеющие возможность вступать в контакт с нашими политиками, администраторами, а также владельцами газет и тем самым имеющие хоть какую-то возможность влиять на их деятельность. Однако они сторонятся таких контактов. Они ненавидят политику. Они не горят нетерпением претворять в жизнь утопию для простого народа; они идут по ложному пути осуществления в собственной жизни своих любимых романов и стихов; а когда им предоставляется возможность, они без всяких угрызений совести живут на деньги, для получения которых они не приложили труда. Их женщины еще в девичестве стараются выглядеть как звезды варьете, а позднее вырабатывают в себе тип красоты, о котором мечтало предшествующее поколение художников. Они заняли то единственное в нашем обществе положение, в котором остается досуг для наслаждения высокой культурой, и создали в этом своем мире экономический, политический и в пределах допустимого также моральный вакуум, поскольку все это было для них пустым звуком; а так как природа не терпит пустоты, то в вакуум этот хлынули развлечения, секс и все виды утонченных удовольствий, так что в мирке этом можно было жить и наслаждаться в мгновения отдыха. Во все остальные мгновения там можно было погибнуть».
Впрочем, как ни выразительны и красноречивы предисловия Шоу, пьесы его еще красноречивей и выразительней, и потому обратимся к «Дому, где разбиваются сердца», одной из интереснейших его пьес.
Действие ее происходит в «доме, построенном наподобие старинного корабля с высокой кормой, вокруг которой идет галерея». Что это за корабль? Может, корабль тонущей Европы? А может, ковчег, где собрались представители отходящего мира? Хозяин дома – старый и очень странный человек, морской капитан Шотовер, отставной моряк, разоренный помещик, изобретатель, может быть, чуточку сумасшедший и чуточку алкоголик. Среди обитателей дома его дочь и зять, а гости в этом открытом доме – самые разные, от юной Элли, которая собралась замуж за дельца, до блудной дочери капитана, вдруг заглянувшей сюда после двадцатитрехлетнего отсутствия. Как водится в таких домах, здесь много говорят и влюбляются. И старый капитан Шотовер, тайком подкрепляясь ромом, то и дело изрекает мудрые парадоксы.
Трудно пересказывать такую пьесу; это отличное чтение. Мы предлагаем читателю несколько отрывков из нее.
Вот юная Элли советуется с капитаном, выходить ли ей за дельца Менгена:
« Элли.Как вы думаете, следует мне выйти замуж за мистера Менгена или нет?
Капитан Шотовер (не поднимая головы). Не все ли равно, о какой камень разбиться?
Элли.Кто из нас выиграет от этой сделки?
Капитан Шотовер.Вы. Эти люди просиживают весь день в своей конторе. Вам придется мириться с его присутствием только от обеда до завтрака; да и то большую часть этого времени вы оба проведете во сне. А на весь день вы будете от него избавлены: и будете делать всякие покупки на его деньги. Если и это для вас слишком много, выходите замуж за моряка; он будет докучать вам, вероятно, всего недели три в году.
Элли.Да, полагаю, это будет самое лучшее… А почему женщинам всегда нужны мужья других женщин?
Капитан Шотовер.А почему конокрады всегда предпочитают объезженную лошадь дикой?
Элли (усмехнувшись). Да, вероятно, так. Что за подлый свет!»
Дискуссия о замужестве Элли приводит их к модной и в то же время вечной теме – различию поколений:








