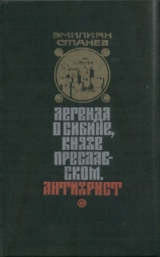
Текст книги " Легенда о Сибине, князе Преславском. Антихрист."
Автор книги: Эмилиян Станев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Я, ТЕОФИЛ – МОНАХ. СЫН ТОДОРА САМОХОДА. ЦАРСКОГО БОГОМАЗА, В МИРУ НАРЕЧЕННЫЙ ЭНЮ…
А
Нищие духом мудрецы взирают на Господа, восседающего на небесном престоле, лицеприятствуют и кадят в нос дьяволу молитвами и ладаном, дабы изгнать его из мира сего, а того не видят, что дьявол – в крови их, в ушах и душах. Но ты, окаянный, ведая, что слово человеческое бессильно, зачем вновь берешься за перо? Сумел ли кто посредством пера изъяснить самого себя или устроение мира?
Мало ли пергамента, бумаги и перьев извел ты, дабы благостными молитвами и ядовитыми шутками тешить людей на торжищах, ярмарках и стоялых дворах, а что получил в награду? Приумножил мудрость свою и угодил в пекло, ибо сказано – постигнув мир, унаследуешь и преисподнюю. Но велика животворящая сила человеческого воображения и непостижима тайна его. Каждому из нас предначертано приноровляться к божественному обману, в сем и состоит сила человеческая – как вынес бы человек земное свое существование, не носи он немеркнущий свет в душе своей?
Я нашел здесь искусно выделанные заячьи и овечьи кожи, чернила и множество разных перьев, кистей и красок, видимо, в келье сей обитал монах-переписчик, либо убитый, либо убежавший от агарян куда глаза глядят. В небольшом этом монастыре уцелело от пламени лишь одно крыло с тремя тесными кельями возле недостроенной башни. Есть тут и сало, но я не зажигаю светильника, чтобы свет не выдал меня.
От праздности и ещё оттого, что хочется мне забыть о лютой муке, пишу я житие своё. Желал бы я составить его без суетности, не щадя гордыни своей, однако – хоть благодаря умудренности житейской не страшусь и наиоткровеннейших признаний – всё равно не избежать толики лжи, пусть для того лишь, чтобы местами приукрасить повествование. Что поделаешь, коли сладостны душе воспоминания и умеет она подсластить и самые горькие из них… Ныне же, когда дьявол ради уничтожения христиан обратил мир в преисподнюю и затопил землю болгарскую бесчестьем и гибелью, одни лишь воспоминания и остались нам в утеху…
Я – сын Тодора Самохода, царского богомаза, и крещен был мирским именем Эню, а матушка моя, Прения, родом из Охрида. Дом наш стоял неподалеку от патриаршего, так что с того мгновения, когда я осознал себя в мире и воскликнул «Аз есмь», был я свидетелем многих событий и в царском дворце, и среди патриаршего клира, и события эти запомнились мне, хоть и не постигал я в ту пору их смысла. Да, Теофил, сердце твоё, коего ты недостоин, начинает колотиться при воспоминаниях о первых зорях твоего сознания, когда то ли дьявол, то ли сам Саваоф показывает нам мир через свет и тьму, через краски, оттенки и тайны естества, так что младенческая, ещё неискушенная душа пленяется его красою, а не разумеет, что тут-то и начинается путь в преисподнюю. Вечно буду помнить, как из оконца нашего дома в первый раз увидал я синюю дворцовую крышу с двумя прапорами, красные макушки башен, а за ними, на другом берегу Янтры, новые монастыри. День был солнечный, талый снег пенился и сверкал на синей черепице, а макушки сторожевых башен были похожи на островерхую куманскую шапочку, которую отец надевал, принимаясь писать иконы. И тогда, Теофил, узнал ты свет божий и возрадовался, должно быть, хлопал в ладоши, смеялся, лепетал что-то на своем младенческом языке, ибо и ты обрел себе место меж чудес мира. Как раз для самых великих явлений не находится у нас истинных слов ни в младенчестве, ни в зрелые годы, ни в старости, и то, что я видел тогда и вижу сегодня, остается тайною и поныне. В те дни стал я различать отцовские творения и связывать их с тем, что видели глаза мои, – с башнями, галереями, трапезными, с холмами и небом, лесами и реками. А позже светлый дух, нисходивший к Иисусу, и звезда Вифлеемская говорили мне о мгновениях, когда свет раскрыл врата души моей и повлек её к святости и чистоте. Полной чудес была та зима. Ненасытно взирал я из окна, как стаи ворон и черных, мохнато-крылых орлов кружат над церквами, дворцами и башнями, утром и вечером слушал звон клепал и рев Янтры, замирая от восторга, когда гудел патриарший колокол на вершине холма, где над звонницей сверкал огромный золотой крест. Был у нас в кухоньке небольшой котел, вмазанный в печь, и когда мать топила, вода в котле принималась шептать. Она шепчет, а я думаю о чём-нибудь, и она подтверждает каждую мою мысль и ребячью мечту, ободряет меня и возносит куда-то, где всё такое ясное, светлое и доброе либо же потешное, как гнойливая Фроси – убогая внучка важного болярина.
Я частенько прихварывал и ныне с умилением вспоминаю блик щербатого зимнего солнца над моей кроватью, а однажды, когда свирепствовала занесенная татарами черная смерть, в городе прошел слух, будто я помер. Как сейчас вижу перед собой алые женские туфли, расшитые полы далматик, златотканую епитрахиль дьякона. Я лежу на полу, на толстом ковре, дьякон читает надо мной молитву во здравие, а люди высятся подобно крепостным башням и так плотно обступают меня, что мне не видно потолка и перекладины с сучком, откуда ласково манят меня маленькие серафимы. Мне хотелось взлететь к ним, а женщины и дьякон мешали. Серафимы, то есть смерть, улетали прочь, и вместе с ними отлетал сладостный покой души, так что я до слез ненавидел всех, кто стоял подле меня. Эх, белый свет, в семя твое вложены грехи наши, младенцы носят их в своих жилах, ещё находясь в утробе матери, потому и плачут они по ночам, будто бы без причины, но кому ведомо, что видится им во снах их?
Подобную же душевную угнетенность испытал я и позже, когда в первый раз оказался с матерью за пределами Царева города и потом через задние ворота возвращался с нею по перекинутому над пропастью подъёмному мосту. После простора божьего ощутил я, маленький человечек, как сдавливают меня страшные зубчатые стены и башни, окованные железом ворота и высокие, узкие здания каменной громады, ощетинившиеся разноцветными кровлями и стенами, точно гигантская темница, в которую мы вместе с бесами заточены злым кудесником Сатаной. Я прижался к матери, вцепился в её руку, мне хотелось закричать и убежать прочь.
Когда я выздоровел, знатные госпожи, наши соседки, говорили, что Господь раздумал вознести меня к серафимам и что стану я либо великим подвижником, либо великим грешником, лишенным милости господней и ангелоподобия. Вышло второе и не от чего другого, а от любви моей к Всевышнему, коего возлюбил я так, что не испытывал более нужды ни в ком…
То ли из церкви, куда мы исправно ходили в многочисленные праздники, то ли из творений отца, образ Иисуса рано поселился во мне и пленил мой разум. И ныне, пытаясь постичь сие, я говорю себе: «От света это, от той тайны тайн, к которой прикасаемся мы, приходя в мир сей». И хотя всем видим свет этот, но видят его по-разному и потому по-разному восприемлют Бога. В незнании и от незнания рождаемся мы, но с томлением о Боге, и над чудом сим тщетно жег я ночами восковые и сальные свечи. А познав однажды Бога, начинаешь делить всё на добро и на зло, и мир и человек двоятся, так что под конец наяву является дьявол и мерцают уже огни преисподней, и они тоже светят, но зловещим светом.
Противится душа искушениям и соблазнам, пока есть в ней любовь и вера, но, осквернившись, ликует в своем осквернении вместо того, чтоб рыдать. Сатанаил ведет её по свету, раздирает её, влечет за собой, а она вырывается, как животное, которое гонят на бойню. Так полагаю я ныне, и смешным представляется мне человеческое странствие, отчего и в самой преисподней буду вспоминать о нём для утешения и насмешки…
Виделся мне тогда Спаситель в райских кущах прекрасным и бесплотным, точно майская заря в чистом небе, видел я его в снах моих и не дивился тому, что выстроено для него столько церквей, монастырей и скитов, что славословят его попы, дьяконы и патриархи и повергаются пред ним цари и боляре. А когда вглядывался в бородатые их лица и слушал голоса их, представлялись мне эти люди нечестивыми и грязными. Они кадили ладаном, возносили молитвы и отбивали поклоны Иисусу Христу из страха перед его чистотой и велелепием, но всё было тщетно, ибо не могли они спастись, будучи уже осуждены. Младенческая душа моя обладала всепроникающим взором – всё видела она, но не имела слов выразить увиденное. С первого взгляда угадывала лесть, лукавство, лицемерие по пляшущим в глазах огонькам, по движению губ, переливам голоса, смеху, и уже в самом раннем детстве испытывал я страх перед взрослыми. И сам Царев город величием своим напоминал мне о великом царствии божьем, а своими страшными башнями и зубчатыми стенами говорил о царстве Сатаны. Случалось, ночью будили меня звуки рогов, извещавших о смене стражи, и нависал над моим немощным разумом ужас неразрешимой тайны миробытия.

Я любил отцовскую комнату, пропитанную запахами красок, любил всех этих святых, прорисованных углем и красками, не оконченных ангелов с огненными крылами, изогнутыми наподобие татарских луков, и, конечно, Спасителя, коего отец изображал всегда русым, синеоким и с такой же рыжеватой бородой, как у царя Ивана-Александра. К Богородице и кое-кому из святых я не испытывал особого почтения, я считал их служителями Иисуса, вроде боляр, и ревновал к ним Господа. А пытаясь уяснить себе устроение царства божия, смешивал его с порядками Царева города, и разум мой путался в противоречиях. Ещё тогда уразумел, я, что люди неодинаковы: одни, к коим принадлежали и мы, ковали железо, копали землю, рисовали, таскали грузы и прочее, то есть совершали работу, приятную или неприятную, другие же – особы важные, вельможи, патриарх, царь, военачальники – не делали никакой работы, но жили в постоянной тревоге, боязни, недовольстве, взаимной слежке, так что я отождествлял их с дьяволами в аду. Так и выходило, что здесь, в Царевом городе, властелином был не Бог, а дьявол, и этого дьявола пытались прогнать молитвами, ладаном, елеем, свечами и литургиями, но он упорно не покидал своего места. В том, что это так, я убедился в самый праздник Пасхи… О слава тырновская и болгарская, слава минувшая, никогда более не суждено тебе наслаждаться величественными шествиями, что проходили той ночью!
Множество повторяющихся событий в природе и в жизни человеческой наблюдает глаз и запечатлевает разум, но лишь какое-то одно из них царит в твоей памяти, так что при слове Рождество ты представляешь себе лишь то Рождество, что пережил всего праздничнее, всё же прочие для тебя – как притоки большой реки. Так и я из всех пасхальных праздников запомнил одну Пасху – ту, когда младенческий разум мой уверился, что дьявол воистину угнездился в нашем богоспасаемом городе. И ещё кое-что, неподвластное разуму, понял я в ту ночь.
Во вторую стражу караульные на башнях и стенах зажигали лучину или смолу, и когда начинал бить патриарший колокол, разом отзывались отовсюду клепала – и с Трапезицы, и снизу, из посада; металл неистово гудел, заполняя долину Янтры точно стоустый дракон, повергая в страх и содрогание душу, укрощенную постом и молитвами. Ужас охватил меня в ту пасхальную ночь, и я зарыдал, ибо неистовый тот рёв прогонял дьявола и ради дьявола была поднята тревога, ради того, чтобы прогнать его и победить, как победил его Спаситель смертью своей. Я не умел объяснить родителям, чего страшусь и почему плачу вместо того, чтобы радоваться, но сам понимал и в младенческой душе своей затаил ощущение чего-то невидимого и страшного. И как при вражеском приступе, когда все выбегают из жилищ своих, так и теперь все с шумом и топотом спешили в церковь, громко скрипели и хлопали двери, а из-за реки, из Девина-города доносился собачий лай. Поскольку отец мой был царским богомазом, то мы ходили в царскую церковь, что возле дворца, или в патриаршию, где по великим праздникам выстаивали службу сам царь, великий примикюр, кастрофилакс, протокелиот, протовестиарий и прочие вельможи. Милость сия была дарована нам повелением самого Ивана-Александра, и каждое посещение церкви доставляло много хлопот моим родителям – следовало иметь приличное платье и прилично выглядеть в церкви, хотя нам были отведены на клиросе самые последние места.
По обе стороны двери, под каменной аркой, стояли на страже копьеносцы в шлемах, и я было успокоился. Сказал себе: «Не допустят они дьявола в церковь». Но сама церковь смутила меня, словно впервые увидал я её майоликовые плитки и мраморные колонны, залитые светом и сверканием, так что храм божий показался мне преисподнею и поглощающей душу пастью. Откуда пришло ко мне убеждение, что святость несовместима с торжественным шумом, роскошью, великолепием, с громогласными прославлениями? Что нестерпимо ей всё это? С неба ли, денно и нощно взиравшего на нас в каменной нашей темнице, всегда тихого и всеславного не украшениями, но невидимым и невещественным присутствием Бога? Либо же постижение простой сей истины пришло из смутных моих размышлений в каморке отца, мирно населенной святыми, ангелами и божьими угодниками, так что пышное убранство храма оскорбляло и Спасителя и меня? А может, приобщился я к сей истине в те часы, когда вода в котле своим шепотом подтверждала ребячьи мои мысли и мечтанья. Или вложена она в разум человеческий с целью отринуть всякое усердие к ложному величию и возжечь стремление к величию божественному?
Едва вступили мы в церковь, как я вновь пришел в отчаяние и подумал о том, что стража напрасно стоит снаружи, ибо дьявол уже проник в храм, обряженный в дорогие и блистающие одежды и, ослепив глаза людские, тем самым укрылся от них. А когда храм заполнился вельможами, и сам Иван-Александр прошествовал по алой дорожке рядом с венценосной еврейкой Саррой, окрещенной Теодорой, и со всеми своими домочадцами, и взревели иподьяконы, дьяконы и архимандриты, и ещё громче застенали колокол и клепала, я в смертном ужасе ухватился за жесткую руку отца. Страшным, несмотря на окружавшее его сияние, показался мне патриарх, бородатый, с запавшими глазами под мохнатым изломом бровей; страшен был он со своим позолоченным посохом и венцом, которые сближали его и с царем и с вельможами. Я смотрел уже не на патриарха и клир, а на Ивана-Александра и царицу, как благочинно стояли они – он перед троном, что рядом с троном патриарха, она – подле царя, оба в праздничных пурпурных мантиях. Златотканые воротники, короны, венчавшие их головы, сверкающие каменьями пояса вбирали и отражали разлитое в храме сияние, отделяя царскую чету ото всех иным, уже светским величием. Иван-Александр был левшой и в левой руке держал свернутую в свиток акакию [1]1
Древнехристианская рукопись об уважении христианства к государственной власти.
[Закрыть]. Сия горсть праха, напоминавшая о том, что он смертен, казалась мне унизительным знаком, навязанным ему бородатым, страшным патриархом, и я жалел царя, восхищенно впиваясь взглядом в крупное, румяное и доброзрачное лицо его. Но вот погасили свечи, и храм осветился лишь красным светом паникадил пред алтарем. И я подумал, что сейчас дьявол начнет свое действо. Жестокий страх обуял меня, в особенности, когда врата раскрылись и из них выступил патриарх в белом облачении с двусвечием и трисвечием в руках, – казалось, сам Сатана вышел из алтаря во всем своем величии. Ужасом отозвался в душе моей громоподобный возглас его: «Приидите принять свет неугасимый!» В голове мелькнуло: «Можно ли от свечи принять неугасимый свет, тот свет, что ведом лишь душе, что только душа различает? Зачем взрослые обманывают себя?» Но вот царь первый подступил и зажег свою свечу от светильника патриарха, за ним – потянулись его домочадцы и сановники. После всех зажгли свои свечи и мы, но не от патриарших светильников, а от свечи одного из дьяконов; вновь осветилась церковь, и шествие двинулось – впереди иподьяконы, дьяконы с крестами, хоругвями и фонарями, за ними патриарх, архиереи, царское семейство и вельможи. А ночь была тихая, апрельская, и здесь, в Царевом городе, дул легкий ветерок, приносивший запах молодой зелени, согретой земи и свежести, так что потрясенный и подавленный песнопениями, звоном колоколов и клепал, я всем существом своим отвернулся от этого шума и вслушался в сокровенную тишину мироздания. А когда процессия вышла в церковный двор и я заглянул за крепостную стену, тут невысокую, потому что стоит на скалах, дух мой замер от зрелища, открывшегося взору. Трапезица превратилась в гигантское тысячесвечие, отблески которого трепетали и качались в водах Янтры вместе с огнями Царева города, и с этой россыпью света возносились в апрельскую ночь молитвы тысяч человеческих душ. Когда патриарх возгласил «Христос воскресе!», торжественно загудел патриарший колокол, дав знак всем колоколам и клепалам, и они закачались, прославляя победу Спасителя над смертью – и тут и там, наверху и внизу, в Девине-городе и во всех часовнях, посвященных святым – хранителям крепостных ворог. Гул металла и людские потоки опоясывали храмы, точно ожерелья из сверкающих алмазов, а я, смущенный этим великолепием, перевел взгляд на тихий небесный покров надо мной и утешился мирным светом звезд. «Вот, – подумалось мне, – вот он, неугасимый свет, который люди приняли якобы от патриаршего двусвечия. Только он истинен и вечен», – и тем укрепил я тогда свой разум – сокровищницей мироздания, что всегда соприкасается с бесплотной душою человеческой. Так ли в точности это было, не знаю, как не знаю, были ли в точности такими тогдашние мысли мои, но, вспоминая ныне пережитое, пересказываю теперешними моими словами, ибо невозможно иначе. Вовек не забыть мне крохотных весенних звездочек той ночи – они стали мне опорой истины и они же повинны во всех моих злосчастьях. Кабы мог ты, человече, угадать, что же из всего сущего не превращается из блага во зло, а из зла во благо, я назвал бы тебя существом разумным!..
С песнопениями обошли мы вкруг патриаршей церкви, шествие опоясало её и уперлось головой в западные врата. Были те врата высокими, окованы железными бляхами точно щит великана, и над ними – образ воскресения Христова. Наступила такая тишина, что стало слышно потрескиванье свечей, и грянул властный голос патриарха. «Распахните, врата, верхи ваши, и растворитесь, двери вечные. Се грядет царь славы». «Кто сей царь славы?» – вопросил из-за врат другой голос, гулко прокатился по пустой церкви и заполнил её всю, до самого купола. Я подумал – вот он, дьявол, коего пытаются изгнать, он остался внутри, так я и знал. Патриарх изрек вторично, ещё более громогласно: «Растворитесь, двери вечные, се грядет царь славы!..» Дьявол же не желал впустить Господа. Тогда принялись колотить по вратам, навалились на них, вступили в схватку с дьяволом, грозно зазвенели цепи, и от адского громыханья и страшных кликов я чуть не лишился сознания. Наконец врата распахнулись, все ринулись внутрь, запели «Христос воскресе», стиснули и повлекли за собой меня, маленького человечка, растерянного и потрясенного до того, что даже плакать не мог. Взрослые принялись поздравлять друг друга словами «Воистину воскресе», целовали крест патриарха и икону воскресения господня. Патриарх раздавал благословения, дьяконы возглашали «Благослови, святой владыка». Подошел и нам черед целовать крест, отец приподнял меня, чтобы я дотянулся губами до холодного распятия. Я едва не закричал, оказавшись так близко к бородатому лицу патриарха, ибо пребывал в недоумении, кто же тот дьявол, что, противясь Господу, заложил цепями церковные врата. И запало мне в голову, что сам патриарх и есть тот дьявол.
Потом весь клир встал в середине храма и началась торжественная литургия, но дальше я уже ничего не помню. Печальный и задумчивый, я не выпускал горячей отцовской руки. Жаль мне было отца, что и он не видит Рогатого, не знает, где укрылся тот, и не сумеет успокоить мой разум.
От пламени свечей в церкви стало жарко, пахло растопленным воском, от яркого света лица словно бы раскрылись, и проступили на них все грехи, которые они прежде усердно таили, и страшно мне было смотреть на них. Я искал глазами матушку, рассматривал нарисованных ангелов. Всё угнетало меня, страшило, повергало в недоумение, а недоумение ведет к сомнениям…
Когда мы уходили из церкви, уже светало, мои утешительницы звезды гасли, и я сказал отцу:
– Так и не сумели они его выгнать!
– Кого? – спросил он.
– Дьявола. Он остался в церкви.
– Как это дьявол останется в церкви?
– Ты ведь слышал, он изнутри запер врата.
– Да нет, это так принято… Христос сошел во ад, дабы на три дня освободить грешников от мук.
Я умолк, но про себя подумал: «И отец тоже не понимает. Странно, как обманываются взрослые и как ловко укрывается дьявол. Но отчего сказали они «врата вечные»? Ежели то врата ада, зачем же они «вечные»?..»
Братья, кто из нас помнит, когда в раннем младенчестве нашем и на всю последующую жизнь зарождается в нас великое убеждение?
Б
Быть Может, по причине тогдашних моих немощей совершенствовались способности души моей, ибо когда отступает телесное, берет верх бессмертная душа, и двойственность, живущая в нас, исчезает. Признай, Теофил, что, если бы некий кудесник вернул тебя в младенческие твои годы, ты с превеликой бы радостью отдал нынешнюю мерзкую свою мудрость за ту прозорливость, что сверкала в тебе, как царь на престоле, и угадывала в земном естестве скрытую от глаз невещественность. И не только угадывала, но умела отделять телесное от бессмертного и вкушать пищу божественную.
Каждый день, можно сказать, молился я, имея или не имея поводом невинно совершенный грех, чаще всего в «божьей горенке», как называлась у нас иконописная отца. Там молитва моя изливалась всего вдохновеннее и без словесных преград, как льется в чистый сосуд светлый липовый мед. Я молил Господа простить мне моё прегрешение и помочь незамутненными очами лицезреть сокровищницу мироздания – премудрое творение его, дабы радоваться ей и черпать из нее новые радости; молил уберечь ясность внутреннего моего ока и благодарил за просветление и благочестие, что, как роза – благоуханием, наполняли мое сердце тихим восторгом.
Молитва есть чудо и таинство. Она отпирает двери души, ведя к глубинам её, и разум предстает там пред непостижимым и вечным, в ином мире, для коего язык наш не имеет достаточно слов, – мире беспространственном и страшном, по коему трудно идти, ибо телесный взор тут слеп, а разум лукавствует и плутает, как в темном лесу, сердце же обливается горестью и страданиями и, очищенное мукою, взыгрывает с новой силой, как дитя после купания. Молитвою достигается недоступное разуму знание, и под конец нисходит на тебя покой и радость от сего очищения. Но не ждите, братья, что сниму я покров с этой тайны и потребности человеческой! Свойственна она младенчески-чистым душам, навещает стоящих пред гробом и близка искусствам, ибо, как они, таит в себе ещё и безумие…
Кому молился я, чей образ рисовал себе? Конечно, Спасителя, ибо я любил только его. «Старый Бог», как отец называл Саваофа, казался мне дряхлым и недеятельным… Некогда создал он мир, но не сумел совладать с дьяволом и, дабы спасти нас от него, послал на землю своего сына. Однако же, несмотря на воскресение и пример, данный Христом, дьявол остался невредимым и непобежденным, он оседлал людей, делает их глупыми и злыми. Так рассуждал я в ту пору моей жизни, не сознавая того, что начинаю сомневаться в спасительном таинстве воплощения божьего, беспредельно отделяя Иисуса от Отца его и святой Троицы и всё больше уподобляя его человеку. Ибо не мог я представить себе два естества в одном, не мог постичь, как же сыну божьему не достает силы, чтобы стереть дьявола с лица земли. Зачем же было, спрашивал я себя, это истязание души человеческой, если Лукавый преспокойно царствует, как и прежде? Напрасно, значит, распят был Христос, неразумная и невинная жертва, которую Саваоф сам принес Сатане. И видно, Бог покинул его, если был он поруган и распят, невзирая на совершенство свое. А что Христос был покинут, он и сам сказал на кресте. Сия великая и жестокая несправедливость гневила меня и одновременно поощряла к ангельской чистоте, точно так же, как и сокровищница мироздания, сулившая мне красоту и добро. Помню апрельские и майские утра, когда видел я внизу, у реки, как искрятся капли росы на кустах и деревьях, как ласково журчат воды Янтры, как темнеют кудрявые леса, убранные цветами, напоенные благоуханиями, встречающие утро пеньем птиц и веселыми перекатами эха. Дремотно отраженные в реке, неподвижно лежали башни и высокие крепостные стены – они отдыхали, призрачные и волшебные, а в посаде иноземцев молодой венецианец пел свою песню и раздавался негромкий людской гомон. Как хотелось взметнуться, подобно орлу, в синий простор, но лишь посредством молитвы мог ты сделать это, ибо лишь на крыльях слова возносится душа ко всем мирам. Самые сильные, самые образные слова искал я в божественном роднике языка, дабы облечь в них мысли и чувства, и незаметно усовершенствовался в звучном, сладостно размеренном согласовании слов, в сравнениях духотворных и недухотворных явлений и предметов, то есть научился выражать невыразимое, а это подобно невыразимой тайне мироздания, которая, даже будучи высказана, не может быть разгадана.
В ту пору я уже учил «Учительное евангелие» в келийном училище хартофилакса, знал наизусть «Азбучную молитву» и «Пролог». Училище это предназначалось для царских и болярских отпрысков, я был принят в него по ходатайству высокопоставленных наших соседей и соседок, часто навещавших нас ради того, чтобы повидать меня и полюбоваться на мою пригожесть, потому что был я ребенком красивым, «прелестным отроком», как называли меня они. И посейчас помню ещё эти стихи из «Пролога»:
Вы, что ищете красоты души,
любите друг друга и радуйтесь;
вы, что жаждете отринуть грехи свои
и от тления мира сего избавиться,
дабы обрести жизнь райскую… –
и так далее.
В ту пору они потрясали меня, поскольку и я жаждал того же. И, пытаясь подражать великому Константину Преславскому, начал я слагать молитвы в стихах, чаще всего в «божьей горенке», но прятал написанное от родных и близких. Я упивался словами и образами, ими возжигал в душе своей свет и уродству придавал красивое обличье. Не привычкой, а высшей потребностью стало для меня это наслаждение прекрасным. С гордостью думал я: «Ангел Духа святого говорит в тебе, Эню, ликуй и славословь его», – а того не подозревал, сколько страданий и бедствий и горя будут посланы мне этим ангелом.
Ходила в келийное училище и вторая дочь Ивана-Александра. Она пожелала сесть подле меня, к неудовольствию учителя, дьякона Ангелария. Никогда более не встречал я такой благородной и нежной красоты. Не из плоти, из фарфоровой чистоты и благоуханной духовности была соткана эта царская дочь, и, когда она садилась подле меня, казалось мне, что и сам я становлюсь неземным, что вознесен я на седьмое небо. А улыбка её! Я назову её жемчужно-белой, как свежий снег, скажу, что цвела она на милом её личике, точно подснежник, и всё равно не сумею выразить словом прелесть её и воздействие на душу мою. Я сравнивал её с белым лучом луны на утренней заре – столь неземной была она и непостижимой. На щеках играли две ямочки, открывалась ровная нанизь зубов, и по лицу белым облачком расходилось сияние души её, наполняя мне сердце восторгом и силой. Мне не нравилось её имя (она была крещена по бабке, царевой матери), и я называл её про себя то Зорницей, то Денницей, неустанно подыскивал для неё новые имена и не мог найти подходящего. Она приходила утром в сопровождении великана Драговола, царского вестового, – когда он нагибался, чтобы пройти в дверь училища, в комнате становилось темно. Он клал на столик писало, мешочек с золотым песком и удалялся, отвесив ей низкий поклон. А я подкладывал ей под ноги красную подушечку, помогал высыпать песок в ящичек и ладонью разглаживал его. А однажды своим простым деревянным писалом начертал на нём:
Звезда Денница на небесах золотой пашет сохой,
царица Денница золотым писалом слова выводит.
Блаженны очи, взирающие на сии чудеса.
Она прочитала, зарделась, глянула на меня из-под ресниц и медленно, медленно стерла написанное. И сейчас вижу, как рука её, точно голубиное крыло, движется по золотому песку, будто сожалея о том, что надо уничтожить начертанное. Я же, испуганный своей дерзостью, обмер. С того дня полюбил я царскую дочь и о ней молился, о ней слагал молитвы, с трепетом и страхом уподоблял её царице небесной и сокровищнице мироздания, молил Христа уберечь душу её и красоту. Любовный восторг всего сильнее охватывал меня по вечерам, когда над Царевым городом всплывал медно-красный месяц и все взоры вперялись в него, глаза расширялись от мечтаний, а мечтанья выливались в молитву всего живого, в немой и громогласный хор! Печально звенели кузнечики, ласково баюкая тьму над зданиями и стенами, нагретыми летним зноем; молитвенно и протяжно квакали лягушки, мычала скотина, будто и ей хотелось вымолвить что-то, а в церквах и часовнях, точно светлячки, мерцали лампады. Я же глядел тогда на звезду Зорницу и думал о моей Зорнице, о том, какое у неё изглавие и царское ложе, на котором встречает она ночь, и о том, чтобы небесное светило ниспослало ей счастье и покой. В эти часы я слагал иные молитвы, более светские и любовные. Любовь придавала мне смелости, и я всё чаще дерзал чертать на моём простом либо на её золотом песке посвященные ей четверостишия. Вначале она смущалась, потом сама побуждала меня взглядом, а порой и словами. А как-то однажды сказала мне: «Эню, я принесла тебе отцовской венецианской бумаги, чтобы ты мне всё написал. Хочу прочесть дома, сама».
Я спрятал бумагу под платье и, возвратившись домой, принялся исписывать все пять принесенных листов, так как помнил свои стихи наизусть. Я вывел их красивыми буквами, чернилами и киноварью, украсил искусным узором, но от стеснения и осторожности ради отобрал из стихотворений те, где всего меньше было светского. Три дня трудился я, и все три дня Зорница нетерпеливо спрашивала, сколько я уже успел написать.
Пришел срок передать ей написанное. Чтобы не измять листы, я вложил их между двумя дощечками для книжных переплетов, которые нашел в отцовской иконописной, и спрятал за пазухой. Сказал ей: «Они здесь. Перед уходом отдам их тебе, но нельзя, чтобы их увидали дьякон Ангеларий и кир Драговол». Однако ж у отца Ангелария глаза были по-кошачьи зоркие. Он давно уж приметил, что происходит между нами. Как мне ясно теперь, этот редкозубый дьякон ревновал ко мне царскую дочь, хоть и смешно, чтобы взрослый мужчина ревновал к юнцу. Ревность эта, видимо, и для него самого была скрыта под обязанностью надзирать за дочерью царя. И когда я вознамерился передать ей стихи, он уже подстерегал меня, ибо заметил ранее и нетерпеливые взгляды Зорницы, и что платье на груди у меня топорщится. Он взял листы, бегло прочел и посмотрел на меня долгим, злым взглядом, который пронзил душу мою, точно жало, и впервые влил в нее яд ненависти, ибо душа человеческая не терпит посягательств на сокровенные свои тайны и свободу. Мне хотелось вырвать из его рук мои стихи, но я не посмел и стоял окаменелый и бледный. Тут Зорница изумила и восхитила меня. Она протянула свою белую ручку к дьякону, улыбнулась дивной своей, всепобеждающей улыбкой и нежно промолвила:






