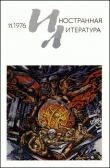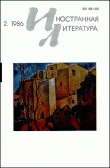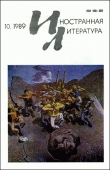Текст книги "Великое никогда"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Обед у Лизы кончился, и она повела Мадлену в спальню, где спал ее внучек. Полумрак, свежий воздух. Обе женщины склонились над кроваткой небесно-голубого цвета. Мальчик проснулся, в своей пижаме-комбинезоне он был похож на игрушечного космонавта. Сколько ему? Год, полтора?.. Он посмотрел на тетей, сел и улыбнулся. «Спи…» – сказала Лиза, и малыш улегся щекой на подушку, закрыл глаза и уснул… «Видишь? И никогда не кричит, ни болезней, ни капризов. Его мать уверяет, что это результат обезболивания родов. На нервы младенца в момент его появления на свет ничто не действовало, никто не кричал, все было спокойно, все улыбались… Жарко ему!» Лиза вытерла платком вспотевший лобик… Еще с минуту они глядели на спящего ребенка…
Жильбер, муж Лизы, и крестная пили кофе, удобно устроившись в гостиной. Крестную вы знаете, а с Жильбером встречались на похоронах Режиса, когда Жильбер так рыдал, что его нельзя было узнать. Когда же он сидит спокойно, первым делом вы замечаете ноздри – самую примечательную деталь во всем его облике. Ноздри у него были широко вырезанные, трепещущие, что называется, страстные. Глаза тусклые, типично рыбьи глаза, как тоже принято говорить. Ростом он ниже Лизы, волосы уже поредели, но еще очень черные, приглаженные, блестящие. Одет всегда с иголочки – прелестные галстуки из плотного шелка. Уже давно он бросил химию, научные исследования и возглавляет крупную фармацевтическую фирму. Муж, отец, дед, зять – и в качестве такового он балует родных, является к ним с нарядными свертками, перевязанными ленточками, или же посылает, приложив свою визитную карточку, роскошные цветы и конфеты. Мадлену всегда смущали эти чересчур выразительные ноздри, словно они трепетали в ее честь. Словом, человек чувствительный и ласковый. Настоящий южанин.
Жильбер, с чашкой кофе в руке, разговаривал с крестной и, казалось, был чем-то недоволен. Разве не прекрасно, что наконец-то великому человеку отдали должное, говорил Жильбер. Если так пойдет и дальше, то именем Режиса Лаланда назовут улицу и прибьют к дому, где он жил, мемориальную доску… В свете последних событий, его вполне могут ввести в Академию посмертно! Крестная с каменным лицом довольно резко возразила, что этого быть не может, и в доказательство добавила, что когда академик умирает, его заменяют живым. Жильбер согласился: «До сегодняшнего дня так оно и было, но я слышал, что…» Крестная прекратила спор. «Хватит, ты мне надоел!» – проворчала она. Мадлена решила их примирить:
– У тебя сказочный внук, Жильбер. В один прекрасный день он станет академиком, чтобы тебе угодить.
На Мадлене было вечернее платье с открытой до пояса спиной, очень короткое и к тому же плотно обтягивавшее фигуру; отсюда она поедет к мадам Верт, у которой должны собраться гости. Жильбер пришел в восторг.
– Ты на машине? А то я могу тебя подвезти.
– Спасибо, за мной заедут… Кстати, который час? Я сказала, что буду ждать у подъезда…
– Половина десятого… Почему у подъезда? За тобой Бернар заедет?
Лиза воздела руки к небу.
– Но, Жильбер, разве можно так отставать от жизни?
Фразу ее пропустили мимо ушей.
– Я сказала, чтобы заехали в одиннадцать, – Мадлена поочередно оглядела всех присутствующих. – Может быть, вы собираетесь ложиться? Я могу подождать в кафе на углу.
– Как тебе не совестно! Об этом и речи быть не может! Во-первых, мы не собираемся ложиться, не считай нас, пожалуйста, стариками, калеки мы, что ли? Если я дедушка, это вовсе не значит, что… Да и бываешь ты у нас так редко… Словам… Крестная говорила, что ты ездила на юг… Мы теперь о тебе ничего не знаем… С тех пор как нет Режиса, все так переменилось…
Да, она была в Ницце, но уже давно. Ужасно захотелось солнца. Вот как? Она им ничего о поездке не рассказывала. Но она не видела их с тех пор. Мадлена, которая лежала на диване, закинув руки за голову, и оттого казалась еще длиннее, спустила ноги на пол, села. Неужели она не рассказывала им о своей встрече с Женевьевой? «Как, ты была у Женевьевы? Да ты с ума сошла, она тебя ненавидит, ты же сама отлично знаешь!» – «Вообрази, я забыла… Просто подумала, что сейчас, когда с Режисом проделывают такие вещи, нам с ней неплохо было бы объединиться…» – «Мадлена, да что ты такое говоришь? Тебе объединиться с Женевьевой?! Она предпочтет объединиться с гремучей змеей, лишь бы та была против тебя!..» Они были, конечно, правы – свидание полностью подтвердило их правоту. Мадлене хотелось отстоять свою точку зрения, но это было бесполезно: Женевьева действительно перешла во вражеский лагерь… К ней уже приезжали, и она уже выступила с заявлениями относительно религиозности Режиса Лаланда, что главным образом и интересует всех этих его толкователей.
Они заговорили о Женевьеве. Отвратительная баба, все присутствующие сходились на этом. Все помнили ее появление в день свадьбы Режиса с Мадленой. Как тогда испугалась Лиза: а вдруг у нее револьвер! Или серная кислота – возьмет и плеснет в лицо Мадлене!.. Ведь Лиза была свидетельницей их семейных драм еще задолго до появления Мадлены, все это теперь дела давно минувших дней, о которых она и прежде предпочитала не рассказывать Мадлене. Но все это уже быльем поросло, стерлось после смерти Режиса. Режис слишком любил женщин. Попался он из-за ребенка – ничего не поделаешь, пришлось обвенчаться с Женевьевой. Все начали вспоминать, как это случилось, все подробности. Женевьева была сестрой одного из товарищей Режиса по университету. Так вот, когда он на ней женился, начался настоящий ад. Впрочем, Поль, тот самый университетский товарищ, предупреждал Режиса, что его сестрица настоящая стерва и что лучше сбежать на другой конец света; он гораздо больше любил Режиса, чем собственную сестру. Когда жизнь дома становилась невыносимой, Режис перебирался к Полю. Но, с другой стороны, надо понять и ее, Женевьеву: сначала беременность, потом ребенок, жить не на что, потому что Режис был еще студентом… Режис с Полем только и думали, как бы повеселиться, водили домой приятелей и девушек, устраивали пирушки, угощали гостей спагетти и сосисками, танцевали под проигрыватель, а потом начинались экзамены, приходилось зубрить с утра до ночи, и Режису было некогда, вечно было некогда… Женевьева, по свойствам своей натуры, не сумела войти в его жизнь, не любила веселиться, смеяться и по каждому поводу начинала хныкать. Развод! Что тут было!.. Но все-таки развода он добился. Прошли годы… Потом появилась Мадлена.
Мадлена ни разу не видела Поля, брата Женевьевы, и Режис не любил о нем говорить, впрочем, обо всем, что касалось его первого брака, он молчал. Один только старина Жан иногда упоминал имя Поля… Поль во время оккупации удрал в Америку и остался там. Вот кто бы мог многое порассказать о юности Режиса, поскольку сейчас начали собирать воспоминания о нашем великом человеке… Мадлена вздохнула. Она уже начиталась этих воспоминаний. Если авторы пишут, что глаза у Режиса были черные, тогда как на самом деле они были фаянсово-голубые, это ничего не меняет в его нравственном облике, тем паче что. есть люди, которые могут подтвердить, что глаза у него были голубые… Даже сама Женевьева вынуждена была бы это признать и согласиться с Мадленой. Но беда в том, что эти самые черные глаза распространяют буквально на все, пишут ложь, прямую ложь и искажают образ Режиса до неправдоподобия, до гротеска… Вы сами знаете, что Режис терпеть не мог философствовать, – а если и философствовал, так ради парадокса, для смеха, – что он ненавидел серьезные разговоры… Он предпочитал охотиться, удить рыбу, вкусно поесть, ухаживать и писать.
– Вот тут я с тобой не согласен, Мадлена. – Жильбер готов был все отрицать. – Я сам охотился с Режисом, не раз ездил с ним на рыбалку…
– Плотно обедал и ухаживал за дамами;—добавила Лиза.
– Ну как ты можешь так говорить, дорогая? Итак… да… и мне не раз доводилось вести с ним длинные серьезные разговоры…
– Странно, Жильбер… Он тебя, должно быть, разыгрывал.
Жильбер надулся. За дурака его, что ли, принимает Мадлена? Она видела Режиса со своей, чисто женской, точки зрения… Мужчина не говорит с женой о вещах, которые выходят за рамки ее понимания, он дарит ей любовь, нежность, но говорит он с мужчинами.
Мадлена поднялась с дивана: они совсем заболтались, одиннадцать часов, ее, должно быть, уже ждут.
Да, ее ждали… На улице было пустынно, спокойно, а черная неподвижная машина казалась таинственной, заговорщической. Шофер открыл дверцу, захлопнул ее, быстро обошел машину, сел за руль, отъехал от подъезда. Неужели она прожила целых десять лет бок о бок с Режисом, не зная его?
Поди-ка разберись… Автор создает героя, он знает его насквозь, ведь автор сам дал ему все: глаза, душу, поступки, биографию. Потом являются читатели и утверждают, что автор ничего не понимает, что смысл речей героя иной, чем он думает, и совсем иначе объясняются его чувства, мысли, намерения. Для одних – это герой положительный, для других – отрицательный… Разве не то же происходит и с живыми людьми, но лучше не спорить с автором, когда дело идет о намерениях его героя, о его поступках, о том, лжет он или говорит правду, изменяет он жене или нет… Автор рисует человека, душа которого изранена войной, а о нем говорят: «Тунеядец!» Вы показываете читателю непорочного Парсифаля, не ведающего добра и зла, которому все женщины сами бросаются на шею, а его принимают за гуляку, за сутенера, «странника по любви». В реальной жизни, впрочем, происходит то же самое. Люди всегда понимают все вкривь и вкось. Однако должен же кто-то быть прав. Но к чему автору быть правым, раз ему не удается убедить читателя смотреть на вещи его, автора, глазами?
Приведу вам удивительный пример разрыва между намерениями писателя, между тем, что он хотел сказать, и тем, как его поняли… В докладе, сделанном в Венеции для участников Круглого стола историков кино, Жорж Садуль приводит следующий факт:
«Немецкий сценарист и драматург Фридрих Вольф, политический эмигрант, после 1933 года переселившийся в СССР, написал там в 1934 году пьесу „Профессор Мамлок“, по которой был поставлен антифашистский фильм, пользовавшийся большим успехом. В 1941 году, во время боев под Москвой, Фридрих Вольф отправился на фронт в качестве военного корреспондента. Однажды он отстал от своей части, и когда русский патруль, посчитавший подозрительным появление явно немецкого журналиста на передовой, стал выяснять его личность, Фридрих Вольф сказал, что он автор сценария „Профессора Мамлока“. Его попросили рассказать содержание фильма. Так вот, рассказ его не совпал с воспоминаниями тех, кто его сейчас слушал, и пришлось иным путем доказывать, что Фридрих Вольф не гитлеровский шпион, сброшенный с парашютом».
Тот факт, что в данном, вполне конкретном случае память могла изменить и слушателям и рассказчику и еще увеличить разрыв между версией автора и версией зрителей, лишний раз подтверждает, что нам, писателям, не только не удается быть правильно понятыми, но что все свидетели, по сути дела, – лжесвидетели… Режис, очевидно, был прав: исторической правды не существует, о несчастные историки кино!
Но как, скажите, как прикажете писать Историю, если каждый рассказывает любое пережитое им событие по-своему… Недавно мне попались под руку два рассказа об одном и том же вечере, на котором я сама присутствовала. Один из рассказов принадлежит Арагону (версия № I), вы найдете его в «Вышло из печати», которое он написал для «Кармен всех Кармен» Пикассо:
«Гении так же, как и океанские пароходы, не созданы для взаимных встреч. Я присутствовал при забавной коллизии этого жанра, при встрече Пикассо и Чарли Чаплина. Все это „состряпал“ Вова Познер. Мы с Эльзой и супруги Познер привезли Пикассо в отель „Риц“. О том, чтобы пойти куда-то пообедать, не могло быть и речи: фотографы и господа из префектуры следовали бы за нами по пятам. Поэтому мы поели, что бог послал, прямо в номере. Любопытно было видеть рядом этих двух людей, физически и морально одного масштаба, которые из-за невозможности объясниться лишь улыбались друг другу. Когда стража при Лувре решила, что Шарло уже спит, то есть примерно в половине первого, в час ночи, мы прервали пирушку: надо же было показать #Уне Париж. Посмотрели бы вы на нас этой безлунной ночью в роли гидов агентства Кука, где-то на улице #Сегье или Жиле-Кёр… Оттуда мы поднялись без помощи техники в мастерскую на улице Великих Августинцев, где, уж не знаю почему, в этот вечер не горело электричество, и Чарли Чаплин твердил жене, чтобы она внимательнее смотрела себе под ноги, ибо она в простоте душевной натыкалась на миллионы долларов, прислоненных навалом к стене. Так или иначе, оба наши гения чувствовали себя чертовски неловко. И мне тоже было неловко: я всегда ненавидел исторические минуты».
А вот другой рассказ, Чарли Чаплина (версия № 2):
«Перед моим отъездом из Парижа в Рим Луи Арагон, поэт и главный редактор „Леттр франсез“, позвонил мне и сказал, что Жан-Поль Сартр и Пикассо хотели бы со мной встретиться, и я пригласил их к себе на обед. Они предпочитали встретиться в спокойном месте, и мы пообедали у меня в номере…
…Я не представлял себе, как пройдет этот вечер. Говорил по-английски только Арагон, а говорить через переводчика – это все равно что стрелять по отдаленной цели и ждать результатов.
У Арагона красивое, с четкими чертами, лицо. У Пикассо вид насмешливый, заметно, что это человек с чувством юмора, его скорее можно принять за акробата или клоуна, чем за художника. У Сартра круглое лицо, и хотя каждая черта в отдельности не выдержала бы подробного разбора, все в совокупности не лишено какой-то утонченной красоты и известной выразительности. Сартр как будто не был склонен делиться с нами своими мыслями. Вечером, когда обед кончился, Пикассо повел нас на Левый берег в свою мастерскую, где он еще работает.
….С гвоздя, вбитого в потолочную балку, свисала на шнуре электрическая лампочка, и в свете ее мы разглядели старую расшатанную кровать и развалившуюся печку…»
Если Чарли Чаплин виделся с Сартром во время своего пребывания в Париже в пятьдесят втором или в пятьдесят третьем году, то только не в описанный вечер. В тот вечер с нами были Познер и его жена. Есть что-то непередаваемо комичное в описании наружности Сартра, который, очевидно, не Сартр, а Познер, Сартра, «который не был склонен делиться с нами своими мыслями», ибо в тот вечер несомненно был в другом месте, только не здесь. Что касается Познера и его жены, которые затеяли эту встречу, – они прекрасно знали Чаплина еще по Америке, где прожили все годы оккупации, и оба говорят по-английски.
Чаплин спутал либо два вечера, либо двух человек. Вот так кто-нибудь напишет небылицу, намеренно или по ошибке, оттого что забыл или перепутал, и ее начнут повторять, и до того доповторяются, что она укоренится у всех в голове. Так, например, верно ли предание, по которому царь Александр I был жив, когда Россию оповестили, что он «почил в бозе», тогда как на самом деле он якобы скрылся и стал странником? Считалось, что вся эта история – одна из выдумок, на которую так падки люди, а если верить слухам, легенда обернулась исторической правдой: недавно вскрыли могилу Александра I и не обнаружили в гробу ничего, ровно ничего… В этом гробу никогда не было покойника…
Историческая правда… Можно без конца размышлять на тему об исторической правде… Можно также делиться своими размышлениями, приватными или гражданственными, даже стараться приврать, чтобы тебя лучше поняли, – это все равно как говорить с читателем на языке, который он понимает только наполовину или понимает неверно. А дело в том, что люди бывают разные: то, что для одних – чувство братской дружбы, другим кажется ненавистью, и даже по поводу антираковой сыворотки, мы видим, что одни клянут шарлатана, а другие клянут тех, кто мешает чуду исцеления… для одних мать, которая сокращает жизнь своему ребенку-калеке, – преступница, а для других она несчастная женщина, выполняющая свой страшный долг.
Мадлена задыхалась от горя… Сомнения. Неужели она споткнется об эти глупые слова этого глупого Жильбера, потеряет равновесие?.. «Но говорил он с мужчинами…» А что, если это правда? А что, если она заблуждалась? Что, если Режис вовсе не был таким, каким она себе его представляла? Что, если он был верующим? И никогда ее не любил? А что, если их жизнь была ему в тягость? Может быть, он в конце концов возненавидел ее? Когда люди живут вместе, они находятся так близко друг от друга, что перестают ясно видеть! Возможно, он мучился не физически, а… Единственно бесспорно то, что жить ему надоело. Ну, а причины? Горе взбухало, взбухало… Нет сил терпеть! Открыть дверцу машины и выскочить!.. Она бы и выскочила, ничего бы с ней не случилось, только шофер бы удивился. Впрочем, они уже доехали.
XI. Гиацинты
Когда юноша приходит к пожилому, знаменитому человеку, которым он к тому же восхищается, встреча эта – факт биографии юноши, а не великого человека. Когда потом напишут биографию великого, никому и в голову не придет упомянуть о существовании юноши. В биографии упоминают лишь то, что определяет самого человека и его судьбу. Несчастная любовь к красавице с хвостом поклонников определит судьбу отвергнутого ею человека, а не красавицы, которую он любил. И никто не узнает, что именно благоухание гиацинтов теплой весенней ночью породило песню, которая теперь у всех на устах. Никто, распевая эту песню, не помянет добрым словом гиацинты. Лишь тот, кто создал эту песню, смутно догадывается, что благоухание гиацинтов повлияло на его судьбу, что они – факт его биографии. Биография, если она автобиография, обязана быть правдивой, но кто же решится показать себя, отбросив всякое кокетство, не глядясь в зеркало? Один гримируется под Дон-Жуана, другой – под бандита, третий украшает себя пороками, недугами, тот играет героя, тот мученика… Автобиография вводит в заблуждение еще более искусно и еще более ловко, нежели биография, именуемая романом. И там и тут герой сам выбирает себе судьбу. Подобно шахматисту, ему приходится оценивать сложившуюся ситуацию и затем делать следующий ход, но, в отличие от шахматной партии, в жизни всего не учтешь. Хочешь или нет, все равно живешь по воле судеб, и люди, умеющие лавировать, приводят меня в изумление. Сколько надо ловкости, гибкости, цинизма, чтобы превратить неправильный ход в ход правильный, в ход выигрышный…
То обстоятельство, что Мадлена отказала Бернару и перестала пускать его к себе, стало фактом его биографии. Она прогнала его без долгих размышлений, не делая из этого драмы. Выйти замуж почти в двадцать восемь лет за двадцатитрехлетнего мальчишку… А так как он настаивал, грозил, что, если она не согласится выйти за него, они никогда больше не увидятся, она поймала его на слове: ну и слава богу. Какое облегчение – не слушать больше домыслов Бернара о Режисе и его творчестве.
Бернар продолжал все с тем же пылом заниматься Режисом. Это стало смыслом его существования: кружок по изучению творчества Режиса Лаланда начал выпускать ежемесячный журнал и добился на радио регулярных передач о Лаланде. Бернар, уязвленный в самое сердце, исполненный горечи и мстительных планов, уже не считался больше с мнением Мадлены о Режисе и делал все ей наперекор. Ездил в Ниццу, где встречался с Женевьевой. Тут он пришелся ко двору. Достаточно ему было сказать несколько слов о Мадлене, чтобы его приняли как своего.
Каролина, дочь Режиса, его поджидала… Только не воображайте, что я нарочно выдумала Каролину, чтобы выдать ее за Бернара; не скрою, это могло бы случиться, они были вполне подходящая пара, но получилось это случайно. Итак, Каролина ждала прихода Бернара, она была дочерью Режиса и чем-то напоминала Арлетту… Помните: Арлетту, студентку, с которой так хорошо ладил Бернар до встречи с Мадленой? Арлетта бросила учение, она жила лишь войной в Алжире, французском Алжире… Исчезла где-то в Испании. Взгляд Каролины напомнил Бернару взгляд Арлетты – черные глаза под высоким, не выпуклым лбом. У Мадлены лоб был выпуклый. Каролина была ниже Арлетты и даже ниже Мадлены, а Мадлена ведь совсем маленькая!
С Мадленой вечно приходилось что-нибудь есть или пить. А здесь можно было поговорить спокойно, серьезно, можно было забыть лазурь за окном, море, пальмы, гуляющих, музыку, рулетку, цветочный рынок, засахаренные фрукты, девичий загар… Швейная машина переставала стучать своей никелированной ножкой… Женевьева откладывала в сторону простроченный кусок материи, вставляла новый… Говорили о Режисе. Бернар для этого сюда и приехал. Он расспрашивал добросовестно и настойчиво, как репортер. Он не спешил. Неделя шла за неделей…
– Лучше все-таки ввести вас в курс дела, – сказала ему как-то Женевьева. – Теперь, когда я с вами познакомилась ближе, я вам доверяю. Я не решалась сказать вам это из-за той женщины – она замужем. У Режиса была любовница.
Любовница у Режиса? Бернар был поражен, и сразу из головы у него вылетело все прочее – творчество, бог, смерть… Режис изменял Мадлене? У него даже в животе оборвалось… Он поглядел на голую ногу Каролины, подрагивавшую в полуметре от него, и вдруг нога эта, покрытая черным пушком, показалась ему ужасно противной. Другая женщина? Кто же она? Да у него просто времени бы не хватило! Другая женщина! Нет, немыслимо!
– Немыслимо?
Женевьева обошла швейную машинку, села напротив Бернара, нагнулась вперед. Она всегда принимала эту позу, когда собиралась поведать собеседнику самое важное, самое главное:
– Я знаю это точно. Из первых рук. От самой этой женщины. Она ко мне приходила.
– Но она, возможно, выдумывает! Лжет… Или она сумасшедшая!
– Ничего она не выдумывает! Есть детали, которые не могут обмануть… Я была его женой, я знаю…
Какая жара! Бернар с удовольствием снял бы пиджак, выпил бы чего-нибудь холодного, хотя бы простой воды, но он не смел попросить…
– Кто она? – осведомился он.
– Вот этого я вам никогда не скажу… Замужняя женщина…
– Это не та сумасшедшая, которая…
– Она не сумасшедшая. Это Режис по ней с ума сходил. Вот уж никогда не понимала его вкусов.
– Позвольте, когда же это было? Режис так долго болел… А какого рода эта женщина?
Вполне порядочная. Когда Режис слег, он с ней не виделся и от этого окончательно расхворался. Она писала ему каждый день. Но ведь не обнаружено ни одного письма такого содержания!.. Ясно, Режис их сжигал по мере поступления, но ее письма были для него единственным утешением в жизни, только они поддерживали его в муках. Бог и любовь этой женщины. Ради нее, чтобы ее увидеть, несчастный страстно хотел выздороветь. Не беспокойтесь, Мадлена тоже, как и все жены, «ходила в дурах». Слово «в дурах» противно проскрипело, от него разило чесноком, и потому оно никак не могло относиться к Мадлене. Каролина слушала со страстным вниманием. Не выдержав, Бернар попросил разрешения снять пиджак. Пожалуйста, сейчас это в моде, если, конечно, он ограничится пиджаком и не разденется догола. Кровь бросилась Бернару в голову… Каролине неплохо было бы сходить к педикюрше. Обе они, и мать, и дочь, какие-то ужасно неухоженные. Кто, интересно, их знакомые? Женевьева, эта праведница, иной раз могла быть на редкость вульгарной… Иной раз она вставляла в разговор такие словечки, такие высказывала мысли, которые совсем не вязались с ее обликом.
– То, что вы сказали, меняет мое представление о Режисе, – проговорил он. – Это чудовищно.
На мгновение Женевьева словно смутилась. Взглянула на Каролину.
– Я же тебе говорила, мама, не надо было…
На глазах у Каролины выступили слезы. Бернар вытер потный лоб, руки.
– Ах, я уже не знаю, что и думать… Значит, Мадлена была права… Все, что я думал о Режисе, – ложь. Если он мог обманывать Мадлену, он мог обманывать и нас, своих учеников… Мадлена говорит…
– Что Мадлена говорит? – крикнула Женевьева. – Эта женщина никогда его не любила! А если не любишь человека, значит, его не знаешь!
Они были в неравном положении: свежая и чистая рана Бернара кровоточила, но она не была заражена микробами, как гнойные язвы Женевьевы, которая ходила с ними вот уже двадцать лет, нарочно их расчесывала… В течение десяти лет она ненавидела Мадлену, всех женщин и жила с непереносимым зудом злобы, поддерживаемая лишь страданием, опьянялась им, в нем погрязла. Каролина знала свою мать только такой, только в состоянии трагического ожесточения, в каком пребывает человек во время скандала, ссоры, получив или дав пощечину… Покупала ли мать рыбу, стирала ли белье, шила ли на машинке, она всегда была чем-то оскорблена, кипела ненавистью. Поэтому Каролина жила с мыслью, что матери ее нанесли неслыханную обиду… Они были в неравном положении, Бернар и эти две женщины: для них – ни тени сомнения, для него – все под сомнением. Перевес был явно на их стороне: Бернар поверил в существование той, другой женщины в жизни Режиса, поверил, что Мадлена это знала и этим не интересовалась, не огорчалась, не ревновала, не мучилась. Мадлена была неуязвима. Чудовище. Колдунья. Однако им не удалось убедить Бернара, что Мадлена убила мужа из мести, – он слишком хорошо знал все подробности болезни Режиса, отец Бернара сам его оперировал. Нет, Режису все равно оставалось прожить всего несколько месяцев… Самоубийство положило конец его страданиям. Самоубийство? Всем известно, что Мадлена #егх> отравила, это не самоубийство, а убийство. Никогда Режис, добрый католик, не наложил бы на себя рук. Тут Бернар уперся. Режис не был «добрым католиком», его богоискательство вовсе не значит, что он был «добрым католиком». Бернар надел пиджак. Он обезумел от ярости и уже направился было к двери, как вдруг услышал рыдания Каролины.
– Вот видите, что вы натворили!
Женевьева с трагическим видом побежала за стаканом воды. Но Бернар тоже ожесточился: что он такое сделал? Ничего не сделал.
Он стоял и глядел на плачущую Каролину.
Ушел он не сразу, и разоблачения Женевьевы вошли в биографию Режиса, которую впоследствии написал Бернар и на которую все ссылались.
XII. Кто же вы, Режис Лаланд?
Мадлена неподвижно лежала на широком смертном ложе Режиса. В спальне было темно. За окном, задернутым плотными занавесями, бился шум огня и ветра – ночной Париж. Теперь Мадлена спала в спальне, а диван в кабинетике забросила окончательно. Но из всей спальни она пользовалась только кроватью: здесь все было неизменно, все стояло на прежних местах; даже не сдвинули стульев, даже не убрали книг с ночного столика – последние, которые читал Режис, – а в стенном шкафу по-прежнему висели его костюмы, галстуки, лежало его белье… Стирая пыль, Мари ничего не переставляла. Мадлена проскальзывала в постель, как в конверт, такая легкая, что даже простыни не мялись под ней.
Каждый вечер она шла на свидание с бессонницей, борясь с нею один на один, ничем не прикрытая. Сбросив на пороге спальни отрепья дня, Мадлена оказывалась лицом к лицу с самой собой. Была ли бессонница следствием всего того, что Мадлене хотелось сказать себе, или это желание объясниться с собой приходило из-за бессонницы? Ей не удавалось приглушить мотор, жужжавший в голове, она не могла обнаружить выключатель и не так уж была уверена, что хочет его обнаружить. Бессонница была наркотиком Мадлены, а также контактом, присоединявшим ее ко вселенной. Мадлена становилась «приемником» и одновременно источником тока, включалась во всеобщую сеть. Превращалась в одно из слов песни, из которой нельзя выкинуть ни слова, не нарушив смысла, не оборвав мелодии. Мадлена была одним из слов, необходимых, как и все прочие, в мировом порядке, в непрерывной мелодии, и находила в этом известное удовлетворение.
Но как жить без сна? Днем ее отвлекали обои, она оживала на трапеции, но бывали вечера, когда она буквально валилась с ног от усталости. Тело ее словно лишалось костей, гнулось, скручивалось, глаза были как темно-лиловые анютины глазки с черной сердцевинкой. Надо было, надо было спать любой ценой, но она не решалась прибегнуть к снотворному, подобно тому, как другие не решаются к нему не прибегать. Лучше уж эти провалы черной усталости, острое возбуждение, чем искусственная одурь, искусственная потеря сознания. Поддаться, добровольно пойти на уничтожение, которого не миновать, как смерти под скользящим ножом гильотины, – нет, она не могла на это решиться, это возмущало ее, унижало.
Неподвижно лежа в темноте, Мадлена думала об анонимном письме; в нем сообщалось, что Режис в течение долгих лет состоял в связи с женщиной. Мадлена ни на минуту не поверила. Зачем Режис стал бы обманывать ее, она сама десятки раз ему говорила: «Займись ты какой-нибудь женщиной, женщинами, как в былые времена»… Этот совет оскорблял его сильнее и горше, чем он показывал. «Прелестная колдунья, – отвечал он, – не строй из себя сводницы, не подливай мне зелья. Нет такой женщины, которую мне было бы любо полюбить. Кроме тебя. А тебя я уже люблю». Зелье… В свое время в Вильнев-лез-Авиньон одна женщина готовила из трав зелье, подливала его в духи… Старуха исчезла, отравленный ею человек умер, а Мадлене не спалось. Ее личный опыт счастливой любви был так недолог. Режис, который отказывался полюбить ее, тогда еще девочку, защищался, уклонялся, отталкивал ее… Ослепительная вспышка – и уже она его разлюбила… А потом был Бернар, который тоже не хотел ее любить… Вспышка… И вот уже она не любит его. Проснулась как-то утром с таким ощущением, будто на дворе другое время года.
Сперва это письмо ее только удивило: кто же хочет ей зла? Ответ ясен: конечно Женевьева. Но тут ее взяло сомнение: а что, если это правда? А что, если это не Женевьева? Тогда кто же? Ее мучило любопытство… Такое чувство, как будто тебя обокрали в собственном доме и ты не смеешь никого подозревать и подозреваешь всех – словом, что-то возмутительно мерзкое. Только бы знать! Подозревать – это пытка. Мадлена перебрала мысленно всех знакомых женщин… Даже мадам Верт вспомнила… А почему бы и нет? В ней чувствовался шик, и она была из «шустрых». Режис делил женщин на «шустрых» и на «сонь» и любил только «шустрых». Импульсивных, идущих напролом, ставящих в тупик. Он любил в женщине живость. Режис так любил женщин, что был способен переспать с собственной сестрой, и Мадлена без малейшего стеснения представила себе Режиса с Лизой, но ничего не получилось. Впрочем, Лиза как раз была «соня». Большая сонная кобыла.
В анонимном письме было слово «зелье»… В той фразе, где говорилось об отравительнице. Все-таки так написать могла только Женевьева. Чересчур длинная подпись гласила: «Та, кого он любил до последнего дыхания». Было в письме и слово «колдунья»… Бернар виделся в Ницце с Женевьевой. Мадлена узнала об этом из бюллетеня, выпускаемого кружком по изучению… но у Бернара было в высшей степени развито чувство чести, он принадлежал к «старой Франции» и поступил бы правильно, если бы женился на Арлетте. Анонимное письмо – и он… нет, невозможно. Чтобы перевернуть все в чужой судьбе, не было другой такой, как она, то есть такой, как Мадлена, – Мадлена почувствовала себя если не виноватой, то, во всяком случае, растерянной… Она распоряжалась людьми беспардонно. «Беспардонная…» – так о ней говорил Режис. А что это, в сущности, значит? Когда рассветет, она посмотрит в словаре Ларусса. Самое лучшее, это отправиться к мадам Верт и «беспардонно» бросить обои и фирму… У Режиса была мания употреблять слова в их точном значении. Бросить обои… Под закрытыми веками Мадлены двигалась толпа, все люди в одном измерении, как нарисованные. Режис сидел в постели, опершись на подушки, и плакал… «Убей меня, Мадлена, убей меня!» Мадлена спала, но не знала, что спит. Она держала в своей руке руку Режиса и плакала вместе с ним. У него не было одной ноги… Она проснулась! А как он раньше бегал… Лазил по скалам среди сосен. Ей приснилось, что ему ампутировали ногу и что она полюбила Бернара. Гордиться тут нечем. «Лэн, ведь ты ничего не боишься! Убей меня, убей!»